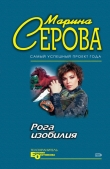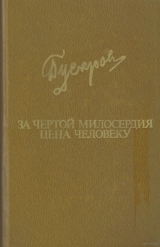
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 46 страниц)
Она поняла, что не успокоится до тех пор, пока не узнает, был ли кто за окном или ей это показалось.
Лена взяла лампу и решительно направилась к двери. Тяжелая, обитая снаружи старым войлоком дверь со скрипом отворилась, свет лампы задрожал на нетесаных стенах сеней. Лена огляделась и открыла дверь на крыльцо. Из темноты выступили мокрые перильца с развешанными на них половиками, сбегающие влево ступеньки, и все вдруг пропало: лампа ярко, до самого верха стекла, вспыхнула красноватым пламенем и погасла.
В ту же секунду Лена услышала удаляющиеся шаги.
– Кто там? – крикнула она, испугавшись скорее внезапной темноты, чем этих хлюпающих по грязи шагов.
Шаги смолкли.
– Кто там? – дрожащим голосом повторила Лена. Она уже начала кое-что различать в темноте, но мешали огни поселка на другом берегу залива. Они тянулись ровной редкой цепочкой и били прямо в глаза.
Никто не отвечал. Лена уже решила захлопнуть дверь и наложить на нее засов, как вдруг на фойе смутно серевшего озера увидела человека. Он стоял на тропе вполоборота к дому, как будто желая и не решаясь отозваться на оклик.
– Живет ли здесь Ефросинья Кочетыгова? – хрипло спросил незнакомец, и по чуть заметному акценту Лена догадалась, что он карел.
– Да, да, живет,– обрадованно ответила она.
Незнакомец сделал несколько шагов к дому и вдруг
остановился.
– Позовите ее,– попросил он.
– Сейчас ее нет дома, она в поселке. Но вы, пожалуйста, входите, она скоро должна прийти...
Незнакомец посмотрел в сторону поселка и ничего не ответил. Потом, зябко поежившись, стал под навес крыльца.
– Что же вы будете здесь мокнуть? – заговорила Лена.– Входите, прошу вас...
– Ничего,– успокоил ее незнакомец.– Ведром больше, ведром меньше – теперь все одно. Я и так промок.
– Простите, но это какое-то ребячество стоять под дождем, когда можно посидеть в комнате!
Лена и сама начинала мерзнуть, но уйти, оставив незнакомого мужчину у крыльца, она не могла.
– Ребячество?! – усмехнулся мужчина.– Вы кто, квартирантка?
– Да, я живу здесь.
– Давно?
■– Недавно, вторую неделю.
– Я так и подумал! – хрипло засмеялся незнакомец и вдруг закашлялся: – И верно, сырость проклятая, пожалуй, можно и в избу зайти, а?
– Не можно, а нужно... Входите! Я сейчас лампу зажгу.
2
Найти спички ей сразу не удалось. Она долго шарила рукой по столу, натыкаясь на книги, бумаги, чернильницу. Потом, вспомнив, что днем часто видела па каком-то из выступов печи коробок спичек, принялась искать там, но сейчас, как назло, ничего не находила.
Гость, встряхнув в сенях одежду, уже вошел в избу и стоял у порога, ждал.
– Спички потерялись. У вас случайно не найдется? – спросила Лена, продолжая ощупывать выступ печи.
Незнакомец сделал шаг к печи, пошарил там и сразу затряс спичечным коробком.
– Как же нет? Вот, пожалуйста...
Лена протянула руку, но он, не замечая ее, торопливо чиркнул спичкой. Первая не зажглась, сломалась. Он бросил ее на шесток и достал вторую. Коробок, видно, был затертым, и вторая, синевато искрясь в темноте, тоже не загорелась.
– Вот, черт! – выругался гость, доставая третью.
– Да у вас, наверно, руки мокрые,– извиняющим тоном сказала Лена, и в это время спичка вспыхнула.
Совсем близко от себя Лена увидела белое лицо, окаймленное густой бородкой, в которой поблескивали капельки влаги, и встревоженно озирающиеся молодые глаза, так не вязавшиеся ни с бледностью лица, ни с пожилой степенностью бороды.
Медленно, как бы пытаясь узнать и не узнавая, гость оглядывал все, что можно было увидеть в желтом пропадающем полусвете. Спичка догорала, пламя уже почти касалось его бурых, чем-то покалеченных пальцев, но он не замечал этого: подняв над собой огонь и чуть подавшись вперед, он вглядывался, как будто искал что-то в избе.
Лена удивленно смотрела на незнакомца. И он, видимо почувствовав это, усмехнулся:
– Так и будем стоять? Где лампа?
Он зажег лампу, поставил на стол, а сам сел на лавку в дальнем углу.
– Вы занимайтесь своим делом, я не помешаю.
Лена предложила ему снять мокрый ватник, но он
отказался и даже не снял с головы серой матерчатой фуражки с обвисшим козырьком.
– Хотите чаю? – вдруг обрадованно предложила Лена.– Это быстро, у нас самовар всегда наготове...
Он посмотрел на самовар, улыбнулся и отрицательно покачал головой. Лене по его взгляду на самовар пбче-му-то показалось, что чаю ему очень хочется, но странное поведение незнакомца насторожило ее, и она не стала уговаривать.
– Девушка, а шамовки у вас не найдется?
– Шамовки? – переспросила Лена, лихорадочно соображая, правильно ли она понимает смысл этого вроде бы знакомого, но так редко употребляемого слова.– Ну, почему же не найдется? Пожалуйста, садитесь к столу, Я сейчас, одну минутку.
Торопливо, словно боясь, что гость передумает, она принялась выставлять на стол что попадалось под руку из еды – хлеб, горшок с молоком, жареную рыбу. Она уже взялась за ухват, собираясь лезть в печь, но гость с улыбкой остановил ее:
– Хватит, девушка, хватит... Спасибо.
– Вы, может, супу хотите? У нас всегда к ужину остается...
– Спасибо, не надо.
– Пожалуйста, не стесняйтесь!
Грузно переступая резиновыми сапогами и оставляя на чистом полу следы, гость прошел к столу и протиснулся по лавке в простенок между окнами.
Умывальник был на виду, рядом с ним висело длинное холщовое полотенце, но он и не подумал вымыть руки. Лишь помедлил в нерешительности – снимать ли ему фуражку? – потянулся к ней, но передумал и принялся за еду.
Теперь вблизи скуластое лицо гостя выглядело значительно моложе, чем показалось Лене сначала. Оно было совсем не белым, а обветренным, покрытым белесыми шелушившимися пятнами. Из-под фуражки на левую щеку выбегала извилистая полоса широкого шрама. Внизу она раздваивалась, одним концом уходя за ухо, а другим прячась в густую, чуть тронутую курчавинкой бородку.
Ряпушку гость ел так, как едят ее в Войттозере,– вместе с костями, беря со сковороды рукой и макая хлебом в жидкий соленый отвар.
– Вы здешний?
Гость перестал жевать, пристально посмотрел на Лену и отрицательно покачал головой.
– Наверное, родственник тете Фросе?
Он кивнул и, помедлив, сказал с еле заметной усмешкой:
– Дальний.
– Я так сразу и подумала,– обрадовалась Лена.
– Почему?
– И сама не знаю,– призналась она.– Только как вы вошли, я сразу подумала... Вы, наверное, давно здесь не бывали?
– Давно,– подтвердил гость.
– Вы устали, промокли.... Хотите, я вам на печке постелю.
– Спасибо, только ночевать я не буду. Некогда. Дождусь... и пойду.– Заметив недоумение па лице Лены, он склонился к столу и, помолчав, пояснил: – Меня машина ждет.
– Во всяком случае без чаю мы вас не отпустим! – не допускающим возражения тоном сказала Лена и принялась за самовар. Она взяла с шестка трубочку бересты и. как это делала тетя Фрося, надорвала се в нескольких местах.
Лена впервые разжигала самовар и очень боялась, что у нее ничего не получится. Но огонь жадно уцепился за краешек бересты, весело затрещал, а когда она бросила горящую растопку в узкую горловину, вытянулся до самого верха. Добавив лучины, она встазила старую кое-где прогоревшую трубу и радостная, как бы ожидая похвалы, повернулась к гостю.
– Откройте вьюшку! – напомнил тот,
Лена огляделась и ничего не поняла.
– Дымоход откройте,– улыбнулся он.
– А-а! – Лена, выпачкавшись сажей, сняла тяжелую чугунную крышку с дымохода.
Огонь в самоваре сразу загудел так лее, как гудел он в умелых руках тети Фроси.
Пока Лена мыла руки, гость покончил с едой и устало отвалился к стене. Его повеселевшие глаза медленно бродили по избе, то застревая на каком-нибудь предмете, то быстро перекидываясь из угла в угол, словно проверяя, все ли на месте. Вдруг он весь передернулся, застыл, прислушиваясь.
– Это тетя Фрося,– сказала Лена, услышав мелкие деловитые шаги за окном.
Гость побледнел, незаметно отодвинулся подальше от лампы и бросил на Лену укоряющий взгляд, как будто она была в чем-то виновата перед ним.
Тетя Фрося уже поднялась на крыльцо и, видимо, убирала висевшие там половики.
«Ой, почему же я не убрала их?» – подумала Лена и уже сделала шаг к двери, как гость опередил се, резко схватил за плечо, отдернул назад и метнулся к выходу.
Дверь взвизгнула и захлопнулась за ним.
Все произошло так быстро, что Лена скорее удивилась, чем испугалась. Она чувствовала, что сейчас что-то должно случиться. Она почему-то верила, что случится только хорошее, и страшно испугалась, когда услышала глухой, похожий на стон, выкрик хозяйки.
Она быстро раскрыла дверь в сени. Гость на крыльце приглушенно говорил по-карсльски что-то успокаивающее, но тетя Фрося рыдала все громче и громче:
– Ох... да что ж это такое? Ох, да правда ли это?
– Тетя Фрося, что с вами? – испуганно крикнула в темноту Лена.
– Ленушка, милая! – сквозь рыдания бессильно отозвалась хозяйка, но гость оборвал ее и, распахнув дверь с улицы, торопливо сказал Лене:
– Не беспокойтесь! Идите в избу!
– Ступай, Ленушка, ступай! Я сейчас,– слабым голосом попросила тетя Фрося.
Лена помедлила, потом вернулась в дом, убрала со стола бумаги и прошла в свою комнату.
Обычно Лена дожидалась Виктора, как бы поздно он ни приходил. День обязательно заканчивался чаепитием под руководством тети Фроси. Лема любила эти минуты, когда никто никуда не спешит и все трое стараются услужить друг другу. Но теперь так уже не будет. Лена чувствовала себя обиженной – с ней обошлись, словно в этом доме она чужая. Тетя Фрося тоже хороша: по-иному, как «доченькой», Лену и не называет, а при первом случае показала, чего стоят эти слова...
Лена разделась, легла в кровать, хотя чувствовала, что не заснет,
Они вошли в дом минут через десять. Лена слышала, как тетя Фрося принялась угощать родственника чаем. И хотя она вела себя сегодня совсем по-необычному: суетилась, охала и вздыхала, без толку металась от стола к посудной горке, от самовара к сундуку, где хранился сахар,– Лена по звукам угадывала каждое ее движение. Вот тетя Фрося открыла чайницу, вот отсыпала на руку чаю, чтобы определить на глаз заварку. Вот прошумела струя кипятка, и чайник переместился на конфорку, чтобы заварка разопрела и дошла на медленном жару.
«Сейчас она позовет меня»,– подумала Лена. В обычные дни, поставив чайник на конфорку, тетя Фрося, довольная, что хлопотливый день позади, присаживаласп к краю стола и певучим голосом приглашала:
– Чаю пить!
«Сейчас позовет... А я откажусь, не пойду, раз она так поступила»,– обиженно уговаривала себя Лена, а сама ждала приглашения и знала, что обязательно выйдет к столу.
Выйдет не потому, что ей обязательно нужен этот крепкий чай, к которому она так еще и не могла привыкнуть, а затем, чтобы вернуть те добрые, истинно семейные отношения. Но сегодня все шло по-другому.
Лена услышала, как хозяйка уже разливает чай, и поняла: ее сегодня не позовут.
з
А за столом происходил совсем не веселый разговор.
Не успела мать осознать нежданно свалившееся счастье, как новая беда пришибла ее.
– За что же тебя, Паша, а? За что ж тебя на муку такую, господи? – спрашивала она, а ее сердце и млело от счастья, и горем сжималось за страшную долю сына.
Сын только улыбался в ответ и упрашивал:
– Ну, ладно, ладно... Не плачь, чего ты?
Шрам мешал улыбке. Она получалась какой-то чужой, перекашивающей дорогое каждой своей черточкой лицо.
– Пашенька, сынок! Ты, ить, в героях был. Тихон Захарович говорил, что и к орденам тебя представляли... За что же потом так, а? Неужто мало ты принял в войну муки?
– Ладно, мать, что было, то прошло.
– А сидеть-то долго ли?
– Скоро выйду. Я уже в расконвоированных хожу...
– Пашенька, не таись ты, Христа ради! Скажи ты матери, за что горе такое принимаешь? Чует мое сердце, не виноват ты! А если и ошибся в чем, то по молодости – неужто судят за это?
– Слушай, мама. Ты, смотри, никому не проговорись, что я дома был... А то опять буза выйдет. Да и где я – не говори... Не надо... Освободят – тогда сам вернусь.
– Что ты, сынок! Никому ни слова, об этом и не думай!
– Я ведь третий год здесь, в наших краях. Дорогу по Заселью ведем. Почти каждую ночь собирался тебя навестить. Обернусь, думал, за ночь. Правильно сделал, что не приходил. Могли побег пришить – и баста!
– А теперь-то как – отпустили или без спросу?
– Сейчас ничего... Вовремя вернусь, никто и знать не будет.
– Вай-вай-вай! Да что ж ты у меня такой несчастный! Зачем же ты себя губишь? А коль узнают? Лучше б мне написал, я бы сама прибежала, на крыльях бы к тебе, родимый, прилетела. Неужто повидаться не разрешили бы?
– Ты, мать, за письма не обижайся. Я никому не писал. И писать не буду. Ии строчки. Меня вон сколько уговаривали обжалование написать, а я не стал.
– Зачем же ты так-то! Через гордыню, может, и муку принимаешь.
– И пусть. Не просил и просить не буду... Не о чем мне просить... Слушай, мама, у тебя водки, случаем, не г дома?
– Откуда ж быть ей, пить-то некому... Может, к соседям сбегать?
– Не надо. Вот ты спрашивала, за что я сижу? А я, мать, по крупной попался. С власовцами вместе. Ты знаешь, кто такие власовцы? Они, сволочи, в наших стреляли, а я с ними в одной загородке. И днем и ночью–все с ними, восьмой год уже...
– Ты пей, пей, а то чай совсем остыл.
– Нет, мать, теперь слушай. Пришили мне такую вину, что я даже сам удивляюсь, как к стенке не поставили. И главное, все складно вышло. Помнишь, в сорок третьем я домой приходил, неделю на хлеву жил?

– А как же, Пашенька? Уж как я тогда боялась за тебя!
– С оккупантами я тогда связался.
– Да что ты говоришь, опомнись!
– Это раз! В марте сорок четвертого я отряд на за* саду вывел, а сам пошел в разведку и в плен сдался.
– Господи, какие страсти ты рассказываешь? – горестно всплеснула руками мать и зарыдала в голос: – Пашенька, сыночек! Да в кого ж ты такой несчастный выдался?! Зачем же ты сделал это?
– Да никак и ты в ту чепуху поверила? – Павел обошел вокруг стела и, не зная, что делать, остановился.
Он никогда не умел быть ласковым, но сейчас и жалость, и гнев боролись в нем.– Перестань, слышишь! Неужто и ты поверила в эту чепуху? – спрашивал он, неловко трогая мать за вздрагивающее худенькое плечо.
– Хватит, мать... Я думал, ты-то хоть радоваться будешь! Чего плакать-то?! Иль и ты не рада, что я в живых остался?
– Что ты говоришь, Пашенька?! Разве ж я не радуюсь? – Она подняла голову, несколько секунд смотрела на его искривленное в улыбке лицо, хотела сдержать слезы и не могла. Прикрыла глаза кончиком платка и зачастила плачущей скороговоркой: – Разве ж осталась у меня другая какая радость... День и ночь – все о тебе. Плачу-то я от радости, ты не думай!—она всхлипнула, вытерла глаза, улыбнулась, глядя на сына, и вдруг снова залилась слезами: – Загубил ты жизнь свою молодую! За что же так господь наказал тебя!
– Перестань, или я сейчас же уйду!
– Что ты, что ты, сынок! – испугалась мать.
Павел помедлил, потом сел на лавку, вытер ладонью
вспотевшее лицо.
– Не виноват я. Ни в чем не виноват! – не глядя на притихшую мать, угрюмо сказал он.– Вся вина моя в том, что следователю чуть в морду не дал, когда тот издеваться начал. «Ну, рассказывай, как Родину, говорит, предал, как от присяги отступился?» Он, сволочь, привык всех на одну мерку мерить. В плену всякие были, попадались и продажные шкуры... А я до самого освобождения в лагерном госпитале пробыл, еле вытянул. Опять же вопрос: «Как же так? Партизан финны чуть ли не на месте расстреливали, а тебя в госпитале держали... Почему?» А я откуда знаю – почему? Может, потому, что война к концу шла... Так и пошел клубок наматываться. Одно на другое, одно на другое... такую картину вывел, что десять лет за милость посчитали... Э-э, да что теперь говорить!
– Как же дальше-то будет, Пашенька?
– Как будет? – переспросил он в нерешительности, подумал и ответил: – Так и будет... Увидим... Через год выйду. А может, и раньше. Поговаривают, что, как только до Заселья трассу доведем, амнистия может быть... Поживу месяцок дома, потом куда-нибудь в другие края подамся. Здесь не стану с этой самой печатью жить... Устроюсь, потом тебя вызову... Поедешь?
– А куда, Пашенька?
– Куда-нибудь подальше. Мест хватит.
– Олюшка-то так замуж и не вышла,– напомнила мать.
– Она здесь, что ли? – нахмурился Павел, хотя эта весть заметно порадовала его.
– Здесь. Мастером работает. Сына растит. Большой уж парень... В школу пойдет нынче... Чудно у нее вышло. Всем говорит, была замужем, да развелась, а никто ее мужа и в глаза не видел.
– Говорит – была, значит – была.
Мать помолчала, помялась и все же спросила:
– Скажи, Пашенька, может, это твой сынок у Олюшки растет?
– Что ты еще выдумываешь? – рассердился Павел и неожиданно для себя почему-то покраснел. Потом рассердился еще больше: – Болтаете попусту языками... Как не стыдно только!
– Як тому, что Славику вроде пенсия была за тебя назначена, а она отказалась брать ее...
– Вам только бы выдумывать что-то... Человек говорит, что был замужем – так не верят.
– Не сердись, сыпок... Что говорят, то и я...
– Поменьше бы болтали, лучше жить было бы.
Павел заметно помрачнел, стал вдруг неразговорчивым.
Вскоре он собрался уходить. Тетя Фрося уговаривала еще погостить, съесть еще что-нибудь, а сердце у самой так и рвалось на части: и с сыном побыть хочется, и боязно, что могут хватиться его там, в лагере. Лучше уж поскорей ему вернуться, от беды подальше быть.
Несмотря на возражения сына, она вышла проводить его. Сначала до крыльца, потом до прибрежной тропки, потом до околицы. И так незаметно, быстро и молча, она шагала за ним больше часу. Чтоб сократить путь, Павел решил возвращаться напрямик по лесу.
Они расстались в семи километрах от деревни, на дальнем конце озера.
Павел торопливо обнял мать, ткнулся бородой в ее мокрое от слез и дождя лицо и почти бегом бросился в темень холодных, осыпавших его каплями кустов.
«Двадцать верст по лесу! Только б не заблудился, да все благополучно кончилось»,– подумала мать, вслушиваясь, как его шаги сливаются с шумом дождя.
ГЛАВА ПЯТАЯ 1
Первым, кого увидел Виктор, вернувшись домой после поездки в район, был Юрка Чадов. Веселый, раскрасневшийся, он сидел за столом, держа на пальцах одной руки блюдце с чаем. И трудно было понять, то ли он всерьез глаза закатывает от удовольствия, то ли дурачится, разыгрывая сидевшую у самовара тетю Фросю и стараясь рассмешить почему-то хмурую Лену.
– Привет начальству! – крикнул он.– Садись, старина, чайком побалуемся.
– Если желаешь, можно и не только чайком! – Виктор вернулся в хорошем настроении, и неожиданный приезд Чадова его обрадовал: – Можно и в магазин сбегать.
– Нет, нет, в командировках у меня «сухой» закон. Гоняю чаи и наслаждаюсь свежим воздухом.
– У тебя все не как у добрых людей... Говорят, другие в командировках только и позволяют себе выпить, чтоб жена да начальство не видели.
– Вот когда женюсь, может, и я на других похожим сделаюсь,– рассмеялся Чадов.
– Вчера приехал?
– Нет, часа три назад... Пограничники на попутной до самого поселка довезли...
Виктор умылся, сел к столу. Тетя Фрося разожгла на шестке огонь, чтобы зажарить ему свежей ряпушки. Лена засветила лампу и взяла в руки книгу. Все делалось молча, даже подчеркнуто молча... Но Виктор, возбужденный успешной поездкой в район, не замечал этого.
– Тетя Фрося, не беспокойтесь... Я обедал в столовой и сыт... Лена, у нас есть стихотворение «Медвежий угол»? Помнишь, ты его в вагоне читала?
– Помню. Зачем оно тебе? .
– Познакомился с одним интересным человеком... Он помнит четыре строки. Я две... В библиотеке искали – не могли найти.
– Значит, в Войттозере лирикой увлекаются? План заваливают, а о стихах думают?.. Так, так! – Чадов настолько ловко имитировал голос Потапова, что Виктор рассмеялся.
– Знаешь его?
■– А кто же не знает Потапыча? Колоритная фигура!
Тридцать лет стажа в лесу и не меньше десяти выговоров в учетной карточке... Ворочается, работает... До боли головной, до скрипа в позвоночнике, как сказал бы наш редактор... На таких работягах и ползет наша лесная промышленность. Скрипит, но ползет.
– Ну, а ты громить нас приехал? Одиннадцатый выговор Потапову хлопотать?
– Нет, старик, на этот раз ты ошибся,– улыбнулся Чадов,– совсем наоборот – славить вас, чертей полосатых.
– Твоей славой мы сыты по горло... Какую ерунду ты тогда написал! Читать стыдно.
– Ты о чем? О той заметке? Разве я что-либо исказил? Ни слова выдумки. Сам Дорохов проявил к ней свое высокое внимание... Вызвал меня, подробно расспросил, учти – о тебе расспросил. Наш редактор не больно щедр на похвалы, а и то добрым словом о статье отозвался... Ну, и вот результат! Нужен очерк о делах и буднях Войттозерского лесопункта. Положительный, понимаешь! О том, как партизаны трудятся на местах былых боев.
– Нечем нам пока хвастаться.
– Ничего, найдем! Надо быть диалектиками... В жизни всегда есть и хорошее и плохое. Нужно только уметь его выявить... Большое спасибо, тетя Фрося, за ужин. Давно не пробовал такой вкусной ряпушки.
– Простите,– поднялась Лена.– Можно, я возьму лампу? Вы, пожалуйста, зажгите себе другую.– И она прошла в соседнюю комнату. Тетя Фрося проводила ее грустным взглядом, потом, взяв подойник, вышла.
– Неужели я чем-нибудь обидел ее? – спросил Чадов.– О, женщины, женщины... Даже лучших из них я отказываюсь понимать.
– Хватит,– оборвал его Виктор.– Не так все это просто, как ты думаешь.
– Потому-то я и не очень стремлюсь думать об этом... Давай, старина, потолкуем о деле... Виделся я с нашим Тихоном, но он, как всегда, встретил меня не очень любезно. Неужели дела действительно так плохи?
– Пока да. Ты, по-моему, напрасно приехал. Конечно, если действительно не думаешь еще раз громить нас в газете.
– Я же сказал, что приехал с другой целью... Будь спокоен, у меня еще не было случая, чтобы вернулся с пустыми руками... Бот это видишь? – Чадов потряс коричневой, в мягкой обложке, записной книжкой.– Сейчас в ней нет ни слова, а через три дня придется доставать новую... Так, старина, и работаем! Давай твои настроения, суждения, сомнения, впечатления – все вываливай сюда... Начнем по порядку – как встретил тебя Тихон?
Он явно рисовался, и Виктор с трудом узнавал его. Раньше Чадов держался в меру смущенно, в меру снисходительно, но всегда тихо и покладисто. Даже десять дней назад он вел себя совершенно иначе, чем сейчас... Такие неожиданные превращения всегда настораживают.
– Как встретил Тихон? – переспросил Виктор.– Хорошо встретил.
– Не густо,– улыбнулся Чадов.– Пойми, мне это очень важно, как все происходило? Может, с той сцепы и начнется мой очерк.
– Да ну тебя! Встретились, как все встречаются... Посидели, выпили, поговорили...
– О чем?
– Обо всем. Можешь записать – даже песни пели, наши, партизанские.
– Любопытно,– воскликнул Чадов, хотя по его лицу было видно, что ему хочется не этого: – Конечно, с нашим Тихоном не очень-то разговоришься. Небось хмурился, мрачнел после каждой рюмки и обо мне, как всегда, говорил только дурное?
– Но ведь и ты о нем говорил далеко не лестные слова, помнишь?
– Помню,– согласился Чадов.– Говорил. Правда, говорил я только тебе. Говорил не в отместку, а потому, что так думаю... Я искренне убежден, что такие вот железобетонные Орлиевы попросту пережили себя... Они не дают ни дышать, ни работать. Под их рукой все становится окаменелым и бездушным.
– Послушай, ты не сводишь с ним личные счеты? За ту характеристику...
– Значит, он тебе рассказал даже про нее,– улыбнулся Чадов. Его глаза как-то странно оживились, словно он наконец докопался до самой сути.– Нет, старина, я не свожу с ним личные счеты... Конечно, он здорово напакостил мне. Но мне грех обижаться на свою судьбу... А с Орлиевым мы на разных полюсах, понимаешь?
– Но вы ведь оба члены партии? Как же понять это? Как же вы можете стоять на разных полюсах? Значит, кто-то из вас настоящий коммунист, а кто-то...
– Я, может, не точно выразился,– поспешно поправился Чадов.– Я хотел сказать, мы на разных флангах... Если представить вот нас всех одной идущей в наступление шеренгой, то мы с Орлиевым вроде бы на разных флангах.
– Обычно фланги взаимодействуют. Где же логика? Не получается что-то...
– Ладно, ладно, снова сдаюсь,– примиряюще усмехнулся Чадов.– Разве тебя, ортодокса, переспоришь? Ну, хватит об этом. Скажи лучше, как встретились вы с Олей Раптуевоп?
Виктор сразу почувствовал, что этот вопрос задан неспроста. Ведь две недели назад, в Петрозаводске, Чадов не позволил себе ни единого намека, он лишь между прочим сообщил, что Рантуева живет в Войттозере. Виктор хорошо помнил свое беспокойное состояние. Он тогда очень страшился продолжения разговора о ней, и вместе с тем хотел узнать об Оле как можно больше и подробнее... Тогда он, кажется, ничем не выдал своего волнения и в душе был благодарен Чадову, когда тот перевел разговор на другое. Теперь-то он видит, что со стороны Чадова это была явная хитрость, и он напрасно поддался на нее... Другой человек прямо и без всяких обиняков спросил бы Виктора, почему у них с Олей все разладилось. Вон Гурышев – совершенно чужой человек, и то первым делом спросил об этом. Но Чадов не такой. Он всегда делает вид, что понимает людей гораздо глубже, чем те понимают самих себя. Такие не могут без таинственной многозначительности... А потом они жалуются на отсутствие друзей...
«Нет, дорогой мой, напрасно ты понизил голос, спрашивая об Оле. Две недели назад ты мог бы на этом купить меня, но сейчас я сам с удовольствием посмотрю, как удивленно расширятся твои столь проницательные и хитрые глаза».
– Ты знаешь, мы встретились просто замечательно,– громко, чтобы его могла слышать и Лена, сказал Виктор,– Оля хороший мастер, ее любят на участке. Мы видимся каждый день, и отношения у нас очень хорошие.
– Великолепно! – по-прежнему вполголоса отозвался Чадов.– Признаюсь, меня это очень смущало в очерке, а вдруг, думаю, прошлое наложило свой отпечаток... Выдумать тут нельзя, а обойти было бы очень трудно.
«Врешь! Не так-то все у тебя просто...» – подумал Виктор и, чувствуя, что взял в разговоре правильный тон, сказал:
– Можешь не беспокоиться... Да говори ты громче, чего ты шепчешься. Больных в доме нет, никому не помешаешь.
– Я боюсь, что наш разговор вновь раздражит Елену Сергеевну,– улыбнулся Чадов.
– Ничего. Не такая уж Лена раздражительная, как ты думаешь... Она все знает и все хорошо понимает.
– Помнишь, я сразу сказал, что у тебя замечательная жена.
2
Щелкнув крышкой портсигара, Чадов закурил, с наслаждением выпустил долгую струю дыма и спокойно посмотрел в глаза Виктору.
– Ты вообще счастливчик. Тебе всегда удивительно везло и в жизни, и в любви.
– Завидуешь? Я это уже слышал от тебя.
– Конечно, кое в чем и завидую,– согласился Чадов.– Но в зависти немного толку. Я понять хочу, почему так получается... Почему там, где другой наверняка запутался бы, может, даже сломал бы голову, у тебя получается легко и просто.
– Послушай, ты, кажется, в чем-то меня подозреваешь?
– А разве тебя можно в чем-либо подозревать? – обезоруживающе улыбнулся Чадов.– По-моему, такие, как ты, выше всяких подозрений... Они всегда до предела откровенны и всегда правы в глазах большинства.
– Ты, как видно, откровенность считаешь чуть ли не пороком,– спросил Виктор, радуясь, что наконец-то Чадов сам раскрыл себя.
– Нет, почему же? Откровенность тоже бывает разная... Помнишь, у Маяковского есть умные строки: «Тот, кто постоянно ясен...» А есть и такие, для которых откровенность не больше не меньше как удобная в жизни маска. Та же самая хитрость наизнанку. Скажу честно – я начинаю не любить людей, кичащихся своей откровенностью. Я начинаю им не верить.
– К какому же разряду ты относишь меня? Судя по твоему отношению, к первому.
– Нет, ты не так-то прост, как кажешься,– многозначительно рассмеялся Чадов.– Я вот и хочу понять, в чем тут дело? Зачем ты хитришь со мной? Охотно допускаю, что ты, как и Орлиев, питаешь ко мне какую-то ничем не объяснимую неприязнь... Но почему же, дьявол вас побери, вы, кичащиеся своей откровенностью, сами хитрите на каждом шагу? Почему? Ты же сам отлично знаешь, что отношения у тебя с Орлиевым далеко не блестящие, что в первый же день вы отчаянно поцапались на виду у людей, а мне, когда я спрашиваю, отвечаешь совсем иное. Я уже не говорю, что в данном случае ты просто обязан был сказать правду. Хотя бы не лично мне, а газете, которую я здесь представляю. Тем более, что у вас был не просто личный спор. Ответь мне, почему ты так сделал?
– Ты знаешь, почему... Ты слишком ненавидишь Ор-лиева, чтобы быть к нему справедливым.
– А ты разве считаешь его правым? Разве не гнусно поступил он с твоими предложениями на совещании.
– Ты знаешь даже это? Когда же ты успел?
– Три часа для газетчика большой срок. Об этом много говорят в поселке. И, не в пример тебе, возмущаются произволом Орлиева. Конечно, возмущаются немногие. Большинство так привыкло к всесилию нашего Тихона, что давно уже молчат... Так же, как и ты...
– Я не молчу. Не собираюсь. Но я не хочу, чтоб наши производственные споры ты использовал против Орлиева. Именно ты. Потому что у тебя не очень справедливая, по-моему, вражда к нему. Вы расходитесь в крупном, а наши споры – мелочь!
– У Орлиева нет мелочей. У таких все главное,– жестко сказал Чадов.– Они не признают у других ни случайностей, ни ошибок... Их каждое слово и поступок исполнены той многозначительности, в сравнении с которой робкие попытки возразить или поспорить уже выглядят чуть ли не политической ошибкой.
У Виктора было такое ощущение, как будто он помимо своей воли становится участником не совсем честного сговора. И что самое неприятное – он ничего не может с этим поделать. Это был какой-то неотвратимый круг: о чем бы они ни заговорили, разговор обязательно возвращался к Орлиеву.
– Слушай, Юрка. Ну чего ты хочешь? Чего добиваешься?..
– Чего я хочу? – Чадов подумал и вдруг усмехнулся.– Немногого, старик, совсем немногого... Хочу, чтобы Орлиевы уступили наконец место людям, которые будут жить не во имя непорочности самих принципов, а во имя претворения тех принципов в жизнь. Ты разве не согласен с этим?
– Говоришь ты как будто и правильные вещи... Но все же, знаешь, я бы не пошел с тобой в разведку...
– Как же не пошел бы,– засмеялся Чадов,– если мы с тобой уже холили, и не один раз?
– Тогда ходил, а теперь не пошел бы...
– Почему? – искренне удивился Чадов.
– Потому что ты, пожалуй, оставил бы меня одного, если бы нас обнаружили и меня вдруг ранили.
– Напрасно так думаешь...– Чадов помолчал и вдруг спросил: – Ну, а с Орлиевым ты пошел бы?