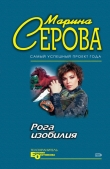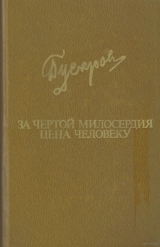
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
Лазарет заметно поубыл. Первыми начали подниматься те, у кого была целой хотя бы одна нога. Им наскоро ладили что-то похожее на костыли, давали сопровождающего и показывали дорогу на запад. Глядя на них, с трудом и чужой помощью, вставали на ноги раненые в грудную клетку – их повели тоже.
Оставалось еще полтора десятка – самых трудных. Четверо– совсем безнадежны, они лежали в беспамятстве и только числились в живых, их Колчин в расчет уже не брал. А вот с десяток, хотя сами двигаться не могли, но находились в сознании, и Колчин, не зная, что делать дальше, машинально повторял:
– Ребята, нести некому. Кто может—поднимайся. Скоро отход, ребята! Не могу же я вас здесь оставить.
Он заглядывал в шалаш, там была полутьма, лиц он не успевал различить, но видел, что больше никто не старается выбраться наружу – лишь стоны, бормотания и всхлипы были ему ответом. Он понимал, что никто из находившихся в шалаше уже не жилец на этом свете, им не выжить, даже если бы нашлась возможность тащить их; день, другой, третий – и пиши пропало. Внутренне он давно уже свыкся с этой неизбежностью, его мысли занимали не столько эти, оставшиеся здесь, сколько те, кого удалось отправить к реке, ибо если начнется быстрый отход, то и на них не останется ни сил, ни времени. Но приказ оставался приказом, время еще было, и Колчин ждал, надеясь, что, может быть, носильщики успеют вернуться и удастся перебросить к берегу еще хотя бы пятерых. С основной группой раненых ушли к переправе бригадный врач Петухова и ее помощник военфельдшер Чеснов. Здесь остались лишь две медсестры.
– Эй, Колчин! – услышал он из шалаша голос.– Помоги вылезти наружу! Почему я должен подыхать в этой проклятой берлоге?!
– Тут дождь моросит,– ответил Колчин, еще не разобравшись, кто окликнул его.
– А мне теперь все равно... Хоть на небо погляжу в последний разок.
– Лежи пока! И не сей панику!
– Помоги, говорю! Я ведь знаю тебя, Колчин. Помнишь, перед войной мы первомайские встречали в одной компании? В Медвежке. Неужто забыл? Ты еще на «бэ-бэка» тогда служил, помнишь?
– Почему забыл? Я тебя помню, Орехов. Мы ведь и потом много раз встречались, уже в бригаде.
– Так помоги же наружу выбраться, черт побери!
– Ну, пожалуйста, если хочешь...
Вместе с медсестрой они вытащили Орехова из шалаша. Его обе ноги от паха до пят были накрепко примотаны к грубым самодельным шинам; он сжимал зубы от нестерпимой боли, но когда выбрался на воздух и улегся неподалеку от еще тлевшего костерка, на лице его появилась счастливая улыбка.
– Я поговорить с тобой хочу, Колчин... Худо мне. Всю ночь промучился.
– Давай поговорим, пока время есть...
– А ты верно помнишь меня, Колчин?
– Почему не помню. Хорошо помню. Ведь я сразу назвал тебя по фамилии.
– Это точно, назвал. А почему ж ты до этого ни разу ко мне не признакомился? Я уж думал, что ты или забыл, или знаться не хочешь.
– Сам не знаю почему. Как-то уж так вышло, само собой...
– А я уж думал – оттого, что мы с тобой поссорились тогда на празднике, и ты вроде злился на меня, Помнишь?
– Что-то не помню...
– Как не помнишь? Весь вечер цапались, по каждому пустяку... А потом и рассорились, чуть драку не устроили. Ты паникером меня обозвал.
– Паникером?! Вот уж не помню. С чего это – паникером?
– Да уж и я плохо помню. Вроде бы я сказал, что война скоро будет, и ты стал спорить, доказывать, что не будет...
– Я не мог этого говорить. Я всегда считал, что война будет, я еще в финскую это понял.
– Ну, может, наоборот... Может, я по пьянке другое
что сказал... А паникером ты меня тогда обозвал, это точно.
– Кто его знает теперь...
– А знаешь, Колчин, почему я к тебе тогда цеплялся? Это ведь я во всем виноват.
– Почему?
– Я ведь тогда с невестой своей был. С Зоей. Помнишь ее? Красивая такая. Самая красивая в компании была. Высокая, в светлом костюме, с зелеными глазами.
– Что-то вроде припоминаю...
– Ты это правду говоришь, Колчин? Ты не врешь мне?
– Ну почему я буду тебе врать?
– А потому, что знаешь, как мне важно. Я же ведь Зою тогда к тебе приревновал. Показалось мне... А как же? Оба вы красивые, песни весь вечер на два голоса пели, все время друг другу улыбались. Это-то ты хоть помнишь, Колчин?
– Песни вроде припоминаю... Так ведь песни я где хочешь пою. Люблю я песни. И на баяне играю.
– А я ведь, Колчин, и не женился на Зое из-за тебя. В тот вечер наговорил ей всякого, она обиделась, я уехал в Сегежу, а тут и война.
– Выходит, дураком ты оказался, Орехов...
– Выходит... А Зою ты что – действительно не помнишь?
– Говорю тебе, смутно как-то...
– Ты в Сегеже перед походом на картине «Александр Пархоменко» был?
– Был.
– Артистку Татьяну Окуневскую видел? Она с Махно за компанию.
– Видел.
– Ну вот она и есть копия Зои. Две сестры. Только одна постарше лет на десять. Один раз мы в Петрозаводске с Зоей были. По улице идем – все оборачиваются на нее. Ну, вспомнил теперь? Что, нет? Ну, Колчин, неправду ты мне говоришь, скрываешь что-то, а раз скрываешь – то, значит, было между вами, было... Скажи хоть по-честному напоследок. Сам ведь видишь, мое дело – швах.
– Клянусь, ничего не было, Орехов. Не такой уж я кобель, чтоб за каждой гоняться.
– Ну, Зоя, положим, не каждая... Такие, как она, все наперечет... Ну да ладно, Колчин. Что теперь об этом...
Он помолчал и вдруг задорно и грустно начал нараспев:
– Эх, ноженьки вы мои, несчастные ноженьки. Уж как жалел я вас, как берег! Пуще головы. Лучше б сразу в голову, Колчин, а?
– Не расстраивайся, Орехов. Придут люди, отправлю тебя первым.
– Куда, Колчин? Нет уж, понимаю, что крепко не повезло. Тут и здоровым дай бог выбраться. Жить-то, конечно, хочется... Нет-нет, Колчин, ты не думай, что я чего-то прошу. Это я так. Все понимаю, голова-то у меня свежая, и столько в ней за ночь провернулось!
– Помолчи, Орехов. Не тяни душу, и так тошно!
2
В это время подошло отделение Живякова. Не успел Колчин «выдать» им за опоздание, как на севере загрохотало, стрельба слилась в сплошной гул, отряды пошли на прорыв, из штаба бригады прибежал связной:
– Начинайте отход! Скорей!
Под горячую руку Колчин выматерил связного, крикнул ему вдогонку:
– С кем отходить? Не видишь, что ли? Пусть подмогу шлют!
Наступил решительный момент. Колчин оглядел свою команду – шестеро бойцов и две медсестры.
– Живяков! Назначаю тебя своим заместителем! Остаешься здесь, со мной! Остальные слушай мою команду! Четверо берите носилки, кладите вот этого парня,– он указал на Орехова,– тащите к переправе!
– Не надо, Колчин,– слабо запротестовал тот.– Зря людей будешь мучить! Ребята, подайте-ка мне лучше автомат, он в шалаше где-то.
– Прекратить разговоры! Берите и тащите! Чтоб через пять минут никого здесь не было.
Орехова взвалили на носилки, четверо подхватили их и, не поднимая на плечи/потащили. Тащили тяжело, сил не было, через каждые пятьдесят – шестьдесят метров опускали на землю, передыхали, меняли руки, медсестры помогали с боков, группа постепенно удалялась, но было
видно, что далеко ей не уйти,– дай бог выбраться за переправу.
Вася Чуткин остался не у дел. Он стоял позади Жи-вякова и Колчина, как и они, смотрел вслед удаляющимся носилкам, чувствовал, что здесь должно что-то произойти, уже почти догадывался, что именно, но об этом даже думать было страшно, и он заставлял себя не думать– стоял, смотрел, слушал нарастающий со всех сторон грохот боя, а сознание все четче и больнее отмечало звуки, доносившиеся из шалаша. Он понимал всю никчемность своего здесь присутствия, и ему больше всего хотелось быть сейчас в той, удаляющейся группе, но приказ касался четверых, а он не полез первым – и оказался пятым.
– Пить! Дайте же воды! Есть там кто-нибудь живой или все сбежали? – услышал он позади голос, рванул с пояса флягу и едва не наступил на выползавшего из шалаша раненого. Тот выбирался на четвереньках, волоча отставленную в сторону, забинтованную по бедру ногу.
– Тебе воды?
– Не-е... В шалаше второму справа...
В протянутую руку Вася отдал флягу и поскорее вылез обратно.
– Колчин,– тихо позвал раненый в ногу.
– Да. Чего тебе? Идти хочешь?
– Попробую. Помоги встать и дай кого-нибудь в помощь.
– Давно бы так. Где ж ты раньше был? Эй, парень,– позвал Колчин Чуткина,– бери-ка его справа, помоги подняться. Живяков, обруби-ка ему костыли! Короче, короче, чтоб под мышки как раз. Парень-то, видишь, роста невеликого... Ну, тронулись! Смелей, смелей! Опирайся ему на плечо, не бойся! Как твоя фамилия?
– Терехин,– отозвался раненый.
– А твоя? – обратился Колчин к Васе.
– Чуткин,– ответил за него Живяков.– Он у меня тоже хромоногий, ногу подвернул.
– Ничего. Две ноги на двоих лучше, чем одна на одного, не так ли? Вот что, Чуткин! Веди Терехина, и головой мне 8а него ответишь... Чем дальше уйдете, тем лучше для вас, ясно тебе?
...Так начался для Васи тот кошмарный день в его
жизни. Поначалу он полагал, что все его муки кончатся, как только они доберутся до переправы – там люди, они помогут. Люди на переправе действительно были, но они помогли Васе лишь перетащить Терехина на другой берег и показали тропу: двигайтесь, дескать, дальше, да поскорее, вот-вот финны начнут преследование.
Бой позади совсем затих, раздавались лишь редкие одиночные выстрелы, потом и они смолкли: над мглистым, оцепеневшим в неподвижности лесом стояла такая тишина, что приглушенные голоса, потрескивание валежника слышны были издали; они вначале обнадеживали, что вот-вот догонит какая-либо группа и возьмет Терехина, но группы если и догоняли, то уходили вперед, у каждой была своя ноша, и все торопились, а положение Васиного подопечного, который стоял на ногах и кое-как передвигался, не представлялось чем-то необычным: есть сопровождающий – и хорошо, шевели ногами, пока хватит сил.
Терехин оказался на редкость терпеливым парнем. Ранение у него было в бедро, рана кровоточила, не только бинт, но и остатки левой штанины до самой обмотки были темными от крови, однако долгое время он лишь сопел и скрежетал зубами, потом начал тихо постанывать при каждом шаге и все грузнее наваливаться на плечо Чуткина. Вася не знал, сколько они идут и много ли прошли. По себе он давно бы не выдержал, рухнул на землю и дал бы долгий отдых онемевшему бесчувственному телу, но Терехин все шел и шел, он уже не стонал, а беспрерывно выл прямо в Васино ухо и, казалось, начинал терять сознание.
– Все,– тихо сказал Терехин и начал медленно, держась за Васю, сползать на землю.
Несколько минут полежали. Мимо них прошли две группы с ранеными, и кто-то из командиров крикнул:
– Двигайтесь, двигайтесь! Что разлеглись?
Вася и сам понимал, что в их положении отдых не даст облегчения, только расслабит еще больше, а Терехин теперь может вообще не подняться... Удивительно крепкий он парень! Нет, уже не парень, а мужик – лет тридцать ему, не меньше. Наверное, и семья есть – жена, дети. Интересно, из какого он отряда? Голос вроде знакомый, а по лицу теперь никого и не узнаешь, все на одно лицо – носатые, бородатые, с черными опухшими губами,
– Вставай! – сказал Вася и поднялся первым.
Терехин открыл глаза, но не пошевелился.
– Идти надо! – Вася наклонился, чтобы помочь ему.
– Слушай, Чуткин. Не мучай меня. Не дойти мне.
– Так чё? Брошу я тебя, чё ли?
– Брось... Отведи в сторону и брось... Сам помру... А ты иди, иди... Ты, может, еще и выживешь. Чего тебе из-за меня погибать? Иди, Чуткин.
– Ну уж дудки! Погибать, так всем погибать! Вставай!
– Погоди, Чуткин... Будем гнаться за бригадой – погибнем, поверь мне... Ты тоже хромой... Ну сколько мы еще пройдем – километр, два, три. А идти сколько? Двести верст идти. Нести некому. Колчин никого тут не оставит. У него приказ, и он, Колчин, такой... Давай, Чуткин, свернем в сторону, переждем. Вдвоем-то мы, может, и выберемся потихоньку. А помрем – так все равно помирать. Давай, Чуткин, а?
– Ты чё, в плен захотел, чё ли? Вот ты какой! Думаешь, там сладко будет! Думаешь, там в живых оставят! А ну, вставай и пойдем! Теперь-то уж сам пропаду, а тебя не брошу! Не стыдно тебе, Терехин? Ведь можешь идти, можешь!
– Не могу... Погляди на мою ногу.
– Ведь шел же?
– Пока мог– шел, а больше не могу. Чего я мучить себя буду, коль все равно погибать. Да и ты, глупый, о себе подумал бы.
Вася не знал, что и делать. Некоторое время оба молчали, не глядя друг на друга.
– Вставай, Терехин... Я никому не скажу, что ты мне предлагал... Идти надо. Скоро, наверное, привал будет, доползем как-нибудь.
Терехин не отвечал, застывшим взглядом смотрел куда-то вдаль, но когда позади послышались шаги – их догоняла очередная группа – он сел, потянул к себе костыль. Вася, ни слова не говоря, помог ему подняться, и они заковыляли по набитой сапогами тропе.
Потом их нагнали Колчин и Живяков. Какое-то время они шли в отдалении, затем приблизились. Колчин отстранил Чуткина, подставил раненому свое плечо, а Живяков сказал:
– Ты, Чуткин, иди, догоняй отделение. Мы приведем его сами,
РАССКАЗ ИВАНА СОБОЛЕВА
(г. Новошахтинск, ноябрь 1970 г.)
Командный пункт нашего отряда «Мстители» располагался за большим камнем. Я, как связной, залег чуть в сторонке от командира, у корня упавшего дерева, хорошо приладил автомат на стволе дерева и имел отличный сектор обстрела. Бой нарастал, уже слышны были стоны раненых. Два раза я сменил в своем «Суоми» разогревшийся стволик. Патронов было много, и я снова набил полные запасные диски. Финские минометы все ближе и точнее накрывали нашу цепь. Командир отряда Александр Иванович Попов повернулся ко мне и крикнул: «Иван, передай командирам взводов – пригото
виться к атаке. Сигнал – красная ракета!»
Маленькими перебежками, от камня к камню, от кочки к кочке, я побежал вдоль линии обороны. Передал Бузулуцкову, бегу дальше. Ищу комвзвода Сидорова – нет его, говорят, убит. Добираюсь ползком до помком-взвода Давыдова, голову поднять нельзя – пули так и свистят. Он сидит за камнем, чуть отвалившись спиной к другому. «Давыдов!» – кричу. Он молчит. Трясу за рукав– не шевелится. Глянул в лицо – у него в зубах самокрутка, немного обгоревшая с конца. В одной руке – сгоревшая спичка, в другой кусок коробка, а прямо на лбу кровяное вздутие, и струйка на левую щеку и ниже, в расстегнутый ворот гимнастерки. Я чуть не заплакал – Давыдов был моим отделенным в зимних походах, командир нашей разведки, хороший, боевой товарищ!
Неподалеку был Коля Егоров, комсорг отряда: «Коля, принимай команду, готовь взвод к атаке!» А самому надо еще до третьего взвода бежать. Передал приказ туда и подбираюсь к своему месту. Александр Иванович увидел меня и говорит: «Иван, осторожно, место пристреляно!» А мне надо всего – перекинуться с левого бока на правый, чтоб за камнем укрыться... Но именно в этот момент обожгла меня автоматная очередь. Словно кипятком плеснули на бедро правой ноги. Схватился я обеими руками за ногу и тихо взвыл не столько от боли, сколько от отчаяния: ведь у нас, у партизан, вся надежда в но-гах„, «Александр Иванович,– говорю,– меня ранило».—
«Я ведь предупреждал,– отвечает,– что место пристреляно...»
За камнем медсестра начала мне делать перевязку. Бедро прострелено навылет. Три пули прошли по мякоти. Вдобавок мелочи от разрывных пуль, как пшена, десятка два в ту же правую ногу. Забинтовала медсестра и спрашивает: «Где еще?» Говорю: «Запястье правой руки вроде задело». Только руку забинтовала, чувствую – что-то и с левой ногой не в порядке. Посмотрели – оказалась задета коленная чашечка, и ногу теперь не согнуть. Ниже, в голени, два крошечных осколка пулевых. Перевязала медсестра вторую ногу и на лицо показывает: «А тут что?» На лице у меня кровь: кончик левого уха прострелен. «На это бинт не порти»,– говорю, вытер рукавом, взял автомат и пополз на высоту. Там в лощине был сделан из еловых веток большой шалаш. В нем санчасть располагалась. Вполз я в эту санчасть, огляделся. Вижу – у догорающего костра, где две или три головешки теплятся, облокотившись на колени сидит наш бригадный врач Петухова. Кругом, под стенками шалаша,– много тяжелораненых: кровь, бинты, лиц и не разглядишь... Огляделся я, думаю: нет, мне тут не место! Так же ползком разворачиваюсь и на выход. Ни Петухова мне ничего не сказала, ни я ей...
На выходе – политрук Лонин. «Ну как, Соболев?» – спрашивает. Я и говорю ему: «Спиридон Петрович, сделай мне костыли». Он достает нож, принимается за дело, а я, как голодный кобель, уставился на него, лежу, жду.
Лонин был лет на десять постарше меня. Спокойный, добрый, выдержанный человек – никогда не кричит, даже если кем-либо бывал и недоволен. Я, когда во взводе был, считался вроде его заместителя. Помогал ему в политинформациях, в выпуске «Боевых листков». Спиридон Петрович еще недавно мне говорил: «Иван, на случай гибели моей, бумаги из полевой сумки забери, не оставь их!»
И вот теперь строгает Лонин костыли, а сам с тоской на меня посматривает.
Бой не утихал. То в одном месте, то в другом разгоралась яростная пальба.
Протянул мне Лонин костыли: «Ну, Иван, раз можешь идти, то вот в этом направлении и держись. Наш отряд в прикрытие оставлен. А ты, девка,– повернулся
он к медсестре,– бери-ка его автомат, вещмешок и пойдешь с ним!»
Поднялся я на свои палки, медсестра все мое на себя взяла, и мы тронулись: она впереди, а я следом. Может, и не много мы прошли, но долго показалось. В том же направлении двигались и другие. Шли молчком. Кто с палочкой, кого под руки вели. Вот, смотрю, и Коля Егоров. Он и без этого был худой, здоровьем слабенький, а тут – то ли вконец обессилел, то ли ранен в бою был – совсем парень оплошал. «Иван, говорит, не бросай меня, пойдем вместе».– «Пойдем, Коля, держись меня».
Справа озерко лесное, ковыляем тропкой по самому берегу, по камням да кустам пробираемся. Надо бы вверх подняться, там двигаться легче, да подъем крутоват, как на костылях одолеешь? Ползком, цепляясь за корни деревьев, за камни, за ветки, выбрались мы наверх, встали на ноги. А тут, смотрю, нас обгоняет наш отряд. Я к Попову: «Александр Иванович, не бросайте нас, до привала доберемся, а там, может, покушать что придется... Я пойду, я чувствую в себе силы еще, из последних сил пойду».
Александр Иванович посмотрел на меня, поискал глазами Лонина и говорит: «Лонин, Соболева доставишь до привала!» Чувствую, не очень хотелось Спиридону Петровичу от отряда отставать, тяжело вздохнул он и пошел ко мне: «Пошли, Иван». Я тогда рад был, что мужчину командир в помощь дал, и говорю медсестре: «Ты иди, Вера, с отрядом, там ты нужней будешь...»
Так мы втроем и двигаемся: впереди Лонин, за ним, метрах в двадцати, я, за мной, метрах в семи-восьми, Коля Егоров. Долго мы так шли – с час наверное, а то и больше. Вскоре догоняют нас Живяков и еще один, незнакомый, не из нашего отряда. Живяков за мной пристраивается и подгоняет: «Давай, давай быстрей, финны преследуют». Я отвечаю – «Я иду, я могу», а сам и действительно стараюсь из последних сил, на боль в ранах уже давно внимания не обращаю, как во сне иду. Живяков с тем незнакомым несколько раз минировали нашу тропу. И потом каждый раз подгоняли нас все сильней: «Скорей! Что мы, погибать должны из-за вас! Скорей!» Так мы двигались с полчаса. Впереди уже давно никого не видно и не слышно.
Смотрю, Лонин перескочил через упавшую сосну, оглянулся и идет дальше. Подошел к дереву и я, перенес
через него свой костыль, чтоб и самому перевалиться, и вдруг – удар в голову!
Я повернулся, увидел лицо Живякова, все понял и крикнул: «Пристрели! Чего патроны жалеешь!» Уже теряя сознание, услышал голос Лонина: «Что же ты делаешь, Живяков?! Совесть есть у тебя?»
Это я запомнил, потом – второй удар... Тут уж боли я не чувствовал, как по мешку пришелся этот второй...
...Было это часов в 10 утра 31 июля 1942 года. Очнулся, дело идет к вечеру. Лежу, голова свисла по одну сторону дерева, ноги—по другую. Начинаю припоминать, что же произошло, и тут теряю сознание. Опять прихожу в себя. Левая рука протянута вдоль дерева. Лежу животом на дереве и думаю: жив еще, значит.
Переваливаюсь через дерево, пытаюсь ползти вокруг него, то ли помню, то ли чувствую, что тут где-то Николай должен быть. Левый глаз ничего не видит – сильный отек и опухоль. Наконец подполз к Николаю, слышу, он стонет в беспамятстве. «Коля, друг, вставай, ты не один, нас двое»,– тормошу его, но так ничего и не добился. Посмотрел по сторонам своим единственным тогда глазом, вижу—винтовка Николая отброшена, вещмешок, плащ-палатка... Пополз, нанизал все это на руку, волоку к нему, а он уже не стонет... Словно оборвалось во мне что-то. Уткнулся лицом в землю и долго так лежал. Во рту все пересохло, язык опух, не пошевелить им. Помню, внизу озерко вроде было, пополз к нему. Отсунул ладонью зелень на воде, прямо ртом в воду уткнулся и пью, пью... Отдохну и снова пью. Разворачиваюсь, чтоб ползти обратно, смотрю: в пяти-шести метрах стоит лосиха – большая, красивая, и маленький лосенок возле ее задней ноги. Издала она звук какой-то и в кусты. Лосенок за ней. Пожалел я тогда, что не было с собой оружия...
Настала ночь, хотя и не очень темная...
Вернулся я к Николаю, пристроился метрах в двухтрех от него, укрылся плащ-палаткой и проспал до утра.
Просыпаюсь – яркое солнце, тепло, и есть страшно хочется. Ползаю по этому светлому сосновому бору, собираю чернику, бруснику полуспелую, и все в рот. Нашел несколько штук грибов, думаю – сейчас огонь раз-
зеду и будет завтрак. Полез в карманы, а спичек нет... Последний коробок оставался – и нет его.
Тут я вспомнил совет одного старого партизана перед походом. Был такой у нас в отряде – еще в гражданскую воевал... «Ребята,– говорит он,– идем на трудное дело и сами не знаем, сколько ходить будем. Возьмите каждый несколько спичек и кусочек чиркалки, заклейте их так, чтоб не промокли, даже если в воду попадут, и спрячьте подальше...»
Вспомнил я это, и руки задрожали от волнения – цела ли моя захоронка? Полез в маленький брючный кармашек– цела! Вытаскиваю и самому не верится – одиннадцать спичек и терка, в кусочек лейкопластыря заклеенные...
Приготовил сухого материала, чтоб не испортить лишнюю спичку, чиркнул и, когда сучки запотрескивали, от радости готов был вскрикнуть... А может, крик то и не получился бы у меня тогда!
Надеваю на палочку грибы, лежу, жарю. Нагрею, закопчу дымом и глотаю...
Трое суток ползал я по этой высоте, все поддерживал свой костер, грибы жарил. Сползаю к озеру, напьюсь и снова за грибы и ягоды. Вроде бы полегче мне стало.
Около Николая его перочинным ножом начал землю царапать, олений мох выдирать. Хотел могилу сделать, но не получилось. Подо мхом скала оказалась. Рядом был гладкий камень. Ножом выцарапал на нем, кто кем похоронен здесь, перекантовал к нему Николая, взял у него маленький медный компас, часы кировские карманные, отрезал кусок плащ-палатки, накрыл своего друга и давай мхом и мелкими камешками обкладывать. Сверху еловыми ветками накрыл. На другое сил не было.
Пополз к той злосчастной валежине, забрал свои костыли, вещмешок, винтовку и впервые за трое суток на ноги поднялся.
Взял курс на восток.
Много я пройти не смог. Часто останавливался. Сложу все около пня, а сам ползаю, пасусь, собираю, что попадет под руку.
В первый день пути, к вечеру, погода испортилась. Надвинулись тучи, лес стал черный, дремучий. Начал я подыскивать место для ночлега. Нашел вывернутую с корнем ель, на корнях дерн – что-то похожее на шалашик. Расстелил сверху кусок плащ-палатки, чтоб не капало, собрал мху, веток. Тут и грибы попадались, боровики. Только начал костер налаживать, ударил ливень. Пришлось костер чуть ли не в шалаш передвинуть. Гром, молния, льет как из ведра, а я жарю грибы на палочке и больше всего за костерок боюсь, его укрываю плащ-палаткой... Поел, поставил винтовку на боевой взвод, вставил запал в гранату и прилег. Мысли в голову разные лезут, а за всеми одна, главная: как выбраться? Я отчетливо понимаю, что бригаду мне уже не найти. Да и нужен ли я там такой – только лишней обузой буду, им, наверное, и без меня нелегко приходится. А мне спасение одно – перебираться через линию фронта, идти на восток. Я ведь даже не знал, где нахожусь и сколько до нее, до линии фронта? Может, пятьдесят верст напрямую, а может – и все сто... Дойду ли, хватит ли сил? Только бы раны не начали гноиться – тогда совсем беда.
Думал-думал и сам не почувствовал, как уснул. Перед походом в Сегеже показывали нам несколько кинофильмов: «Александр Пархоменко», «Свинарка и пастух», «Василиса Прекрасная». Наверное, уже задремал я, только вдруг вижу: баба-яга тянет через костер ко мне свои цепкие пальцы и вот-вот за горло схватит. Откуда у меня и силы взялись—метнулся из своего шалаша, схватил винтовку, а баба-яга вроде в мой шалашик через костер перепрыгнула. Вскинул я винтовку и не целясь – бах туда! Клацнул затвором – и еще раз, только эхо по лесу покатилось. Опомнился – стою с винтовкой, и мертвая тишина вокруг, только в ушах звенит от выстрелов. Гляжу, костер совсем заглох. Раздул золу – есть искорка, есть головешки. Воскресил свой огонь, так до утра и не сомкнул больше глаз.
Утром двинулся дальше. Снова на восток. Направление держал и по компасу, и по солнцу, и по деревьям, и по муравейникам. Один раз речку вброд перешел. Много лесных избушек видал, но ночевать в них не решался. Осмотрю везде, нет ли чего из еды, и дальше. В избушках финны останавливались. Обязательно кострища вокруг, пачки из-под сыра, коробки из-под сигарет, пустые консервные банки. Еды совсем не находил.
Однажды подхожу – небольшая речушка, и возле нее на бугорке избушка, как баня карельская: каменка-печка, полати, на них сено. Видать, спал кто-то. На каменке– спички, коробка неполная. Попробовал – горят. Обрадовался, а то у меня две спички осталось, я уже не каждый день костер развожу. Вышел я из избушки, смотрю, на болоте что-то чернеется. Присмотрелся, а это медведь. Морошку, видно, ест. Положил я винтовку на полусгнившее бревно, целюсь, но ничего не получается. Дрожу от волнения, да и глаз еще не прошел, плохо им вижу. Все же выстрелил. Медведь подхватился и пошел прыжками...
Наткнулся на лесной барак – наверное, до войны лесорубы жили,– под нарами нашел девять коробок спичек. Наши, довоенные, фабрики «Пролетарское знамя». Надеялся хоть на сухарик какой, но, видать, мыши вперед меня тут поработали.
Потом набрел на стоянку финскую. Светлый сосновый бор и, как городок, шалаши в ряд, хвоей сверху укрыты, а внутри травы постелено. Стоянка эта недавняя и, видно, на несколько дней была рассчитана. Хоть и побаивался мин, но начал по шалашам лазать, еду искать. В одном картонном ящике нащупал что-то, на раскисшие галеты похожее. Подхватил в горсть и, не раздумывая, в рот. Вывернуло меня всего – самовареп-ное мыло оказалось.
В одном шалаше висела на колу вязка щучьих голов. Штук двенадцать, если не больше. Головы огромные – мухи по ним ползают, живность белая шевелится. Схватил и на озеро. Выполоскал жестяную банку литра на 3—4, сунул туда эти головы, развел костер, переварил все это, наелся и лег спать. Утром кости в банке пережег и в сумку– съем и кости.
Дальше шел по тропе. По сторонам много черники и вся такая крупная, спелая. Снова вышел к избушке. Открыл дверь – та же печь-каменка, нары, спички, полочка, а на полочке котелок, рядом туесок из бересты и в нем соль – крупная, немолотая. А главное – туесок закрыт сверху краюхой позеленевшего хлеба. Я уж и не помнил, когда в последний раз бывало во рту что-либо хлебное. Схватил краюху, а есть сразу не стал, решил с большей пользой употребить. У озера на вешалах заметил рыбацкие сети, штук шесть их. Тут же навесик сделан, топчан из двух плах, яма камнем выложена, корзина из лучины, колун, перемет сушится. Присмотрелся – вроде давным-давно этим никто не пользовался. На озере плот из пяти бревен, борта досками обшиты и весла есть. Взял я две сетки и тут же закинул их с плота прямо от берега. Погода тихая, день ясный – долго ждать
добычи придется. Совсем рядом из этой губы уходит в лес речушка. На плоту проехал по ней, собрал в котелок ягод, грибов, вернулся и возле топчана развел костер. Смотрю, а сетки мои шевелятся – окуни попались.
Полный котелок начистил рыбы, поставил варить. Как закипел, окуней из котелка выбрал, хлеб туда сунул. Зелень вся наверх поднялась, выплеснул ее, а остальное все съел. Тут же новый котелок наладил, только рыбу чистить уже не стал – так жирней и наваристей будет. Съел и это, потом еще котелок черники сварил и снова поехал сети закидывать. Теперь уже взял все шесть сетей...
Четыре дня я тут пробыл. Рыба хорошо попадалась, и я почувствовал себя лучше.
Потом с ночи подул холодный северный ветер. Проснулся и думаю – идти надо. Сварю последний раз рыбы и пойду. Посмотрел сети, а там одна жалкая плотица... Выезжая на озеро, я брал на плот все свое имущество: если кто появится, чтоб сразу на другой берег податься.
Что делать, думаю. Неужто голодному в путь отправляться? Достал из вещмешка гранату, сдвинул чеку и бросил подальше от плота. Да подальше-то и не получилось– сил не хватило. Граната упала метрах в десяти от плота и сразу же рванула. Плот на ребро, сам я упал, карабкаюсь и смотрю – всплывет ли что? Ни одной рыбешки не поднялось.
Сети комом в воду выбросил, подъехал к берегу, оттолкнул плот и пошел... Придут на взрыв, пусть думают, что потонул человек.
Вышел на горелый бор. Иду долго, устал, а ему конца-краю нет. Думаю, уж и не выйти мне из него никогда, главное – ни ягод, ни грибов. Совсем из сил выбился и вдруг слышу шум какой-то слева. Вроде машина работает, молотилка колхозная, что ли. Пошел туда, а там – пороги на реке. Река не широкая, каменистая, а посмотрю на воду – и голова кружится. Нет, не перейти мне ее, сил не хватит. Пошел вдоль берега по течению, на берегу много кустов шиповника. Ягоды крупные, спелые – иду, срываю, ем. Смотрю – плотина, на другом берегу постройки. Залег в кустах, наблюдаю. Часа два прошло – ни единой живой души. На плотине – переход в один толстый брус, Идти не решаюсь. Сажусь верхом,
винтовку на шею и руками пересовываюсь. Так и перебрался.
Захожу в один дом. Это —баня: котел, дрова приготовлены, даже вода налита. Думаю, завтра же вытоплю ее, всю одежду пережарю. А ее-то, одежды, и осталось совсем ничего. Нижнее белье я давно в костер бросил – вши заедали, не было никакого спасения. Да и верхняя вся в дырках, из защитного цвета давно в черный превратилась.
Иду дальше, к следующему дому. Попадаю на кухню. Над дверью глухарь на русский штык приколот. Понюхал– падалью разит. Дальше – столовка: длинный стол из трех тесин, вокруг скамейки, около стола головки соленой рыбы валяются. Собрал их в банку, в следующий домик перешел. Там нары, человека на три, железная печурка, как духовка, и два листа противней. Коробки, ящики – все пустое.