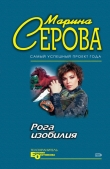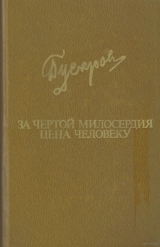
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
Пришлось собрать всех, пристыдить и пристрожить. Настроение чуточку поднялось. А в это время на руках у бойца Дготипцева скончался командир взвода Кли-маков...
Было около двух часов ночи. Выкопали неглубокую могилку, положили в нее комвзвода, не успели засыпать, как на нас наткнулась группа финнов. Опять спрашивают пароль. Я решил не отвечать и не отходить, пока по-хорошему не зароем могилу. Бойцы, как бы поняв мое решение, стоят молча с оружием наизготовку, двое продолжают зарывать могилу. Вторично кричат: «Туннус-сана?» И тут я не стерпел, крепко выругался по-фински и дал очередь. Они тоже выругались, ответили короткой очередью и откатились. Похоронив комвзвода, двинулись дальше на юго-восток и в километре от главной высоты опять наткнулись на окопы противника. В окопах никого не было, но метрах в пятидесяти горел костер и там находилось человек до тридцати. Они нас заметили, первыми открыли огонь, пришлось отскакивать в глубь леса, менять маршрут. Слава богу, обошлось без потерь. Хотя опасность и подстегивала, но сил у людей уже не оставалось. Бодрее других чувствовали себя политрук Врублевский, бойцы Наумов и Гаврилов. Двое последних были всегда при мне, беспрекословно выполняли любое приказание и шли куда угодно.
Местность, где нам пришлось маневрировать, была болотистая, лишь изредка попадался суходол. Высокие места занимал противник.
Прошли на юг еще около километра, невдалеке заметили костер. Одновременно услышали, как за болотом какая-то колонна продвигается на юг. Время было близко к рассвету. Подумали, что это отходят наши, так как бой на высоте стал затихать. Решили установить, чей костер и кто двигается за болотом. У костра никого не оказалось, но по бумажкам и почтовому конверту мы поняли, что был здесь противник. Приказав бойцам обогреться у костра,– а были мы все мокрые, озябшие,– я с бойцом Наумовым пошел наблюдать за болотом. По ту сторону болота, метрах в восьмидесяти от нас, двигалась гуськом на юг большая колонна. Шла она по опушке леса и тянулась бесконечно долго. Было еще сумеречно, моросил мелкий дождь, и трудно было понять – наши там или финны. Потом мы поняли, что это передвигается противник. На носилках несли раненых и убитых. Мы наблюдали минут пятнадцать, а колонна все шла и шла, было их не меньше двухсот человек.
И вдруг на нашей стороне болота у опушки леса, метрах в пятидесяти от нас, левее, замечаю трех человек. Потом вижу, как от идущей колонны отделяются какие-то люди, пересекают болотце, мимо часовых поднимаются на нашу высотку, а там – шалаш и палатка. Признаюсь, в первую секунду я оцепенел. Надо же – оказаться в самом логове врага. Бойцы продолжали греться у костра. Мы с Наумовым метнулись к ним. Я приказал залечь и выжидать, а сам лихорадочно решал – что же делать? Уже думал начать скрытный отход на север, но в это время из шалаша вышел офицер. Пройдя в нашу сторону метров десять – пятнадцать, он принялся справлять «малую нужду», а я стал медленно и тщательно целиться. Я хорошо видел его мясистое лицо и блестевшие знаки на петлицах. Короткая очередь – и он рухнул на землю без единого вскрика. Из шалаша выбежал еще один, с автоматом, окликнул и стал озираться по сторонам. Он не видел, что тот, кого он окликает, лежит в пяти метрах на земле. За ним выскочили еще пять человек в черных плащах, и я решил не ждать. Несколькими автоматными очередями я свалил еще двоих, пуля политрука Врублевского настигла третьего, а пуля бойца Наумова– четвертого. Двое залегли в кусты и выжидали, боясь обнаружить себя. По болоту уже бежали в нашу сторону солдаты. Мы быстро-быстро, сначала пригнувшись, потом в открытую сколько было сил помчались на север, и, к счастью, ни одного выстрела не прозвучало нам вдогонку.
Стало уже совсем светло. Мы на открытом месте, кругом на высотах – финны, а по нашей тропе идет группа преследования. Выхода не было, и я решил идти прямо к бригаде, от которой нас отделяло километра два. Мы не знали, что там происходит, хотя чувствовали, что происходит что-то серьезное. Яростная перестрелка вспыхивала то в одном, то в другом месте, но минометы давно уже не били. Несколько раз мы натыкались на финнов, нас обстреливали, мы отвечали и уходили.
На высоту 264,9 попали часов в девять утра, когда
бой совсем затих. Вышли через то самсе болото, на котором ранило Климакова, долго шли по пологому склону. Вокруг ни одной живой души. Потом стали попадаться убитые. Сначала финские, а потом на высоте – наши. Невыносимо тяжелое это зрелище – поспешно оставленное поле недавнего жаркого боя.
Мы почти напрямик пересекли высоту, с юго-востока на северо-запад, спустились с отвесной скалы и, решив, что наши, хотя и отошли, наверное, на запад, но потом обязательно повернут на север, мы взяли азимут 335° и двинулись дальше. Переправились через речку, прошли с километр и потом наткнулись на бригадную тропу...
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
(высота 264,9, 31 июля 1942 г.)
1
Второе наступление финнов продолжалось почти до рассвета.
Началось оно с усиленного минометного налета по линии обороны на северном участке, и он сразу же стал приносить партизанам ощутимые потери. Мины рвались на поверхности, люди жались к камням, к корням деревьев, но укрыться от осколков было трудно. Беспрерывно над сопкой взмывали ракеты, было светло как днем, автоматный и пулеметный огонь достиг такого накала, что, казалось, нет на высоте места, не прошиваемого пулями. Потом минометный огонь был перенесен в глубину и финны с трех сторон начали давление на оборону.
У партизан других команд не было – только одна, и ее постоянно передавали по цепи:
– Держаться!
Ее можно было и не повторять, каждый знал, что отступать некуда, высота, как казалось, окружена, рубеж единственный, и стоит финнам ворваться наверх, как все пропало.
Раненые не просили о помощи. Кто мог еще держать оружие, продолжал огонь, другие, у кого не было сил, корчились от боли у своего рубежа, и девушки-сандру-жинницы сами находили их по тихим стонам.
На некоторых участках финны подобрались к обороне совсем близко и залегли, продолжая вести интенсивный огонь. Партизаны понимали, что они накапливают силы и вот-вот двинутся в атаку – ведь разделяли их какие-то сто метров,– приготовили гранаты, вторые номера торопливо перезаряжали пулеметные диски, но решающего штурма все не было.
Проходил час за часом, обе стороны несли потери. Когда огонь чуточку ослабевал, снизу кричали по-русски и по-фински:
– Григорьев, сдавайся! Греков, сдавайся! Живыми
не уйдете!
13 разгар боя над высотой появились два самолета. Григорьев приказал разжечь опознавательные костры, сразу же на их свет ударили вражеские минометы. Один из костров тут же накрыло прямым попаданием. Как было условлено, Григорьев одну за другой выпустил четыре сигнальные ракеты. Невидимые во мгле самолеты сделали несколько огромных кругов и улетели, не сбросив продуктов.
...Вернувшись, летчики доложат командованию, что в указанном квадрате видимости практически не было, но, судя по всему, там шел бой, который вели, вероятно, партизаны; распознать, где какая сторона, возможности не было, отмечено множество костров и ракет; опасаясь, что продукты могут попасть к противнику, от выброски решили воздержаться.
Никто ни словом не упрекнет летчиков, да и за что их упрекать? Разве за то, что они не знали всей трагичности положения партизан в эти часы?
Но в эти часы и самой бригаде было уже не до продуктов...
Небольшой группе финнов удалось скрытно проникнуть на высоту с юга. Они начали прокрадываться в тыл обороны, но наткнулись в ложбине на нескольких раненых партизан, которым делала перевязку медсестра. Раненые были с оружием, они открыли огонь. Егеря перебили всех, включая медсестру. Услышав перестрелку на самой высоте, Григорьев направил туда автоматчиков из единственного своего резерва – из разведвзвода. Разведчики быстро окружили вражескую группу и почти полностью уничтожили. Захваченный в плен раненый вянрикки 2 держался надменно, сразу же заявил, что он не финн, а швед, словно бы это делало его личность неприкосновенной, и предложил партизанам сдаться, обещая отношение к ним в соответствии с конвенцией о военнопленных. Допрос через переводчицу вел Колесник. Григорьев сидел неподалеку. Его мутило, жаром полыхала спина. Недавно еще один осколок – теперь в ключицу– зацепил его, и левая рука почти не действовала.
Колесник уже кипел от ярости.
– Мать твою разэтак! – не выдержал он.– А раненых ты перестрелял тоже в соответствии с твоей конвенцией? Переведи ему!
Пленный выслушал и так же высокомерно ответил:
– То была война, мы защищали свою жизнь. Когда сдадитесь – войны не будет. Зачем ненужное кровопролитие!
В это время приблизился Григорьев. Он присел, послушал.
– Черт побери! Он еще дипломата корчит из себя! – по-фински произнес он и начал медленно вынимать из колодки маузер.
Пленный, теперь уже торопливо, повторил, что он не финн, а швед, и у него нет враждебных чувств к русским.
– Значит, доброволец? – Григорьев отвел предохранитель.
– Нет-нет... Я не из Швеции. Я родился в Финляндии.
– Меня интересует, не где ты родился, а с кем ты водился. Номер части, фамилия командира, численный состав, вооружение, когда и откуда прибыли? Ну!
– Я ранен. Мне нужна помощь.
– А я разве не ранен? Ты не видишь?
Секунду они молча, в упор смотрели глаза в глаза, и вянрикки не выдержал, опустил взгляд к руке, поднимавшей маузер, потом выпрямился, заговорил. Он сообщил, что против партизан действуют сейчас четыре роты из двух батальонов, сам он из егерского взвода батальона пять-восемь, подчинен командиру роты Перттула из четвертого батальона, что из Сельги и Янгозера вызвано подкрепление и к утру будет здесь.
– Какое?
– Не знаю... В Сельге остался второй батальон.
– А в Янгозере?
– Там эскадрон и два егерских взвода.
Колесник, как только ему перевели ответ, воскликнул:
– Запугивает, наверное... Сейчас опять о сдаче в плен начнет говорить, паразит...
– Не знаю,– покачал в сомнении головой Григорьев.– Уж больно на правду похоже... Почему бы этому подкреплению и не идти сюда, коль оно есть поблизости...
Медленно рассветало. Небо было затянуто серыми, как промокшая вата, пятнистыми тучами, они постепенно темнели, отслаивались, оседали, и день не обещал летной погоды.
Бой затихал. Стрельба слышалась по всему кругу обороны, но была она вялой и после недавнего напряжения казалась уже затишьем. Чувствовалось, что финны занимаются какой-то перегруппировкой своих сил.
Когда надежд на получение продуктов не осталось, Григорьев принял решение прорываться. Около шести часов утра он собрал командиров отрядов и изложил свой план. Один взвод отряда «Боевые друзья» немедленно приступает к наведению переправы через реку Тяжа. Разведвзвод по северо-западному склону проникает в тыл финнам и одновременно с отрядом «Боевые друзья» начнет атаку с целью прижать противника к болоту, под огонь отряда «Мстители». Отряды имени Антикай-нена и «Буревестник», под общей командой Кукелева, осуществляют прорыв в южном направлении и, развернувшись, атакуют противника вдоль восточного склона. В это время происходит быстрая эвакуация раненых. Когда противник будет сбит и отброшен, все отряды начинают отход на запад. В прикрытие на высоте остается отряд «Мстители»...
Все понимали, что осуществление этого плана даже при самом благоприятном исходе сулит немалые потери, но никто не высказал ни сомнений, ни возражений – это был приказ, и лучшего варианта не было.
Григорьев, сделав паузу, повторил мысль, которую он уже высказал вечером комиссару и начальнику штаба:
– Просто отойти мы не можем... Мы должны хотя бы на время отбить у противника охоту преследовать нас. Конечно, атаковать в двух направлениях – это нахальство с нашей стороны. Но именно поэтому оно и может принести успех. Важно действовать решительно и с той быстротой, на какую мы способны... Для эвакуации раненых каждый отояд направит в распоряжение санчасти по отделению. Дело это настолько трудное, что им займется комиссар бригады. Все! По местам и готовьтесь к прорыву!
Тут же все командование бригады распределилось на время прорыва по отрядам: комбриг пойдет с «чапаевца-ми», комиссар – с отрядом «За Родину», его помощники Кузьмин и Тихонов – с «антикайненцами» и «Буревестником», а Колесник будет согласовывать действия разведвзвода, «Боевых друзей» и «Мстителей».
Поручение комбрига обидно укололо Аристова. Даже не само поручение – тут ничего особенного не было, эвакуация раненых действительно серьезная проблема, и кому-то из командования бригадой ею надо заниматься. Удивило, как оно было дано. Григорьев мог бы заранее по-товарищески предупредить, что хочет, чтобы этим делом занялся комиссар. А то выдал при всех, без согласования, и чуть ли не в приказном порядке, словно комиссар сам не знает своих обязанностей.
Как только командиры разошлись, Аристов собрался объясниться или хотя бы намекнуть комбригу – не хотелось перед таким трудным боем оставлять на душе даже пустяковой недоговоренности,– но, глянув на Григорьева и увидев его воспаленное, все в наклейках лицо, его беспокойные, даже тоскующие глаза, тут же передумал, решил отложить до более удобного времени, а потом и вовсе устыдился своего намерения: «Черт возьми! О чем я? Об этом ли надо думать теперь?!»
Григорьев посидел, вслушиваясь в звуки неутихающей размеренной перестрелки, попросил закрепить левую руку на перевязь и ушел вместе со связным.
– Пройдусь по отрядам,– сказал он.– Как только сделают переправу, пусть сразу доложат.
Аристов снова – в который уже раз! —побывал в лазарете. Два часа назад там уже числилось двадцать шесть тяжелораненых, доставленных из отрядов. Человек десять кое-как, вплотную друг к другу, разместились в шалаше, остальные, накрытые плащ-палатками, лежали прямо под дождем. Бригадный врач Петухова, ее помощник военфельдшер Чеснов и несколько сандружин-ниц разрывались на части в попытках облегчить им страдания. Раненые продолжали прибывать, и Аристов был удивлен, когда узнал, что на данное время в санчасти находится двадцать три человека.
– Восемь человек уже скончались от ран,– с виноватой грустью пояснила Петухова.
– Скончались от ран,– машинально повторил Аристов. Он словно бы забыл, что люди могут не только мгновенно погибать на поле боя, но и умирать от полученных ран, находясь уже в санчасти.
– Да, мы были бессильны... Ранения бывают безнадежными.
– И много осталось... таких?
Петухова неожиданно заплакала.
– В наших условиях они все погибнут... Большинству нужны операции, ампутация конечностей... Где их проводить, когда, с кем? Мы успеваем только перевязывать. Почистим, перевяжем и все. Это ужасно, это ужасно!
– Успокойся, Екатерина Александровна... Никто не винит тебя,– проникаясь жалостью к ее слезам, сказал Аристов и, подумав, а что же будет, когда начнется прорыв, на мгновение растерялся и тут же, как это бывало с ним, вскипел и на себя и на собеседницу: – Что ты нюни распускаешь? На тебя люди смотрят. Соберись с духом, слышишь! Дай мне фамилии, кто умер, кто вновь поступил.
Аристов обошел всех раненых. Кто был в сознании и узнал его, тому сказал несколько ободряющих слов, кто лежал с закрытыми глазами или метался в бреду – над тем молча постоял, вглядываясь, узнавая и не узнавая его. Знал он многих. Вот и тот пулеметчик Прястов из «Боевых друзей», о котором недавно рассказывал комиссар отряда Поваров. В начале второго наступления он был тяжело ранен в грудь, но продолжал вести огонь и на попытки сандружинниц оттащить его от пулемета ответил: «В разгар боя коммунисты не уходят!» Стрелял, пока не потерял сознание... Теперь вот лежит он неподвижно с закрытыми глазами, часто и судорожно дышит, и две слабые струйки крови сбегают с уголков рта. Вспомнив, что он дал указание Поварову по возвращении оформить документы на награждение Прястова орденом, Аристов склонился к самому лицу пулеметчика и сказал:
– Ты слышишь меня, Прястов? Ты вел себя как настоящий коммунист, ты будешь представлен к ордену!
Ничто не шевельнулось в ответ на бледном, безжизненном лице. Аристов поспешно, кусочком бинта, вытер
стр /йки крови и зашагал в расположение штаба, а в сознании все еще звучал голос Петуховой: «Скончался от ран,..»
Вернувшись, он приказал вызвать Колчина.
Рослый, широкоплечий, с голубыми веселыми глазами, Колчкн был первым красавцем в бригаде. Он пришел в партизаны из Пудожского истребительного батальона; зимой, когда штаб бригады стоял в Чажве, а потом – в Теребовской, служил комендантом штаба, был примером исполнительности и находчивости, добровольно ходил в разведки, но проштрафился по женской линии, запутался в амурных историях с девушками из санчасти и был переведен в отряд с понижением в должности. В отряде служил хорошо, вел себя безупречно. Аристов много раз интересовался мнением о нем и получал положительные отзывы.
Теперь, когда возникла мысль создать группу для эвакуации раненых, лучшей кандидатуры для командования ею Аристов не видел. Такой найдет выход из любого положения.
Колчин явился, с готовностью выслушал задание и спросил:
– Разрешите вопрос, товарищ комиссар?
– Да, слушаю.
– Сколько всего раненых?
– Сейчас двадцать три человека...
– А сколько бойцов будет в моем распоряжении?
– Считай сам. По отделению из каждого отряда. Значит, человек около тридцати.
– Как же нести, товарищ комиссар? Даже по два человека на каждого раненого не приходится.
– А ты что хотел бы? – рассердился Аристов.– Чтоб полбригады тебе дали? Кому-то надо и воевать... Там есть раненые, которые с помощью и сами могут двигаться.
– Наверное, будут и еще раненые? Бой-то вон все идет.
– Будут, наверное.
– На прорыв пойдем, еще больше появится?..
– То не твоя забота. О них позаботятся в отрядах... Не узнаю тебя, Колчин! Ты что – торговаться сюда явился, что ли?
–г Я не торгуюсь, товарищ комиссар. Я думаю. Неужто и совсем безнадежных понесем, товарищ комиссар? И их, и себя мучить...
– Что ты предлагаешь?
– Неужто нет у наших докторов каких-то порошков, чтоб люди зря не страдали?
– Хватит болтать попусту, Колчин! Тебе ясно задание? Выполняй. Еще раз повторяю, чтобы ни один человек– больной или раненый —не остался на высоте. Головой ответишь,
2
Последний час перед прорывом Григорьев провел в странном состоянии нетерпения и внутренней оцепенелости. Ломило в висках, по спине то и дело прокатывался озноб, каждое неосторожное движение резкой болью отдавалось в раненом плече, он чувствовал, что силы были на исходе и надо бы поберечь их, посидеть и согреться; раз-другой он даже пытался сделать ©то, но как только опускался на землю, сразу туманилось в голове, клонило в сон. Быстро-быстро набегали тревожные видения, он вздрагивал, резко поднимался и вместе с болью возвращалась ясность сознания, а с нею – желание куда-то идти, что-то делать.
Но делать практически было нечего. Все распределено, все намечено, и все теперь будет зависеть уже не от него, а от этих ребят, которые всю ночь, голодные, усталые, израненные, провели под огнем и теперь, по его сигналу, поднимутся в последнюю атаку. Бой будет таким, что он, комбриг, в случае неудачи на каком-либо участке даже не успеет помочь, подбросить подкрепление. Да и где оно? Все в деле, каждый человек на счету, а единственный его резерв – разведвзвод – первым пойдет на прорыв.
Если бы только прорыв! Простой прорыв осуществить было бы легче: навалиться всей бригадой в одном направлении – и все! Но ведь насядут на хвост, будут отрывать кусками, по частям затянут в бой... Истощенным людям не уйти от свежих и сытых егерей. Нет, удачу Григорьев видел не в простом прорыве, а в таком, чтобы финны не смогли прийти в себя хотя бы сутки... Будет ли она? А если вся эта хитрость обернется лишь дополнительными потерями? Имеет ли он, комбриг, право требовать от своих людей так много, коль они безропотно отдали ему практически все – и веру, и силы, и жизни?
Раньше ему никогда не приходилось задумываться над этим. Ведь случались же и прежде ситуации, когда нужно было мучительно думать и выбирать. Почему же тогда не приходили в голову мысли о праве, о долге, о совести? Не потому ли, что там все оправдывали сами обстоятельства, они были ясны и понятны каждому. А может быть, потому, что этот бой может оказаться для бригады последним. Когда превосходство и инициатива в руках врага, легко оправдать любую неудачу, и никто не станет строго судить командира. Но когда командир берет инициативу на себя и терпит неудачу – тут совсем иное дело, тут судей хватит, и главным из них будет твоя совесть. Вспомнилось, как на базе, когда доводилось выпивать и они с комиссаром оставались с глазу на глаз, Аристов, делавшийся удивительно мягким, уступчивым и даже расслабленным, любил повторять: «С тобой, Иван Антонович, хорошо воевать. Ты честен и удачлив!» Было даже странно слышать о себе такое, странно и приятно. Григорьев лишь грустно усмехался в ответ. Честным и неунывающим в жизни – он, возможно, и мог бы считать себя, а удачливым – вряд ли... Ни разу не принял всерьез этого полупьяного откровения, а вот сегодня, острее, чем когда-либо, захотелось, чтоб оно казалось правдой. Как нужна она сегодня, эта удача! Не для себя, не для чести и славы, а для этих вот, дорогих и близких, безоглядно веривших ему людей, которых сюда, на эту каменистую, обильно политую кровью высоту привел он, и он теперь в ответе за все!
Григорьев сознавал, что и то, что теперь представлялось ему удачей в их положении, дорого обойдется бригаде, за нее придется заплатить слишком безвозвратную цену; это сидело в душе, как заноза, заставляло искать дела, двигаться, страдая от боли и безысходности дум,– но иного выхода он не видел, и он двигался, перебирался из отряда в отряд, спрашивал о самочувствии, подбадривал, улыбался, и мучительным утешением стало для него видеть на изможденных лицах ответные, полные надежды улыбки. Поэтому, когда ему наконец доложили, что переправа готова, Григорьев с каким-то внутренним облегчением дал команду начинать...
Через тридцать лет финский военный историк Хельге Сеппяля в своей книге «Советские партизаны во второй
мировой войне», рассказывая довольно подробно о по-росозерском походе партизанской бригады Григорьева, напишет о бое в ночь с 30 на 31 июля 1942 года всего несколько фраз:
«В конце июля бригада остановилась в финском тылу в ожидании подкрепления. И тогда финны силой до батальона предприняли атаку на партизан, однако в действительности сами оказались в трудном положении».
Со щадящей самолюбие своих соотечественников деликатностью он не решится сказать большего и не назовет даже цифр потерь, хотя в других случаях, при описании партизанских операций куда более мелких, он обязательно приводит потери с той и другой стороны.
Трудно предположить, чтобы такой сведущий специалист не знал, как в действительности закончился бой на высоте 264,9.
...Разведвзвод почти бесшумно скатился по западному склону, смял редкий заслон финнов, проскочил на соседнюю высоту, развернулся и повел быстрое наступление во фланг, вдоль северного обвода главной высоты. Следом за ним вступил в действие отряд «Боевые друзья». Судя по всему, финны и впрямь не ожидали такой дерзости и проявили удивительную беспечность. На рассвете они оставили на позициях половину сил и дежурные огневые точки, которые беспрерывно обстреливали партизанскую оборону, а другая половина отошла в глубь леса, разожгла костры, сушилась и завтракала в ожидании подкрепления. Считалось невероятным, что днем партизаны решатся на прорыв, да еще в северном направлении.
Неожиданность принесла успех.
Сбитые с позиций солдаты разбегались, отступали на восток, а паника усилилась, когда они попали под фланговый огонь сначала отряда «Боевые друзья», потом – «Мстителей». Они вынуждены были отходить через открытую низину на север, и это стало похоже на разгром: пулеметные очереди из десятка стволов сразу же заставили их залечь на голом месте, потом под шквальным огнем ползком и перебежками добираться до кустов. Успех был бы еще большим, если бы разведвзвод, боясь оторваться слишком далеко и оказаться отрезанным от бригады, не прекратил преследования.
Одновременно на южном участке начали действия отряды «Буревестник» и имени Антикайнеиа. Не ветре-тив серьезного сопротивления и почти незаметно они совершили такой глубокий обход, что неожиданно в лесу наткнулись на финский командный пункт, смяли его и повели быстрое наступление вдоль юго-восточного обвода высоты. В руки партизан попала штабная рация. Связной командира отряда Дмитрий Востряков меткой пулей сразил убегавшего офицера, вместе с комиссаром Николаем Макарьевым они наскоро собрали документы, и наступление продолжалось. Разрозненные группы финнов, отстреливаясь, отходили на север, между высотой и озером, к той самой горушке за болотом, на которой еще вчера были обнаружены их подготовленные позиции.
В это время комбриг Григорьев находился на правом фланге отряда имени Чапаева. В ста метрах правее и чуть впереди залегли остатки взвода Мелехова из отряда «За Родину». Недавно, чтобы ввести в заблуждение противника и обозначить попытку прорыва якобы в этом месте, Мелехов водил взвод в атаку и понес потери. Еще правее, невидимые отсюда, располагались готовые к броску вперед взводы Самсонова и Мурахина.
Приближались решительные минуты. Григорьев ждал этого момента, волновался и дрожал от озноба и нетерпения.
– Вася! – крикнул он связному.– Мигом к Колеснику. Пусть атакует одним взводом в сторону болота! Постой, дай-ка мне автомат!
– Товарищ комбриг! Я пошлю кого-нибудь другого! Я не оставлю вас...
– Я что сказал?! Быстро!
Сил было маловато. В отряде имени Чапаева оставалось всего два неполных взвода, третий, ушедший с Ефимовым, так и не вернулся. Но когда Григорьев по звуку стрельбы понял, что финны уже приближаются к болоту, вот-вот они начнут обходить его и дальше станут недосягаемыми, он не выдержал, дал ракетой сигнал к общему прорыву и закричал командиру взвода «чапаевцев»:
– Вперед! Поднимай взвод! За мной!
Он побежал первым, даже не оглянувшись, но твердо зная, что люди обязательно поднимутся за ним.
– Взвод, за мной! – услышал он позади голос, остановился, увидел действительно поднявшихся людей, на секунду мелькнула тревожная мысль: «Не рано ли?», но менять что-либо уже было нельзя, да и сильного встречного огня противник пока не открывал, пули посвистыва-
ли вокруг, но были они скорей всего случайными, и радостно подумалось, что финны, стоявшие против них, возможно, уже снялись с места, что до кромки болота недалеко и взвод успеет отсечь путь противнику, которого теснит сюда Кукелев.
Бежали бесшумно, все плотнее стягиваясь друг к другу. Кто-то обогнал комбрига, кого-то позади ранило, он вскрикнул и начал звать медсестру; на ходу Григорьев оглянулся влево-вправо и тут же споткнулся, едва не упал; болтавшийся на груди автомат больно стукнул по раненой руке, и сразу закружилась голова, по левой стороне груди потекло что-то липкое и теплое. Григорьев ухватился правой рукой за ствол молоденькой сосенки, секунду-другую постоял, уже понимая, что не автомат причинил ему боль, а наоборот – он спас его, ибо это пуля срикошетила от кожуха и снова задела раненое плечо.
До ольховых зарослей, обрамлявших болото, оставалось меньше ста метров. Впереди сквозь серую мглу слабо проступала та злополучная горушка...
– Комбриг, что с тобой? – спросил подбежавший комвзвода.
– Ничего. Вперед! Разворачивай взвод вправо. Не пускай их к той высотке!
– Я пришлю ребят!
– Не надо! Не теряй времени! Вперед!
Вслед за ним комбриг успел пробежать несколько десятков шагов. Он заметно отставал, сил уже совсем не было.
Взвод, разворачиваясь на ходу, бежал под прикрытием кустов наперерез отходящему противнику, Григорьев остался позади, и в это время длинная пулеметная очередь с горушки за болотцем сразила комбрига. Он медленно и бесшумно осел на землю и больше не шевелился.
Оглянувшись, командир взвода увидел позади неподвижного Григорьева, понял, что произошло. Одного за другим он послал к комбригу двух бойцов, но оба тут же на глазах погибли под пулеметными очередями, а через несколько минут спереди приблизился противник и стало уже не до этого.
Много финнов полегло возле этого болотца, но и из взвода, с которым пошел в атаку комбриг, удалось пробиться к своим лишь двум бойцам.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
(высота 264,9, 31 июля 1942 г.)
1
Еще до начала прорыва отделение Живякова назначили в распоряжение санчасти для эвакуации раненых.
В походе это была самая тяжелая и неблагодарная работа. Чертыхаясь, Живяков отвел своих ребят с позиции, по привычке пересчитал – из дсеяти человек в строю оставалось шестеро. Несколько минут посидели в укромном затишье, вытрясли из кисетов остатки махорки, выкурили одну на троих и поплелись разыскивать санчасть.
На подходе их заметил комиссар бригады, быстро бежавший вместе со связным им наперерез, в юго-восточный сектор обороны.
– Почему бродите? Из какого отряда? – издали крикнул он.
Живяков подошел, четко доложился.
– Почему так поздно? Быстро в распоряжение Кол-чина! Где носилки? Почему без носилок? Для вас их дядя делать будет, что ли? Стыдно, Живяков.
– Все сделаем, товарищ комиссар...
Изготовить походные носилки – дело немудреное: были бы под рукой жерди, а натянуть между ними плащ-палатку– тут и пяти минут хватит. Топор в отделении был, Живяков уже начал высматривать на ходу годные молоденькие березки, но их как назло не попадалось; так они дошли до санчасти, а здесь уже было не до носилок.
Эвакуация началась. Чтобы не терять времени, Кол-чин дал команду перетаскивать раненых к западному склону и спускать вниз, поближе к переправе. Людей явно не хватало, и он рассчитывал, что когда начнется отход, то там-то, у переправы, отряды не оставят их без помощи. Отправил на носилках пятерых и увидел, что таким образом ему с делом не справиться: свободных рук почти не осталось, а когда возвратятся ушедшие – кто знает. Расстояние невелико, и километра не будет, но обессилевшим людям и за час не обернуться.
– Отставить носилки! – приказал он, решив в первую очередь эвакуировать тех, кто хоть как-то, пусть с
посторонней помощью, но в состоянии подняться и двигать ногами.
– Ребята! – сказал он, обращаясь к раненым– Скоро пойдем на прорыв. Нести некому. Кто может встать на ноги – поднимайтесь, поведем под руки. Надо хоть ползком добраться до переправы. Это недалеко. Там помогут отряды. Кто в силах—поднимайтесь!