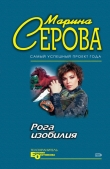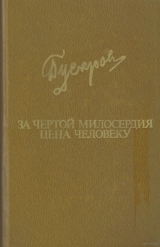
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Переход в новые делянки – привычное дело для лесорубов. Однако на этот раз он производился так, как будто совершалось что-то поистине грандиозное и невиданное. Возможно, это лишь казалось Виктору, который за множеством дел даже и не заметил, как минул день. Когда пришла «пищеблоковская» машина, он наспех пообедал, собираясь вздремнуть хотя бы полчасика, но как только привалился на скамью в кабине передвижной электростанции, мысли сразу вернулись к вчерашним событиям.
Теперь все воспринималось как-то по-иному. Вчера он жил одним чувством – что-то делать, не терять ни минуты... Остальное казалось само собой разрешимым. Сегодня этого уже было мало. Сегодня его беспокоил результат. Беспокоило даже письмо в Москву.
«У кого хватит терпения читать его целые полчаса?» – с досадой думал он, уже жалея, что поторопился отправить письмо.
В исходе дела он не сомневался и сегодня. Тут важно, чтобы там проявили интерес, а все остальное настолько очевидно, что даже и сомневаться не в чем. А вот заставит ли его письмо проявить внимание к делу Павла? Не лучше ли было написать обычное небольшое заявление, а уж потом, когда дело станут пересматривать, дать подробные пояснения?
Вечером, вернувшись в поселок, Виктор забежал на почту.
– Вы отправили мои письма?
– Конечно,– успокоила его девушка.– Пожалуйста, квитанции и сдача...
– Вот досада! – воскликнул Виктор.– А их нельзя никак задержать, а?
Он и сам знал, что это невозможно, но был в таком огорчении, что все-таки спросил.
– Что вы! – рассмеялась девушка и действительно стала похожа па Верку, которую смешно было бы называть по отчеству.– Да они уже в Петрозаводске, наверно... Вы знаете, я вас искала. Вам звонили из Петрозаводска.
– Мне из Петрозаводска? – удивился Виктор и сразу же подумал: «Наверное, Чадов! Опять будет оправдываться...»
– Будут повторно звонить в девять часов. Ждите в конторе! Надеюсь, выписывать вам официальное приглашение не надо?
В семь вечера почта закрывалась. Райцентр соединялся напрямую с квартирой Орлиева или с конторой лесопункта, где ночью дежурит сторожиха.
К девяти часам в конторе никого не осталось. Последним ушел Орлиев. За целый день они не обмолвились ни словом, но Тихон Захарович уходил как-то медлительно, словно знал о предстоящем разговоре и это очень интересовало его.
В начале десятого зазвонил телефон. Виктор почти нисколько не сомневался, что звонит Чадов, и был очень удивлен, когда услышал незнакомый голос:
– Это кто – Курганов?
– Да, да, это я,– ответил Виктор, начиная догадываться, кто вызывает его, но еще боясь ошибиться в своем предположении.
– Здравствуй, Курганов... Что, никак, уже не узнаешь по голосу? А всего-то и не виделись девять лет.
– Здравствуйте, Андрей Николаевич.
– Это ты мне звонил вчера? Ты? Тут у меня что-то напутали...
– Ничего не напутали, Андрей Николаевич! Все правда. Кочетыгов жив, он в заключении, в Чоромозе-ре... Он был в плену, понимаете... Это я во всем виноват... Я написал уже в Москву.
– Постой, постой... Теперь ты меня действительно запутал.., С такими делами ты мог бы и не звонить, а приехать в Петрозаводск. Разве по телефону о таких делах говорят?
Виктор, почему-то посчитав, что Дорохов тоже не проявляет должного внимания к судьбе Павла, резко ответил:
– Приехать я не могу.
– Почему?
– Завтра мы начинаем работу в новом квартале.
– Ну, а послезавтра? Или через два-три дня?
– У нас, знаете, как трудно сейчас...
– Трудно, говоришь. Ты хочешь, чтоб я приехал, что ли? У меня работы меньше, видать...
От радости Виктор даже не обратил внимания на иронию в голосе Дорохова.
– Конечно! Это очень-очень нужно, честное слово! – воскликнул он так горячо, что Дорохов рассмеялся:
– Спасибо за приглашение... Я, конечно, приеду. А сейчас ты можешь мне рассказать все по порядку? Можешь? Тогда начинай! Не торопись и говори спокойно... Я слушаю!
– Знаете... Лучше все-таки приеду я... Нет, завтра я действительно не могу, а послезавтра обязательно приеду... Письмо в Москву я уже отправил...
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Четвертый рассказ о войне
1
В марте 1944 года после неудачной войттозерской операции отряд Орлиева был переброшен в Заполярье. В средней Карелии уже чувствовалось приближение весны, а здесь, в далеком поселке Ковдор, откуда на запад уже не было ни дорог, ни троп, еще вовсю властвовала зима, с трескучими морозами, снегопадами и многодневными метелями.
До середины апреля партизаны совершили два успешных лыжных похода в глубокий тыл и готовились к треть*
m
ему – последнему перед длительным отдыхом на время весеннего распутья.
Молоденькая фельдшерица, недавно присланная в отряд, вечером явилась в штаб и, выждав, когда командир останется один, доложила, что сандружинница Рантуева в поход идти не может.
– Почему? – нахмурился Тихон Захарович.
Зардевшаяся фельдшерица, стараясь не произносить самого этого слова, дала понять, что Рантуева беременна.
– Что? – воскликнул Орлиев.– Да ты понимаешь, что говоришь?! Да ты видела ли вообще беременных женщин и знаешь ли, что это такое?
Совсем растерявшаяся фельдшерица пояснила, что ошибки никакой нет, что Рантуева уже на четвертом месяце и в поход идти не может.
– А ты куда смотрела?! – загремел Орлиев.– Подчиненные делают черт знает что, а она, видите ли... Перестань нюни распускать, слышишь! Пиши сейчас же официальный рапорт и позови сюда Рантуеву!
Оставшись один, Тихон Захарович не только не успокоился, а разошелся еще больше. Подумать только, какой позор! До него доходили слухи, что в других отрядах случалось такое, но чтобы подобное произошло у него?! Да еще с Олей Рантуевой, его землячкой, которую он всегда ставил всем в пример?!
– Это еще что за новость? – спросил Орлиев, когда Рантуева, остановившись у порога, доложила о своем прибытии.
Рантуева продолжала смотреть в лицо командиру, как будто не понимала, о чем ее спрашивают. Тихон Захарович оглядел сверху донизу ее высокую стройную фигуру и никаких перемен не заметил. Вероятно, белый, отороченный мехом полушубок скрадывал их.
– Это правда, что доложили мне? – спросил командир не без надежды, что все еще может оказаться недоразумением. Оле – такой славной, ловкой, красивой – не придется заканчивать партизанскую службу таким образом, да и репутация отряда останется чистой...
– Правда.
Если бы Оля расплакалась, покаялась, попросила помощи, Тихон Захарович, возможно, поступил бы по-иному. Но она продолжала смотреть в глаза командиру так спокойно, как будто ничего не случилось.
– Кто? – с дрожью в голосе спросил Орлиев, кивнув куда-то за окно в сторону барака, где жили партизаны.
Рантуева молчала.
– Кто тот подлец? – лицо Орлиева медленно наливалось не предвещавшей ничего хорошего багровостью.– Я спрашиваю, кто тот подлец, который позволил себе такую гнусность?
– Почему он обязательно подлец? – тихо спросила Оля.
– А кто же он? Кто? – неожиданно взорвался Тихон Захарович визгливым, совсем несвойственным ему выкриком.– На такое способны лишь подлецы! Соблазнить девчонку, вывести из строя сандружинницу! Да я ему сделаю, знаешь – что?!
– А если он хороший человек?
– Кочетыгов? Говори прямо, не виляй!
– Для вас это не имеет значения, но меня никто не соблазнял.
– Ах, ты еще хочешь быть и благородной? Ну-ну. Ты знаешь, что ты сделала?
– Знаю.
– Ты знаешь, что завтра же я отчислю тебя из отряда?
– Знаю.
– Ни черта ты не знаешь, дура этакая! – вновь вскипел Орлиев.– Что вы можете знать, молокососы несчастные?! Вы только и умеете глупости делать... Вот что: завтра же отправишься в Беломорск. Я дам письмо начальнику медицинской службы, и там тебе сделают аборт... В отряде никто не должен знать этого. Фельдшера я предупрежу.
– Аборта я делать не буду,– чуть помедлив, твердо сказала Оля.
Орлиев почувствовал, что еще одно слово, и он потеряет контроль над собой. Отвернувшись к окну и глядя в темноту ночи, он подумал: «Взять бы сейчас ремень, зажать меж колен твою глупую голову, да пороть, пороть, пока не заплачешь, не закричишь истошным голосом, которым и должна кричать баба в твоем положении».
– Если бы то, что сделала ты,– чуть успокоившись, начал Тихон Захарович,– мог сделать мужчина, я немедленно отдал бы его под суд. Нет, не только за нарушение дисциплины, а за трусость. Как самострела, понятно?
– Уж не обвиняете ли вы меня в трусости? – чуть заметно усмехнулась Оля.
– Да, обвиняю. И не без оснований. Война не закончена.
После недолгого молчания Оля вдруг сказала:
– Тогда, товарищ командир, у меня к вам просьба.
– Ну,– обернулся Орлиев, почувствовав в ее голосе что-то новое.
– Разрешите мне сходить в последний поход. Я могу, вы не думайте! Никто и знать не будет... А потом уж отчисляйте. Разрешите, прошу вас!
Тихон Захарович даже фыркнул в гневе от того, что вновь обманулся в своих надеждах.
– А умнее ты ничего не могла придумать? Завтра или скажешь мне, кто он, и поедешь на аборт, или будешь отчислена из отряда. Выбирай!
– Можно идти?
– Иди.
Через три дня Рантуева покидала отряд.
Сквозь оттаявший глазок в заиндевелом окне Тихон Захарович рано утром наблюдал, как в сопровождении подруг она вышла из санчасти, вскинула за плечи вещевой мешок и по переметенной за ночь дороге медленно направилась на восток, к поселку Ена, чтобы оттуда на попутных машинах добраться до железной дороги.
Жалость и гнев бушевали в душе Орлиева. Уходила партизанка, взявшая в руки оружие еще в первый месяц войны. Тогда она была совсем девчонкой. Тихон Захарович хорошо помнил, с какой мольбой смотрела она на районную «тройку», формировавшую в июле партизанский отряд. Тогда все решил голос Тихона Захаровича, знавшего Олю чуть ли не со дня ее рождения. Три года боев, походов, лишений... И теперь вот она уходит, чтобы через пол года стать матерью.
«Разве так должна покидать отряд славная партизанка, орденоносец?»—думал Тихон Захарович, глядя на удалявшуюся по дороге фигуру.
Но как только он вспоминал их разговор и перед глазами вставало гордое, даже чуть надменное лицо Оли – гнев, досада, злость не оставляли места жалости. «Только так, только так...– твердил он про себя.– Чтоб ни на минуту не забывали о долге. Своевольничают, делают глупости, да еще и не хотят признавать своих ошибок!»
Долго метался Орлиев по тесной комнате штаба, убеждая себя в своей правоте и чувствуя, что прав он далеко не во всем. Он уже досадовал и на комиссара Дорохова, который находился на совещании в Беломорске. Во всем случившемся есть и его упущение. Комиссар должен лучше других знать, что творится в отряде. Особенно во время отдыха.
«Будь на месте Дорохов,– раздумывал Тихон Захарович,– вопрос о Рантуевой мог бы решиться и по-иному. Он сумел бы уговорить эту строптивую девчонку открыться, признать свою вину».
В отряде любили Дорохова, и Орлиев втайне завидовал своему комиссару. И не только завидовал, но и досадовал, так как во всем этом он видел что-то несправедливое по отношению к нему, к командиру. «За что любят бойцы комиссара? – спрашивал себя Тихон Захарович и без колебаний отвечал:– За то, что он добрый, никогда не обращается к бойцам командирским тоном, ведет себя с ними запросто и даже нередко выступает «ходатаем» за провинившихся. Чего стоила бы такая любовь, если бы в отряде не было командира, который не может позволить себе что-либо подобное? Вот и получается, что авторитет комиссара держится за счет командира. Люди не понимают этого. А ведь не напрасно в армии упразднили институт комиссаров и ввели единоначалие».
И все же теперь, как и всякий раз, когда Дорохова не было рядом, Орлиев чувствовал себя не очень уверенно. Если бы комиссара не было вообще – тогда другое дело. А то приедет, узнает все и наверняка не одобрит. «Поторопился, скажет, ты, Тихон Захарович. Явно поторопился. Отчислить человека никогда не поздно».
А того и не понять ему, что речь идет сейчас не просто о человеке... Для Дорохова Оля – обычная сандру-жинница, каких в отряде восемь. А для него, для Орлие-ва, она – односельчанка, партизанская «крестница». Может, поэтому он и поступил с ней так строго, чтоб другим неповадно было...
На столе стыл принесенный связным завтрак, но Тихон Захарович к нему не притронулся. Уже пора было собирать командиров взводов, давать учебное задание на день, когда Орлиев велел вызвать отрядного ездового.
– Запрягай! Поедешь в Ену за почтой,– распорядился он.
– Почта только завтра будет,– напомнил ездовой.
– Я говорю – запрягай и отправляйся за почтой,– сурово сдвинул брови Орлиев и, помолчав, добавил:– Если кого по дороге нагонишь, подвези. Слышишь?
Это было самое большее, что, по его мнению, мог он позволить себе, не подрывая дисциплины в отряде.
2
С первым пассажирским пароходом, пришедшим из Шалы в только что освобожденный Петрозаводск, приехала и Оля. Одетая в подаренный сестрой, изрядно поношенный жакет, с чемоданом в руке и вещмешком за спиной, она сошла по трапу на временную пристань и, предъявив документы, начала подниматься в гору.
В то лето в Карелии буйно и долго цвела сирень. Было даже как-то странно видеть среди запустения и разрухи эти не опаленные ни жарой, ни войной свежие н нежные цветы. Их дарили победителям, с букетами сирени встречали после долгой разлуки родных и близких.
Олю не встречал никто. Она даже не знала, жива ли се сестра Ирья, у которой она рассчитывала остановиться в Петрозаводске. Два месяца прожила Оля в Шале у старшей сестры. Работала на лесопилке. Каждый день бежала домой с ожиданием чего-то необыкновенного. Была почти уверена, что и сегодня писем не будет, ведь ее адреса никто из партизанских друзей не знает, и все же в самом ожидании она находила какое-то утешение.
Как только пришла весть об освобождении Петрозаводска, Оля твердо решила, что должна поехать туда. Напрасно старшая сестра уговаривала остаться в Шале, упрашивала, даже бранила. С большим трудом удалось уволиться, еще сложнее было достать пропуск и получить на пароходе место, но Оля от своего не отступилась.
И вот она медленно поднимается по разбитой булыжной мостовой к центру города. Оля уже не могла бы скрыть свою беременность. Да она и не собиралась скрывать ее, хотя даже самые добрые и сочувственные взгляды встречных вызывали у нее досаду.
«Они думают, мне тяжело, а мне вовсе не тяжело. И иду я медленно совсем не поэтому. А потому, что торопиться мне некуда. Если Ирья и дома, то она не очень-то обрадуется моему приезду. У нее у самой семья, а муж-то на фронте...»
На площади Кирова ее окликнули:
– Вам далеко, гражданочка?
Два моряка с карабинами на ремне остановились напротив. Один даже сделал попытку взять у нее чемодан.
– Улица Широкая Слободская...– Подумав, что они хотят проверить у нее документы, Оля выпустила чемодан и полезла в карман жакета.
– Не беспокойтесь, пожалуйста... Коля, давай, действуй!
Моряки остановили первую попутную грузовую машину, о чем-то пошептались с шофером, усадили Олю в кабину и прощально помахали рукой. Вскоре Оля стояла у калитки дома, где жила ее сестра.
Как она и думала, радостной оказалась лишь только встреча. Четверо полуголодных ребятишек смотрели на ее вещмешок с такой надеждой, что Оля не выдержала, выложила на стол все скудные припасы, выданные ей в Шале на десять дней.
Она понимала, что паек, получаемый семьей, завтра придется делить уже на шестерых, но трудно было без слез видеть детей, растерявшихся от неожиданного для них счастья. Четырехлетняя Таня, вероятно, ни разу в жизни не едала рыбы. Она удивленно и даже недоверчиво смотрела на черного соленого налима, потом вслед за старшими взяла ломоть и принялась жадно отдирать молоденькими зубками кусочки жесткого рыбьего мяса.
О муже Ирья ничего не знала со дня оккупации Петрозаводска. Она вообще мало что знала. Три года прошли в каком-то отупении: только бы прокормить детей, только бы не дать им умереть с голоду! Так день за днем, неделя за неделей, год за годом. Как во сне Ирья припомнила, что однажды в их комнате появился дед Пекка. Зачем он приезжал в Петрозаводск, она не знала. Она только хорошо помнила, что он ничего не привез внучатам.
– Подумай только,– даже теперь с обидой жаловалась она Ольге.– Приехал из деревни и ничего не привез!
Оля попробовала защищать отца, поясняя, что в деревне тоже голодали. Сестра слушала, кивала головой, однако со слезами повторяла:
– Подумать только? Приехал и не привез.
Ирья была так потрясена всем пережитым, что об Олином положении спросила лишь мимоходом.
– Когда? – кивнула она на ее выпиравший под жакетом живот.
– В октябре, наверное.
– Может, к тому времени с питанием и наладится,– вздохнула Ирья.
Тяжелое то было время для петрозаводчан!
Рухнула стена долгого безвестия, окружавшего город, и люди в те дни разом узнавали о многих горестных утратах. Письма, запросы, извещения. И в каждом из них – одно: жива ли семья, жив ли отец, сын, брат? Трудно было найти семью, которой не коснулась беда. В те дни люди были особенно беззащитны перед ней. Одна-две короткие фразы делали их счастливыми или приносили непоправимое горе.
Тяжелое было время, но и радостное!
Семьями – от мала до велика – выходили отощавшие, полураздетые люди на расчистку улиц освобожденного города. Строились переправы через Лососинку и Не-глинку, сносились колючие оцепления концентрационных лагерей на окраинах, оборудовались временные пекарни, магазины, налаживались водопровод и канализация.
Вместе с семьей Ирьи выходила на общественные работы и Оля. Даже маленькая Таня целыми днями вертелась около взрослых, больше мешая, чем помогая им. Но никто не упрекнул за это ни мать, ни девочку. Нелегкий для изнуренных людей труд воспринимался в те дни как праздник, на который имели право все.
Оля не знала, как она будет жить дальше. Конечно, она должна поступить на работу. В горкоме комсомола помогут ей. Но посещение горкома Оля откладывала со дня на день. Там придется все подробно объяснить и рассказать... А сейчас, через три месяца после ухода из отряда, ее положение нисколько не прояснилось. От Виктора никаких вестей не было. Она не могла сообщить ему свой адрес, так как не знала, куда и в какой госпиталь направили его. Теперь-то он наверняка вернулся в отряд. Писать в отряд ей не хотелось. О ее письме обязательно узнает Орлиев, он легко догадается обо всем, и весь его необузданный гнев обрушится на Виктора. Нет, она будет ждать. Тем более, что ждать остается недолго. Война иа Карельском фронте уже близится к концу.
В начале октября в столицу республики для участия в партизанском параде съехались все отряды.
Оля узнала об этом поздно вечером от вернувшейся с работы Ирьи. Ей уже было тяжело двигаться, и с каждым днем она все реже выходила на улицу.
В тот вечер Оля не могла сидеть дома. Одевшись во все лучшее, она пошла к центру города. Отыскивать свой отряд она не собиралась, ей хотелось и не хотелось встретить кого-либо из партизан, но беспокойное чувство заставляло ее бродить по слабо освещенным городским улицам, радостно вздрагивать и смятенно опускать голову, когда впереди угадывались силуэты идущих ей навстречу шумных и веселых партизан. На счастье, ей попадались лишь люди из других отрядов. Со многими из них Оля была хорошо знакома, она угадывала их по голосам, но сейчас они не узнавали ее. Они широко шагали прямо по булыжной мостовой, громко переговаривались со встречными девушками, шутили, пели, смеялись,– в общем, вели себя так, как обычно ведут себя партизаны после трудного и удачного похода.
Дома Олю встретила сияющая от счастья Ирья.
– Куда ты пропала? К тебе из отряда приходили...
Оля почувствовала, как ее сердце на мгновение остановилось и вдруг забилось быстро-быстро...
– Кто? – тихо спросила она.
– Трое приходили. Один пожилой мужчина в очках и две девушки – Клава и Надя. Еле, говорят, разыскали тебя. Смотри-ка, сколько продуктов принесли! Консервы, сухари, сахар... Долго сидели... Завтра после парада опять зайдут...
«Пожилой в очках – это, наверное, Дорохов»,– подумала Оля и больше не произнесла ни слова. Сестра до поздней ночи восторженно нахваливала и щедрость, и доброту к детям, и обходительность гостей из отряда. Оля лишь грустно улыбалась и согласно кивала головой, когда Ирья обращалась к ней за подтверждением.
Назавтра выдался чудесный солнечный день. С утра на Круглой площади гремела музыка. Казалось, весь город вышел на улицы, чтобы наконец-то увидеть тех, о чьих славных делах слагались легенды и песни, но чьи имена три года тщательно скрывались под таинственны-
ми инициалами даже в самых подробных очерках и корреспонденциях.
Лозунги, знамена, счастливые возбужденные лица.
В центре площади, перед пьедесталом памятника Ленину, отрядными колоннами выстроились партизаны. Блестит на солнце начищенное оружие! Прошел уже месяц, как в карельских лесах прогремел последний боевой выстрел. А сколько их было за три года?! Сколько сотен тысяч гильз ржавеют по обочинам трудных партизанских троп, каждая из которых прокладывалась в жестоком бою! Сколько неприметных партизанских могил разбросано по необъятным карельским просторам от Шелтозе-ра до Заполярья?
Теперь пришла победа!
В последний раз алеют ленточки на пилотках и фуражках. Завтра одни из партизан сменят их на солдатские звездочки, другие просто снимут их, чтобы снова стать штатскими людьми.
Это будет завтра! А сегодня, держа равнение, они крепко прижимают к груди до блеска обтершиеся в боях и походах автоматы... Сегодня они в первый и последний раз собрались все вместе, чтобы торжественным победным парадом завершить трудное дело, начатое три года назад!
Гремит музыка, колышутся флаги, ярко светит солнце...
Оля стояла в отдалении, на углу Комсомольской улицы, и между головами соседей видела колонны партизан. Она пришла сюда задолго до начала парада, и ее ежедневно опухавшие ноги уже начали наливаться покалывающей тяжестью. Все чаще и чаще внутри вздрагивало и напрягалось то, что теперь с каждым днем настойчивей заявляло о своем праве на самостоятельность. Удивительное это чувство – ощущать в себе другую жизнь! Вначале оно пугало каждым неожиданным шевелением, заставляло нервничать, чутко прислушиваться к слабым трепетным толчкам. Потом Оля так привыкла к этому, что, кажется, не было на свете ничего приятнее, чем постоянно ощущать требовательное беспокойство будущего человечка...
В последние месяцы Оля жила одной мыслью – только бы сохранить ребенка, только бы не сделать чего-либо такого, что помешало бы ему появиться на свет. Сколько раз с завистью смотрела она на своих племянников, больше всего на свете желая, чтоб и ее сын был таким же выносливым, как эти, столько перенесшие за годы оккупации дети!
Закончился митинг, разнеслась над площадью строевая команда, замерли шеренги партизан.
Оля всей душой там, среди товарищей. Она вытягивает голову, встает на цыпочки. Она даже задерживает дыхание, как будто и ей в следующую секунду тоже предстоит сделать первый четкий шаг на виду у тысяч людей...
С первыми тактами музыки глухо вздрогнула площадь, и качнулись сотни голов с красными лентами наискосок... И одновременно с этим резкая распирающая боль в пояснице заставила Олю пошатнуться, скорчиться, обхватить руками живот.
– Антикайненцы идут! Слава антикайненцам!
– А это «Буревестник»!
– Ура карельским партизанам!..
Оля не видела, что происходит на площади. Она слышала музыку, шум толпы, глухой мерный топот. По выкрикам она догадывалась, какой из отрядов проходил вблизи нее.
Через минуту боль начала утихать. «Ну, успокойся, миленький, ну, успокойся, прошу тебя!» – шептала Оля, ласково поглаживая себя по обмякшему, словно уменьшившемуся животу.
– Орлиевцы идут! Орлиевцы!
– Вот это выправочка! Вот это молодцы!
Оля выпрямилась, снова встала на цыпочки. Совсем рядом шел ее отряд. Близкие, дорогие люди. Сейчас их лица взволнованно сосредоточены, устремлены вперед, но, боже мой, какие они все родные... Быстрым ищущим взглядом Оля скользит по ним, узнавая их, почти ни на ком не задерживаясь. И вдруг она поняла, что его среди них нет. Мимо уже идут сандружинницы, заключавшие отрядную колонну.
– Надя, Клава! – не сдержавшись, кричит Оля, протискиваясь вперед. Перед ней расступаются, на нее оглядываются.
Отряд удалялся. Подруги или не слышали ее голоса, или не решились нарушить церемонию марша. Оля, опустив голову, пробирается сквозь толпу назад. Она уже почти стонет от непрекращающихся приступов.
– Что с вами, девушка? Вам плохо? – спрашивает одна из женщин и, не дожидаясь разрешения, подхватывает ее под руку.
– Не надо, не надо! Я сама!—задыхаясь, упрашивает Оля, но, как только они выбираются из толпы, женщина, окинув ее опытным глазом, почти приказывает:
– Идемте, я отведу вас... Разве можно так рисковать?! Не беспокойтесь, я медработник и зря говорить не стану.
...Вечером, встревоженная долгим отсутствием сестры, Ирья отправилась ее искать и на всякий случай заглянула в родильный дом. Там ей ответили, что в шесть часов Рантуева Ольга Петровна родила сына.
ГЛАВА ВТОРАЯ 1
В середине октября на дороге между поселком и старой деревней остановилась грузовая машина, следовавшая из райцентра в сторону Заселья. Из кузова на землю спрыгнул молодой человек в черном пальто, в темносинем костюме и серой низко надвинутой на глаза шляпе. Все на нем было новым, хотя слегка и помятым за долгий путь, но еще не успевшим пообноситься и поэтому выглядевшим как бы с чужого плеча.
Кивнув шоферу, молодой человек перекинул с руки на руку легкий чемодан и, поглядывая по сторонам, направился по тракту к видневшейся впереди деревне.
Он так спешил сюда, что не стал ждать в Петрозаводске автобуса и всю ночь добирался на попутных машинах. Однако дойдя до косогора, откуда с дороги сбегала, сокращая путь к деревне, давняя тропка, он вдруг остановился, как будто торопился увидеть лишь ее, эту узкую петлявшую между валунами тропу.
Все вокруг изменилось за эти двенадцать лет – даже озеро, даже лес по его берегам, даже хмурое, пропитанное холодной сыростью небо казалось удивительно чужим и неприветливым, а тропа осталась прежней. Деревня постарела, осунулась, дома еще печальнее и настороженнее нависли над водой. Сосновый бор, где до войны стояло лишь несколько бараков лесопункта, отодвинулся в сторону, уступив место ровным улицам плотно застроенного поселка, Новые дома, дороги, машины, электролинии,,.
Он не жалел прежнего. После того, что произошло с ним, даже самые безмятежные годы давно уже приобрели в его сознании оттенок печальной предначертанное™ того, что случилось позднее. Он не любил их вспоминать.
Теперь он, вероятно, искренне радовался бы переменам, если бы не щемящее чувство, что все новое сделано без него, что благодаря этому другие, незнакомые люди получили, может быть, большее право называть Войтт-озеро родным, чем он, действительно родившийся и выросший здесь.
Наверное, поэтому он так удивился и обрадовался тропке. Вот ее-то он имеет полное право назвать своей! Эту тропку, которая и сейчас служит людям, утаптывали и его мальчишеские ноги, когда он с холщовой сумкой в руках бегал в школу. По этой тропе в тот жаркий июльский день он ушел из деревни с наскоро уложенным матерью вещмешком за плечами.
Тогда он не позволил ей проводить его, даже не сказал, что уходит в партизаны. Мать стояла у дома и тихо плакала, а он был счастлив и злился на нее за эти ненужные слезы. У Долгого ручья его ждала Оля, тоже с мешком и тоже счастливая... Тридцать верст до райцентра они отмахали за шесть часов, ни разу не передохнув, и это были самые счастливые часы за все время их дружбы... Оля тогда еще не знала, примут ли ее в отряд. Он, чтобы успокоить ее, всю дорогу болтал о пустяках, смеялся, даже предавался полушутливым мечтам о том времени, когда война закончится и они вот так же вдвоем будут возвращаться в Войттозеро. Разве мог он думать тогда, что вернется в родную деревню через двенадцать лет?!
...Впервые воспоминания не вызвали в нем привычного желания намеренно оборвать их, переключить мысли на другое. Впервые не захлестнула его обжигающая злоба на себя за то, что не выдержал, позволил поддаться слабеньким и обманчивым мыслям о том, к чему возврата для него, казалось, уже никогда не будет.
Перед ним лежала, сбегая к озеру, знакомая тропа. В конце ее – родной дом. Там – мать, радостная встреча, начало новой жизни. Как бы ни старался обманывать себя, но все-таки он думал об этой самой минуте, жил ею долгие годы заключения, хотя сознательно настраивал себя совсем на другое.
Почему он медлит? Почему стоит, теряя дорогие минуты? Может, его удерживает опасение, что другой такой радости в его жизни уже никогда не будет, и ему хочется растянуть этот волнующий миг?
Вот она – свобода! Прошло три дня, как в комендатуре лагеря ему вручили свидетельство об освобождении и заработанные за те годы деньги. Он мог быть в Войтт-озере через несколько часов, но он попросил выписать ему проездные документы до Петрозаводска. Даже если бы ему отказали, он все равно поехал бы в город на свои ^деньги, чтоб не возвращаться домой в лагерной одежде.
Три дня! Но лишь сейчас, выйдя на знакомую тропу, он впервые ощутил себя действительно свободным. Он может пойти по тропе и через десять минут будет дома. А если захочет, может стоять на косогоре, любоваться на знакомые дали или завернуть к школе, прильнуть к тускло поблескивающему окну нижнего этажа и заглянуть в бывший свой класс.
Из всего, что ему на радостях приходило в голову, было самое безрассудное – оставить на тропе чемодан и идти к школе. Но, вероятно, именно потому он и поступил так, радуясь, что имеет на это полное право... Ведь это его школа, самая родная из всех школ на свете. В ее стенах он закончил семь классов. Теперь стены обиты тесом и покрашены в зеленый цвет, а тогда он знал каждый сучок на нижних венцах школьного здания. Он только скажет: «Здравствуй, школа!», заглянет через окно в свой класс и пойдет дальше. Разве есть в этом что-либо странное, коль человек двенадцать лет не видел своей школы? Целых двенадцать лет...
В школе была перемена. Он угадал это по шуму, грохоту, голосам... Заметив в окнах любопытные детские лица, он замедлил шаги, остановился и, вдруг поняв нелепость своего поступка, почти побежал обратно.
Через десять минут он уже поднимался на крыльцо родного дома. Наружная дверь была открыта настежь. Он вошел в полутемные сени, постоял, прислушиваясь, потом резко, без стука, открыл дверь в комнату.
Мать стирала. В тот самый момент, когда он появился на пороге, она выливала в корыто горячую воду из огромного, белого от накипи чугуна. Она смотрела на сына и не могла разглядеть его сквозь облако сизого пара,