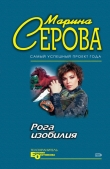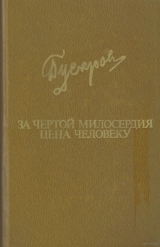
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц)
Через сутки после потери связи Вершинин обо всем доложил по телефону Куприянову. У того, видимо, были свои немалые заботы – он слушал непривычно молчаливо, ничего не переспросил, не поправил, не уточнил, как это делал всегда, лишь изредка покашливал в трубку, как бы давая понять, что слушает.
Когда Вершинин смолк, Куприянов сказал:
– Бригаду надо возвращать. Отдай приказ Григорьеву, пусть возвращается.
– С Григорьевым со вчерашнего утра нет связи,– напомнил Вершинин, посчитав, что Куприянов не обратил на это внимание.
– Я не глухой и все слышал,– вдруг строго, ровным голосом произнес Куприянов.– Неужели я должен заниматься еще и связью с бригадой?! Нет радиосвязи – ищите другой способ. Но бригада должна вернуться! Хватит забот с ее снабжением на обратном пути.
Куприянов помолчал и вдруг спросил:
– Позавчера была радиограмма на мое имя... Вчера Столяров доложил мне, что все в порядке и самолеты полетят. Что сделано?
– Вчера сброшено семьсот килограммов продуктов.
– Где?
– В квадрате 86—04. Сегодня, если будет погода, отправляем еще два самолета.
– Подтверждение о получении есть?
– Со вчерашнего утра у нас нет связи.
– Что ты, Сергей Яковлевич, твердишь мне одно и то же? Надо действовать. Быстро и оперативно. Если в течение суток не будет уверенной обоюдной связи, направляйте парашютистов, пусть ищут бригаду, указывают места выброски. Меня удивляет медлительность работников штаба. А ведь положение крайне серьезное. Сколько нужно сбрасывать, чтоб бригада получала дневную норму?
– Четыреста килограммов в день.
– Это два легких самолета в день?
– Да.
– И мы не можем этого обеспечить?
– Мы выбросили более двух тонн. Но есть опасение, что какая-то часть продуктов могла достаться противнику, другие выброски еще не найдены бригадой, подтверждение имеем о получении лишь трех самолетов.
– Передайте содержание нашего разговора командиру авиагруппы Опришко. От моего имени предупредите его о важности снабжения бригады. Григорьева немедленно возвращайте! Всего хорошего!
Радиоузел постоянно прослушивал эфир в поисках позывных бригадной рации и в условленные часы выходил на передачу. Вернувшись к себе, Вершинин составил и велел многократно повторить следующую радиограмму:

«Григорьеву. Аристову.
Дальнейшее питание вас самолетом будет невозможным. Если состояние личного состава чрезмерно истощено, питание достать на месте невозможно, разрешаю остановиться, отдохнуть, возвращаться маршрутом Ре-больская дорога, Чирка-Кемь, Лехта. Срочно радируйте решение».
Эта радиограмма была передана в эфир в 13 часов 27 июля 1942 года и зарегистрирована под номером 26.
К этому времени бригада уже находилась на высоте
264.9. Она едва дотащилась сюда, с трудом преодолев за ночь восемь километров. В отрядах начались смерти от истощения – вчера на берегу Матченъярви похоронили еще двоих.
Рано утром, когда до высоты 264,9 осталось километра четыре, над бригадой появился самолет с подвешенными тюками. Он летел чуть левее курса и так низко, что партизаны хорошо видели пилота, склонившегося из кабины в их сторону. Ему махали пилотками, радостно кричали, и рев мотора, гул пропеллера и свист воздуха в плоскостях покрывали эти призывные крики. Одна за другой в небо взвились три сигнальные ракеты. Все ждали, что самолет вот-вот развернется и начнет выброску, ждали даже тогда, когда он скрылся за лесом в южном направлении и шум мотора постепенно затих.
Потом, опасаясь, что летчик может не довериться ракетам, наскоро разложили костры, но самолет так больше и не появлялся.
Григорьев, вспомнив свою последнюю радиограмму в Беломорск, решил, что пилот сделал выброску на высоте
264.9, велел погасить костры и двигаться туда. Радостным было уже то, что самолет определенно шел в назначенный квадрат, а это означало, что их в Беломорске слышат.
Высота 264,9 – это широкое, вытянутое овалом плато с каменистым обрывом с севера и с пологими, мягкими спусками в другие стороны. С края обрыва открывается просторный вид на озера и болота внизу, на небольшую речку Тяжу, протекавшую слева, на соседние горы, темневшие на горизонте,– место чистое и светлое, где даже легкий ветерок сдувает мошкару и комаров, а огромные обомшелые валуны могут служить удобным укрытием при обороне.
Сюда шли с уверенностью. Уж здесь-то наверняка ждут бригаду сброшенные продукты. Последние километры тянулись изо всех сил, даже не делали остановок для отдыха.
С ходу развернутым строем прочесали все плоскогорье – продуктов не было. Заняли круговую оборону и начали искать на склонах – никаких признаков выброски. Во все стороны направили разведгруппы, и они вер-
нулись лишь с грибами. Появление грибов порадовало – под предлогом поисков продуктов стали посылать в разведку все новые и новые группы, которые приносили грибы. Противника поблизости не было, и разрешили развести костры. Варили грибницу – это нехитрое партизанское варево: котелок плотно набивали грибами и без воды подвешивали на огонь, потом, когда выступал грибной сок, его крепко солили и ждали, пока упреет и загустеет. Соль стала на вес золота.
Внешне жизнь текла обычным походным порядком. Как только останавливались на привал, командиры проверяли состояние бойцов, распределяли наряды. Те, кто посильнее, добровольно брали на себя дополнительные нагрузки, не было ни счетов, ни споров, ни пререканий. Даже завзятые нытики и «филоны» поняли, что судьба всех и каждого зависит теперь от предельной взаимовыручки и самоотдачи.
Политруки ежедневно проводили во взводах беседы. Вести с фронтов были неутешительные, о них сообщали коротко и строго, без лишних слов и поучений, и эта сосредоточенная краткость здесь, в глубоком вражеском тылу* действовала на людей безотказно. Все обретало как бы иной смысл и значение. Даже их месячное полуголодное блуждание по лесам. Даже то, что вот уже столько дней нет самолетов с продуктами. Даже смерть от голода, ибо там, на юге, ежедневно погибали тысячи и тысячи...
У штабного костра тоже варили грибы. В рюкзаке у Григорьева хранилась банка свиной тушенки, последняя из тех, что были получены в Сегеже. По армейской привычке оставил ее в качестве «энзэ» на тот крайний случай, который тогда даже он, выросший в карельских лесах, представлял себе скорее лишь теоретически. Умереть от голода летом в лесу – это казалось почти абсурдом. Для этого надо быть совсем уж ленивым или непредприимчивым человеком. Тем более, если у тебя в руках винтовка с достаточным запасом патронов, а в рюкзаке – полно тола. Если не можешь выследить зверя или птицу, то, казалось, брось в ламбушку шашку взрывчатки и собирай рыбу, вари уху, жуй слоистую окуневую спинку, обсасывай мягкие кости и зарывай их поглубже в мох. А грибы, а ягоды? Нет, бывалый человек не пропадет летом в карельском лесу, не может пропасть, не было такого случая! Зимой – дело другое...
Такой – не очень-то сложной и острой – представлялась эта проблема в Беломорске, когда готовился бригадный поход. Что греха таить, идея «подножного корма» казалась выходом из «крайнего случая» и самому Григорьеву. Она даже нашла официальное подтверждение в боевом приказе.
Теперь он не мог себе простить этого легкомыслия! Как он, опытный и многое повидавший человек, выросший в лесу и знавший его, не учел тогда одной-едиист-венной, но чрезвычайно важной вещи?! Да, в лесу не пропадет, не умрет с голода один человек! Худо-бедно продержатся пять или даже десять; но никакой лес не в состоянии прокормить двести, а тем более шестьсот человек, если будут держаться они вместе. Вокруг не хватит ни дичи, ни рыбы, ни ягод, ни грибов, даже если только заниматься их добычей.
Григорьев понимал, что это его упущение никакого практического значения не имело. Что можно было изменить? Разве что Вершинин, возможно, согласился бы сделать выброску продуктов заранее, да и то навряд ли – бригада снабжалась строго по норме, а создание баз на ее пути – это уже выглядело бы роскошью.
К вечеру усилился мелкий и теплый обложной дождь, и Григорьев дал разрешение посменно рыбачить на озерах. Ламбушки лишь сверху казались чистыми и красивыми, на самом деле они затягивались от берегов зыбким торфяником, и водились в них лишь мелкие окушки – черные горбатые уродцы, которых влезало по полсотни на котелок. От такой ловли усталости больше, чем проку. Но все же люди удили с голодным азартом, у костров запахло ухой, и это была короткая радость.
Ждали до полуночи. Все еще жила надежда, что радиограмма в Беломорске получена и самолеты прилетят. Григорьев уже не рассчитывал на какой-либо, даже самый скромный запас – сейчас важно было получить хоть что-то, чтоб поддержать у людей убывающие силы и настроение, ибо долгая бесцельная стоянка действовала удручающе.
Связи с Беломорском все еще не было, хотя радисты по очереди беспрерывно прощупывали эфир.
Земляк Григорьева, паданский карел Федор Лили-ков подошел к штабному костру:
– Командир, у ламбушки есть лосиная тропа.
Григорьев сразу понял, что имеет в виду Лиликов, даже обрадовался, внутренне ожил, и хотя надежда была слишком маловероятной, но она прерывала томительное бездействие, он пристально посмотрел на земляка и, скрывая заинтересованность, спросил:
– След-то свежий?
– Вроде совсем свежий. Ходят лосиха с лосенком.
– Действуй. Возьми еще одного охотника и действуй. Посторожи до рассвета.
– Хорошо, командир. Только прикажи, чтоб к этой ламбушке никто не подходил.
– Да уж спугнули мы их, наверно?
– Тут уж как выйдет. А пробовать надо.
– Ладно. Действуй.
Потом ждали рассвета. Погода не менялась, видимость была минимальной, вес вокруг отсырело, стало грузным и скользким, трогаться в такой обстановке с места не хотелось, было жаль гробить у людей последние силы, но, когда с востока потянуло наконец свежим ветерком и стало понемногу прояснивать, Григорьев вызвал командира отряда «Боевые друзья» Грекова:
– Федор, оставляю эту высоту тебе. Покрепче прикройся е юга и востока и жди. Должны же они, черт возьми, прилететь... Ты понял меня, Федор?
Они были почти ровесниками – самые старые по возрасту командиры в бригаде, знали друг друга с довоенных времен, и это давало им право держаться без субординаций.
– Понял, Иван Антоныч. Только ждать – долго ли?
– Сутки жди. Потом догоняй нас.
– Не потеряться бы нам...
– Ты что? Ты думаешь, я далеко успею уйти? Встретимся на высоте 234,8, вот здесь неподалеку, в пяти километрах. Получишь продукты—сразу снимайся. Много сбросят – шли связных, помощь пришлем... Да мы и сами услышим выброску... Без нас ни крошки не расходуй. У тебя много ослабевших?
– Хватает.
– Может, их с нами отправишь?
– Не стоит. Да и как их определить – кого отправлять. Среди своих лучше.
– И то верно. У меня тут есть лишний груз.– Григорьев порылся в рюкзаке, достал заветную банку, протянул Грекову: – Возьми, пусть твоих ослабевших подкормят грибами с мясным бульоном.
– Зачем, Иван Антоныч? Неужто пайковая твоя?
– Бери, говорю... Мало ли что пайковая. Вовремя не съел, а теперь под плащ-палаткой ее жрать, что ли? Вот что, Федор! Мы уйдем, сразу обороной займись. Все продумай. Когда навесь разнесет, костры потуши, чтоб сигналы не запутать.
– Ясно, Иван Антоныч. Все сделаем.
Греков ушел. Уже совсем рассвело, с востока заголубела кайма чистого неба, нижний край сплошной мутно-серой облачности наливался радостной позолотой, вот-вот должно было выглянуть из-за горизонта солнце, а Григорьев минута за минутой оттягивал команду на выход, словно в следующее мгновение должен был наконец раздаться от озера тот единственный выстрел, который будет означать пусть маленькую, но такую нужную теперь удачу.
– Колесник! Выход через полчаса. Порядок движения прежний! – тихо сказал он начальнику штаба. Тот кивком головы показал, что все понял, молча поднялся и пошел к головному отряду.
И эти полчаса прошли в ожидании. Когда Григорьев заметил возвращавшегося в разведвзвод Лиликова, он вышел ему навстречу.
– Ну что, охотник! Не повезло?
– Командир, надо бы еще ждать. Они подходили, были где-то близко, я чуял их, командир! Разреши, командир, остаться...
– Нет, брат, хуже занятия, чем ждать да догонять... Занимай свое место, сейчас трогаемся.
Григорьев стоял на склоне, пропуская мимо себя отряд за отрядом.
Партизаны шли – один за другим, отделение за отделением, взвод за взводом. Шли медленно и долго, каждый поднимал глаза на комбрига, они встречались взглядами, и Григорьев мысленно, как заклинание, повторял: «Ребята, надо держаться. Надо держаться, ребята!» На виду у комбрига люди бодрились, шли ровнее и увереннее, но даже короткого взгляда было достаточно, чтобы определить, кто – «еще ничего», а кто – «совсем плох», и «плохих» получалось через двоих на третьего, и больно было думать, что впереди ждет их, возможно, еще худшее.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
(высота 234,8, 28—30 июля 1942 г.) 1
До Поросозера оставалось сорок километров. Вчера начальник штаба бригады Колесник созвал командиров отрядов, роздал каждому очередной лист карты, и все вдруг увидели, что долгожданная цель – вот она, рядом, в двух нормальных суточных переходах. Лист включал в себя и Клюшину Гору, и Кудамгубу, и Совдозеро, он обрывался на юге где-то вблизи Суоярви, но все это было неважно, эти пункты не имели сейчас никакого значения, глаза командиров были устремлены в одну точку, где скрещивались важные шоссейные дороги, где было все – и река, и озеро, и школа, и почта, и больница, и леспромхоз. Казалось, нет на свете селения важнее этого, столько о нем думали последние недели, так жаждали увидеть его, и наконец это желание стало реальным.
Вот оно, это далекое и почти несбыточное Поросозеро,
Потом взгляды заскользили по прямой вверх, к высоте с отметкой 264,9, и воодушевление заметно поубавилось. Два дня – это если бы переходы были нормальными, но в их положении и недели может не хватить, а многим – коль не будет решительных перемен к лучшему – и жизни не хватит, чтоб преодолеть эти несчастные сорок километров.
Весь день 28 июля не шли, а паслись, делая долгие привалы. Ели все – чернику, недозрелую бруснику, зеленые и твердые, как орех, ягоды дикого шиповника. Ягоды уже не запихивали сразу в рот, а, глотая слюни, собирали в кружки и пилотки и съедали большими горстями – так казалось сытнее.
К вечеру остановились на большой привал на высоте 234,8.
Радисты сразу же развернули рацию. В последние дни они чувствовали себя без вины виноватыми и не жалели сил—лазали с антенной на деревья, часами хмуро сидели у аппарата, подсоединяли дополнительное питание, по многу раз меняли позицию. Пытались выходить на связь даже на коротких остановках, но все было напрасным: сигнал из Беломорска не пробивался.
Аристов, Кузьмин и Тихонов, как всегда в начале привала, разошлись по отрядам, Колесник делал обход линии обороны, корректируя расположение огневых точек, в штабе никого не осталось, и Григорьев, искоса наблюдая за стараниями радистов, одиноко сидел, привалившись спиной к стволу сосны, корни которой, как чудовищные щупальца, широко расползлись поверху земли во все стороны.
Это было могучее и красивое дерево, наверное долго боровшееся за жизнь и наконец отвоевавшее себе приволье и изобилие. Под его жирной раскидистой кроной уже не было ничего живого – только бурые опавшие шишвд и толстый слой мертвой хвои, которые постепенно превращались в перегной и, наверное, скоро вновь станут питать живительными соками эти цепкие причудливые корни. Как и всякий выросший в лесных краях человек, Григорьев не любил в лесу ничего бесполезного, а эта жирная и сытая сосна была неприятна уже тем, что он искал и не находил никакого ей применения. Она была столь раскидиста и суковата, что даже порядочной доски из нее не выпилишь.
«Неужели возможно это? – с удивлением подумал Григорьев.– Возможен этот замкнутый в себе круг жизни? Неужели оно и боролось за жизнь лишь для того, чтобы расти в сытом и бессмысленном одиночестве? Что дает она лесу, земле, людям? Разве что семена из этих ощерившихся шишек? А если семена родят новых подобных чудовищ, которые задавят все вокруг себя и будут стоять в довольстве и без проку?»
Где-то наверху перебирался с сука на сук радист Мурзин, пристраивая антенну.
– Ну как? – спрашивал он Паромова.
.– Давай еще выше, если можешь...
– Отчего не мочь? Тут как по лестнице... Ой, товарищ комбриг! – неожиданно воскликнул Мурзин.– Вижу большое озеро и вроде там деревня какая-то... Вроде крыши белеют. Неужто и вправду деревня?
– Где, в какой стороне? – поднялся Григорьев.
– Вон там, на юго-востоке... Озеро-то начинается совсем рядом, километра четыре отсюда, а деревня далеко, километров восемь, а то и больше... Вроде крыши белеют. Возможно это, товарищ комбриг?
– Возможно. Это, наверное, Янгозеро, если ты скалу за крыши не принял. Вот что, Маркони, давай-ка слезай оттуда, я заберусь, посмотрю.
– Сейчас, только антенну пристрою... А на востоке, товарищ комбриг, дымки вижу. И тут вот, и северней... И прямо на север, по нашему курсу, дымит. Костры это, что ли? Отсюда здорово все видно, только ветки мешают.
– Слезай поскорей...
– Сейчас, сейчас, товарищ комбриг.
– Макарихин, давай сюда твою спину!
Да, это дерево рождено было для наблюдения. Наверное, на таких соснах в старые времена прилаживали бочки со смолой, чтобы поджечь их в нужную минуту и дать сигнал о приближающейся опасности.
Мурзин не ошибся: на юго-востоке хорошо просматривалась в бинокль серая крыша, но это была, не деревня, а одинокий барак, почему-то не обозначенный на карте, а деревня была отсюда далеко, и ее навряд ли увидишь, так как расположена она в глубине залива и закрыта с севера лесом. Да и расстояние туда немалое – километров двадцать. А вот дымки – это совсем рядом, и тут ошибки нет: горят костры. Сколько их – сосчитать невозможно, но три бивуака налицо, это точно, и несомненно– все они вражеские. Греков не должен жечь костры, да он и не жжет, высота 264,9 хорошо видна.
Григорьев поудобнее уселся на суку, раскрыл планшет и стал определять, хотя бы примерно, координаты видимых дымков. «Почему в последние дни они не приближаются, держатся в отдалении, словно чего-то выжидают? – вновь задал он себе этот вопрос.– Неужели решили взять нас на измор, без боя? А что – тут есть резон... Финны никогда не любили открытых боев, они будут искать возможности обойтись без потерь. Эх, если бы у людей были силы! Как хорошо бы подобраться и устроить им шурум-бурум! Совсем обнаглели, сволочи!»
– Где комбриг? – послышался голос Аристова. Он незаметно подошел и устало опустился на тот самый корень, на котором сидел недавно Григорьев.
– Комбриг там,– ответил Макарихин, показывая рукой вверх.
– Где, где? – обеспокоенно вскочил Аристов и, вглядевшись, увидел Григорьева.– Иван Антоныч, ты чего? Что ты там делаешь?
– Антенну пристраиваю,– тихо отозвался тот, начиная осторожно спускаться.
– Да ты что? Некому другому, что ли? Вы что это себе позволяете? повернулся Аристов к радистам.
– Не шуми, Николай Павлыч!
Макарихин вновь подставил спину, Григорьев, повиснув на руках, дотянулся ногами до нее, осторожно оперся и спрыгнул на землю.
– Ну вот, комиссар, и все... Что нового в отрядах? Что так скоро вернулся?
Григорьев отряхнул и поправил обмундирование, взял у Макарихина свою палку и сел рядом под деревом.
Аристов долго и сумрачно молчал, потом неожиданно выматерился вполголоса.
– Что с тобой? – удивился Григорьев.
– А то, что, как говорится, довоевались мы до ручки, товарищ комбриг... Люди как тени, сил не хватает от комаров отмахиваться, а до цели идти еще надо... С кем Поросозеро громить собираешься?
– Ты что, виновного ищешь, что ли?
– А чего искать? Виновные вот они – мы с тобой, виновных искать недолго. А вы чего здесь торчите? – повернулся Аристов к связным.– Занимайтесь своим делом! Стоять-то долго здесь думаешь? – спросил он Григорьева.
– Пока не получим продуктов.
– Костры разрешишь разводить?
– Разрешу. Поближе к вечеру, часика на два... Да что с тобой, Николай Павлыч? Что случилось?
– А то, что этих проклятых продуктов мы можем век не дождаться, если связи не будет. Сегодня семеро идти не могут, завтра их будет семнадцать, послезавтра семьдесят...
– Ты что-то хочешь предложить?
– Надо спасать бригаду.
– Как?
– Не знаю... Давай думать вместе...
Аристов умолк. Григорьев понимал, что его остановило, и тоже молчал, ожидая – решится ли комиссар первым высказать мысль о возвращении или будет его вынуждать к этому. Ему очень хотелось, чтоб комиссар высказался не только категорично, но и до конца, его с давних пор коробила принципиальность с примесью дипломатии, на этом он не раз бывал бит и учен в прошлом, и сейчас в их положении больше всего хотелось доверия друг к другу и откровенности...
«Неужели ты, дорогой комиссар, считаешь, что я побоялся бы отдать приказ о возвращении, если бы видел в этом выход? – думал Григорьев с огорчением.– Плохо же ты меня знаешь... Или, наоборот, хорошо. Знаешь, что не остановлюсь на полуслове. Тогда зачем же боишься, что я стану укрываться за твоей спиной... Не бойся. Не до этого теперь, не о том мои заботы».
Григорьев знал свой недостаток. Он хорошо понимал и чувствовал своих собеседников, многое схватывал на лету, легко и охотно рассуждал про себя, но как только начинал говорить, его мысли странно сворачивались в короткие, слишком определенные фразы, категоричность которых он привык скрашивать иронической или вопросительной интонацией. «Думать вместе» он не умел и не любил.
– Вот что, комиссар,– пересилив себя, сказал Григорьев.– Возвращаться мы не можем...
Аристов удивленно сверкнул очками в его сторону, но Григорьев предупреждающе поднял руку:
– Дело не в нарушении приказа... Мы не можем идти назад, пока не получим продуктов. Люди не выдержат пути.
– А если мы их не получим вообще?
– Будем искать другой выход.
– Какой еще есть выход?
– Ждем эту ночь. Завтра отбираем несколько групп из ребят повыносливее и направим добывать продукты. Одних на дорогу, других – к Янгозеру, третьих – на финские группы, которые сопровождают нас... Вон их дымы, километрах в пяти от нас.
– И этим ты думаешь обеспечить бригаду?
– Нет, не думаю... Хотя кое-что наверняка добудем. Тут другое важно. Люди воевать должны. Они ведь воевать шли сюда.
– Ну, такая возможность была у нас и поближе,– усмехнулся Аристов.– В Барановой Горе, в Кузнаволоке. Стоило ли идти так далеко? Повоевать и там можно. Не за этим же нас сюда послали.
– Ты не хуже меня знаешь, зачем нас сюда послали,– рассердился Григорьев.– Чего же умничаешь теперь?! Свою вину я без тебя знаю. На твои плечи не стану ее перекладывать.
– О какой вине ты говоришь? – насторожился Аристов и принялся протирать очки.
– А о той, что смалодушничал я в начале похода. Не рассредоточил бригаду поотрядно, когда выяснилось, что линию охранения между Сегозером и Елмозером не перейти...
– Ну это ты брось! Не бери на себя лишнего. У нас был строгий приказ, и все было сделано как надо. Наши беды начались позже, с поворота на Тумбу... Эти проклятые вши, эти лоси, которых хватило лишь на понюшку, эта глупая история с самолетом... Вот тут мы, действительно, допустили промашку.
«Мы... допустили». Это великодушие было неприятно Григорьеву, он уже жалел, что ввязался в никому не нужный разговор, и решил промолчать. Аристов и сам почувствовал никчемность этих напоминаний.
– Ну да ладно... О чем мы говорим? Давай ближе к делу. Ты, значит, решил завтра действовать?
– А ты против? Говори прямо. Я готов обсудить это на совете командиров.
– Только этого нам и не хватает, чтоб командир и комиссар не нашли общего языка. Нет уж, Иван Антонович, давай обходиться без этого. Есть у нас проблемы поважнее...
«Если он скажет сейчас свое любимое «ты командир, тебе решать», то я не выдержу и обложу его матом»,– успел подумать Григорьев. Но Аристов не сказал этого, они посидели молча, потом подошел Колесник с докладом о состоянии отрядов, за обычными делами разговор постепенно отодвинулся, потерял свою остроту, и Григорьев уже спокойно вспомнил о кем, лишь когда они вновь остались вдвоем и Аристов спросил:
– Если готовиться к действиям, то надо бы провести в отрядах партийно-комсомольские собрания.
– Надо,– отозвался Григорьев.
– Я займусь этим. Вечером и проведем. Ты сам-то выступишь в каком-либо отряде?
– Хорошо.
– Боря! – крикнул Аристов своему связному.– Через полчаса комиссарам отрядов и секретарям партбюро быть у меня. Быстро!
Успели натянуть штабную палатку. Григорьев залез в нее, рассчитывая вздремнуть хотя бы часок, в последнее время он спал мало – как только закрывал глаза, наплывали думы, одна цеплялась за другую, и конца им не было; они тянулись утомительной и привычной чередой, а сон подолгу не приходил, хотя в эти минуты он особенно остро чувствовал, как безмерно устал, как заметно убывают силы. Хватит ли их? Через три месяца ему стукнет сорок. До недавних пор он никогда не задумывался о своем возрасте – жил, держался и чувствовал себя так же, как двадцать лет назад, когда начинал службу в погранохране. Привык верить, что силы – дело наживное: отдохнул, выспался и снова как огурчик... Да и теперь о силах, о возрасте и усталости думалось не для себя – он идет и будет идти не хуже двадцатилетних. Есть у него для этого и воля, и привычка. Но быть как другие – этого ему мало. Поход еще так долог, самое трудное еще только начинается, и каждый боец, чтоб самому держаться, вправе видеть своего командира всегда бодрым, уверенным, веселым.
Сегодня утром, когда уходили с высоты 264,9, он, кажется, впервые отступил от этого правила.
«Надо держаться...» – он мысленно чуть ли не умолял их.
Выходит, надо держаться прежде всего самому – не раскисать, не поддаваться бесполезному, расслабляющему людей состраданию, во всяком случае, не показывать этого, как невольно он сделал сегодня утром – не этого хотят они сейчас от командира. Надо быть таким, как всегда, а вот хватит ли на это сил?
Григорьев так и лежал с закрытыми глазами, пытаясь расслабиться, чтобы заснуть, но слух четко фиксировал каждый звук, доносившийся снаружи, и он вперемежку с думами почти зримо представлял, что там происходит. Вот вернулась дальняя разведка, он хотел подняться, но тут же понял, что этого можно и не делать,– она не принесла ничего нового. Приглушенным голосом Николаев докладывал Колеснику, что дошли они до берега Янгозе-ра, долго наблюдали, ничего не обнаружили, по пути не попалось никаких следов присутствия людей, только е южной стороны слышали недолго гул самолета, он прошел где-то вдалеке и низко над лесом – сколько ни смо< трели, самого самолета не увидели.
– Самолет какого типа? – спросил Колесник,
– Я же говорю, мы его не видели...
– А по звуку?
– Трудно сказать, погудело с минуту-другую и затихло.
– Ладно, пусть бойцы отдыхают.
– Костры можно разводить? Ребята грибов собрали,
– Пока приказа комбрига не было. Ближе к вечеру.
– А комбриг где?
– Отдыхает,– помедлив, с оттенком удивления тихо ответил Колесник.
«Кажется, привыкает парень!» —улыбнулся про себя Григорьев. Еще недавно Колесник не позволил бы подчиненному таких вольностей в разговоре, а тем более – любопытства. Григорьев и сам не любил излишнего, распространенного среди партизанских командиров панибратства, но теперешние отношения Колесника и Николаева его порадовали.
Ненадолго снаружи затихло.
...Все чаще приходили мысли о семье, и в походе дума* лось о ней все нежнее и трогательней. Целых полгода, до марта, Григорьев не знал, где семья и жива ли она. В последний раз случайно виделись в сентябре в Медвежьегорске, когда маленькому Коле не было и девяти месяцев. Да, какая это радость – заиметь наконец сына! Дочки—это тоже замечательно, но сын!.. Теперь неловко даже признаваться, однако когда не было вестей, он больше всего беспокоился о Коле – об этом крошечном и неразумном существе, которое при встрече в Медвежьегорске даже не признало сразу отца. Почему-то казалось, что беда в первую очередь должна коснуться его.
Теперь Коле уже полтора годика, Ольга Ивановна писала, что он уже бегает и пытается что-то лепетать. Люда хорошо помогает матери, закончила четвертый класс, учится в музыкальной школе. Младшая – Ляля – ходит в садик... Спасибо тебе, далекий и незнакомый Уржум! Хотя почему незнакомый? Этот крошечный городок помнится по книге «Мальчик из Уржума» – ведь там родился Киров! Спасибо... Хоть и трудно, но все живут, работают, учатся, растут... Теперь станет полегче – есть командирский аттестат, и второй секретарь ЦК партии Сорокин, старый знакомый по Петрозаводску, не только помог отыскать семью, но и написал в Уржум, чтоб получше устроили с жильем...
Начали сходиться комиссары и парторги, они располагались где-то в сторонке, Григорьев слышал и даже угадывал их голоса. Как всегда на таких совещаниях, Аристов по очереди заслушивал краткие политдоне-сения, задавал вопросы, кому-то выговаривал, кого-то хвалил, затем минут десять слышался лишь его ровный и строгий инструктирующий голос, и совещание закончилось. Рядом с палаткой Макарихин чистил свой автомат «Суоми». Он делал это часто, Григорьев много раз наблюдал эту процедуру и теперь не только живо представлял его хмурую сосредоточенную позу, но по щелчкам, лязгам и шарканью угадывал, чем именно в данную секунду занимается адъютант. Вот он протер спусковой механизм и принялся за стволик. Обычно он стволик вынимает из кожуха, вставляет на время чистки запасной – любит, чтоб оружие всегда было в боевом положении. Аккуратный парень... Так и есть – запасной стволик вставлен, короткий щелчок крышки, лязг отведенного и спущенного затвора, еще один щелчок вставленного диска – и автомат готов к бою, положен у ног, а сам Макарихин наверняка уже накручивает на кончик шомпола полоску тряпицы. Стволик он будет тереть долго, до зеркального сияния, при котором спиральная нарезка короткого дула покажется на глаз легкой, сбегающей к центру паутинкой. А потом все повторится еще раз: запасной стволик будет вынут и на его место вставлен основной, хотя какая между ними разница – никому, кроме Макарихина, неизвестно.
Однако дождаться окончания процедуры Григорьеву на этот раз не довелось. Послышались поспешные шаги, и в палатку просунулась голова Колесника:
– Комбриг, есть связь с Беломорском...
Радисты ликовали. Мурзин работал на прием, и строчки цифр в блокноте уже росли одна за другой. Вот он исписал первый листок, быстро оторвал его и, не глядя, сунул лежавшему рядом Паромову.
Подбежал Аристов, не спрашивая, понял, что произошло, минуту-другую все трое понаблюдали за радистами и молча отодвинулись в сторону, чтобы не мешать.