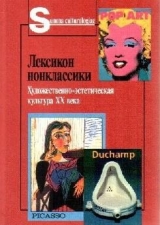
Текст книги "Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века."
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 73 (всего у книги 90 страниц)
Флуктуация (англ. fluctuation)
Феномен виртуализации психологии эстетического восприятия. В восприятии виртуальной реальности участвует ряд органов чувств. Колеблющееся, мерцающее, зыбкое, текучее «флуктуационное» восприятие, спровоцированное парадоксальностью виртуальных объектов, напоминает «схватывание» в интуитивизме Бергсона: воздействуя на подсознание, художественная виртуальная реальность обеспечивает мгновенное осознание целостности пакета эстетических воздействий, способствуя расширению сферы эстетического сознания и видения картины мира.
Н. М.
Фовизм (от фр. les fauves – дикие (звери))
Локальное направление в живописи нач. XX в. Наименование Ф. было в насмешку присвоено группе молодых парижских художников (А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Э. -О. Фриез, Ж. Брак, А. -Ш. Манген, К. ван Донген), совместно участвовавших в ряде выставок 1905–1907 гг., после их первой выставки 1905 г. Название было принято самой группой и прочно утвердилось за ней. Направление не имело четко сформулированной программы, манифеста или своей теории и просуществовало недолго, оставив, однако, заметный след в истории искусства. Его участников объединяло в те годы стремление к созданию художественных образов исключительно с помощью предельно яркого открытого цвета. Развивая художественные достижения постимпрессионистов (см.: Постимпрессионизм, Сезанн, Гоген, Ван Гог), опираясь на некоторые формальные приемы средневекового искусства (витражи, романское искусство) и японской гравюры, популярной в художественных кругах Франции со времен импрессионистов (см.: Импрессионизм), фовисты стремились к максимальному использованию колористических возможностей живописи. Природа, пейзаж служили им не столько объектом изображения, сколько поводом для создания экспрессивных, напряженных цветовых симфоний, не порывающих, однако, связей с увиденной действительностью. Основные цветовые отношения и мотивы фовисты брали из природы, но предельно усиливали и обостряли их, нередко использовали цветной контур для отделения пятен цвета друг от друга. Повышенная светоносность («краски буквально взрывались от света», – писал впоследствии А. Дерен) и выразительность цвета, отсутствие традиционной светотеневой моделировки, организация пространства только с помощью цвета – характерные черты Ф. От Ф. оставался один шаг до абстрактного искусства, но ни один из его представителей не сделал этот шаг. Все они после 1907 г. пошли своими путями в искусстве, используя Ф. как некий этап на пути экспериментальных поисков в области живописных средств. Выразительные возможности цвета, выявленные фовистами, активно использовались многими живописцами XX в., начиная с экспрессионистов, абстракционистов и кончая появившимся в 50– 60-е гг. движением «Новые дикие».
Лит.:
ChasseС. Les Fauves et leur temps. Lausanne, 1963;
Diehl G. Les Fauves. P., 1975;
Duthuit G. The Fauvist Painters. 1977, Giry M. Der Fauvismus. Wuerzburg, 1981.
В. Б.
Фолькельт (Volkelt) Иоганнес Эммануил (1848–1930)
Немецкий философ, психолог и эстетик. Профессор в Йене, Базеле, Вюрцбурге, Лейпциге. В эстетике примыкал к психологическому направлению и разделял теорию вчувствования Ф. Т. Фишера и Т. Липпса. На протяжении всей своей жизни и деятельности Ф. не переставал интересоваться искусством. Один за другим он выпускает целый ряд трудов в области эстетики, которые принесли ему в Германии известность одного из видных представителей психологической эстетики.
В понимании Ф. эстетика принадлежит к психологической науке. Он решительно возражает против установившегося со времени Канта и Шиллера рассмотрения искусства в качестве бескорыстной, непроизвольной и бесцельной игры, против распространившихся в эстетике понятий «чистой формы» и эстетической призрачности. Красота, Привлекательность, возвышенность, трагизм, комизм, – все эти эстетические характеристики основаны на сочетании восприятия, ассоциаций, представлений, воображения и чувства. В этом смысле различные стили и даже различные искусства, такие как живопись, музыка и поэзия в сущности есть не что иное, как различные способы и виды возбуждения нашего разума, воображения и чувства. Разве существует в действительности, риторически вопрошает Ф., такое явление как перспектива – то распределение в глубину, в котором мы видим изображенные на картине предметы. И разве внешнему миру принадлежит то одушевление, которое мы чувствуем в лицах и во всех прочих предметах, изображенных на картинах. Разумеется, нет, ибо мы сами вкладываем в нарисованные образы нашу собственную жизнь и душу.
В такой же степени красочные пятна на картине совершенно равнодушны друг к другу и ничем между собой не связаны. Их сочетает только наше сознание, вносящее в картину группировку и распределение. Более того, сами краски, спрашивает Ф., существуют ли в природе вне нашей души? – ведь известно, что цвета являются лишь свойством человеческого восприятия. В этом смысле, утверждает Ф., только основа художественного произведения входит в состав внешнего мира. В мраморе и бронзе, в красках, нотных знаках и буквах художник дает лишь указания и условия, вызывающие впоследствии художественные образы в восприятии зрителя, поэтому, как художественное творчество, так и художественное восприятие есть душевное движение, состоящее в осознании художественных образов.
Утверждая, что в основание эстетики должна быть положена психология, Ф. указывает на различие между эстетическими и психологическими методами, имея в виду специфическую нормативность классической эстетики. Современная эстетика, в представлении Ф., должна исходить из признания определенных запросов, предъявляемых нашим чувством и воображением, и этими запросами измерять достоинство анализируемых произведений и направлений искусства. Эстетический анализ – не только ощущение, но и оценка, ориентированная на эстетическую ценность. В эстетике психологический анализ и художественная оценка должны идти рука об руку.
Ф. ввел в эстетику понятие «эстетической антиномии», понимая под ним некое сочетание в искусстве позитивных и негативных аспектов в границах общего эстетического чувства. С одной стороны, главной задачей искусства он признает подъем душевных сил людей, дающий им минуты счастья. С другой – искусство должно изображать жизнь во всех ее аспектах для того, чтобы обеспечить произведению полноту и гармоничность содержания. Именно поэтому, наряду с произведениями искусства, радующими нас своим содержанием, должны существовать и произведения, которые по своему содержанию (но не по форме) создают впечатление, смешанное с сильным чувством неудовольствия.
Антиномию второго рода Ф. обнаруживает в форме произведений искусства. Когда мы следим за бегом линий, сочетанием красок, звуков, слов, то наше восприятие и воображение испытывают чисто чувственное наслаждение. Нельзя, однако, отрицать, что многие произведения искусства ставят суровые и иногда с трудом преодолеваемые задачи нашему восприятию и воображению, когда к эстетическому удовольствию в значительной мере примешивается неприятное чувство, и свободно парящее художественное созерцание испытывает заметный ущерб. И все же мы не можем обойтись без этих произведений потому, что в них заключаются особые художественные красоты. Ради удовлетворения потребности какой-то особой индивидуализации и полноты жизни мы жаждем изломанных, разорванных, беспокойных, сильных линий, ищем тяжелых, искаженных, неправильных форм и прощаем относительную бесформенность произведения, требуя от него полного разгула всех связываемых формой сил. Так, например, музыка Вагнера часто страдает чрезмерной напряженностью, но и подобные места доставляют нашему восприятию своеобразное наслаждение. Правда, замечает Ф., нарушение чувственно-приятной стороны художественного впечатления должно иметь известную эстетическую границу. Если вызываемые формой произведения неприятные чувства переходят за известный предел, то впечатление утрачивает свой художественный характер. В этом смысле введение в эстетическую теорию понятия «эстетической антиномии», полагал Ф., должно предохранить эстетику от многих опасных уклонений, от узости и односторонности, от произвольного ограничения области искусства и несправедливых суждений о художниках, увлекающих искусство с избитого пути.
В ряду других представителей психологической эстетики Ф. допускал, что вчувствование – общепсихологический процесс, происходящий в жизни на каждом шагу, ибо «все, что мы воспринимаем в человеке, его покой и движение, делается для нас тотчас же выражением внутренних состояний». Однако при этом Ф. в противоположность Г. Т. Фехнеру, ТЛиппсу и др. решительно отвергает наличие ассоциации представления во вчувствовании, признавая ее недостаточной для объяснения этого процесса. Он утверждает, что вчувствование состоит не в «нанизывании представлений и чувствований и их взаимном соединении с эстетическим объектом», но имеет в своей основе непосредственный эмоциональный процесс и дефинирует различные виды процессов вчувствования при различного рода эстетических впечатлениях. По его мнению, эстетическое вчувствование «отличается от общих, повседневных состояний тем, что является интенсивным повышением их». Тем не менее, цель вчувствования всегда одна и та же – слияние чувственного созерцания с настроением, стремлением, аффектом, страстью. Но пути к этому, по Ф., различны. Он выделяет телесный, опосредованный, ассоциативный и непосредственный пути вчувствования, значимость которых различна при восприятии различных видов искусства.
Ф. пытался также определить основные принципы и формы эстетического удовольствия, ставя на первый план психологическое исследование эстетических фактов и лишь затем адекватное выражение этих фактов и связывающих их закономерностей в терминах нормативной эстетики. Не отрицая метафизической значимости искусства, Ф. был убежден, что ближайшей и настоятельной задачей эстетики являются не метафизические построения, а подробный и тонкий психологический анализ искусства, имеющий целью открытие и установление гибких и всеобъемлющих его законов.
Соч.:
System der Aesthetik. Bd 1–3. München, 1903-14;
Aesthetik des Tragischen. München, 1917;
Das ästhetische Bewußtsein. Prinzipienfragen der Ästhetik. München, 1920.
А. Липов
Формальный метод (в литературоведении)
Возник в России в 1915–1919 гг. Отличался новаторским подходом к изучению формы произведений искусства и поэтического языка. Представители Ф. м. придавали большое значение слову как самостоятельной единице искусства, называя его «самовитым», считая его многозначным эталоном основ формы произведения художественной литературы. Слово, считали формалисты, опираясь на концепцию А. Потебни, уже само по себе есть искусство, т. к. является произведением языка, его поэзией. Отсюда пристальное внимание формалистов к истории поэтического языка, исторической поэтике, морфологическому анализу поэтического текста и его структуре, т. к. вышеперечисленное позволяло составить представление о том, что такое форма, из каких компонентов языка она состоит и как в конечном итоге «делается» произведение.
Исходная ориентация формалистов на «делание» произведения во многом была близка эстетике русского футуризма и акмеизма; эти два направления русской поэзии XX в. точно следовали в творчестве основной идее своих теорий об «архитектуре» поэтической и лирической речи. Ранний русский формализм подходил к проблеме поэтической речи с сугубо научной точки зрения, обосновывая выдвигаемые к изучению проблемы о функционировании языка и моментах перехода языка в речь профессиональной аргументацией. Формалистов интересовала не столько архитектура произведения, сколько сам процесс создания абсолютных форм художественного текста. Их внимание было обращено на доказательство приоритетности конструкции форм из языковых явлений и их дальнейшее структурирование в поэтический текст.
Процесс конструирования форм лежит в основе «делания» произведения, считали формалисты. Сам «продукт» художественного творчества – «вещь», получившаяся благодаря «деланию» – четкому выстраиванию формы, – не совсем искусство, т. к. «искусство» полностью реализуется только в процессе формирования языковых явлений в поэтические конструкции. Поэтому то, что представлено художником как законченное произведение, для формалистов вторично, их интерес сосредоточен на том, как делалась вещь до обретения абсолютной результативной формы.
Основа Ф. м. заключалась в понимании того, что именно считать признаком искусства – процесс создания произведения или законченную вещь. Формалисты отдавали предпочтение первому, оставляя за собой право изучения законов формирования материала в вещь. Понятие вещи было для формалистов той категорией, внутри которой шла основная работа по оформлению словесного материала в системные конструкции поэтической речи. Вещь сама по себе абстрактна, считали они, если не изучены критерии подхода к ее формированию.
Ф. м. получил известность благодаря таким ученым как В. Шкловский, Б. Томашевский, Б. Эйхенбаум, Р. Якобсон, Ю. Тынянов и др. Область их научных интересов лежала в сфере изучения проблем поэтического языка, что во многом было продиктовано стремительным взлетом поэзии в первой половине XX в., а также объединением поэтов в различные школы и группировки. Некоторые из них заявили о себе не только чистой поэзией, но и теоретическими программами, обосновывающими создание школы или группы, и вылились в поэтические направления. Первые научные опыты ученых-формалистов, в частности В. Шкловского, были близки позиции В. Маяковского о том, что слово можно сделать. Причем, под словом в данном контексте рассуждений поэта и ученого подразумевалась не номинативная единица языка, а поэтическая строка, строфа или словосочетание лирической метафоры.
«Делание» стиха для ряда футуристов и теоретиков-формалистов на ранних этапах возникновения направлений, создание и функционирование новых языковых форм – выражение духа времени, своего рода историческая необходимость. Для поэтов-новаторов было важно создать слово, для ученых – изучить то, к а к оно создавалось и функционировало в цепи взаимосвязанных лингвопоэтических конструкций. Поэтому изучение поэтической техники: ритма, размера, метафоры, тропа, образа как историко-морфологической единицы, – стало предметом научных исследований названных ученых-филологов.
Русские формалисты, провозгласив приоритет формы над содержанием, развили теорию вербальной формы до абсолюта: форма организовывает содержательный материал художественных эмоций, стихии авторской воли в законченную вещь. Они игнорировали значение содержания в его традиционном понимании, считая, что в слове, корневом речевом знаке, уже заложена психофизическая эмоция на уровне фонемного ряда, т. е. содержание в слове заложено изначально, что слово уже есть содержание речи, т. к. представляет собой систему знаков-фонем, формирующих слово как звуковую познавательную сущность.
Слово самодостаточно, считали формалисты, а если так, то оно имеет морфологическую перспективу связи с другими словами, столь же самодостаточными, и тогда начинает выстраиваться система связанных друг с другом сущностей, происшедших из разрозненных знаков самостоятельных «самовитых» слов. Конструируется поэтическая строка. Она «сделана» не стихией авторского разумения, утверждали формалисты, а закономерно организованной морфологической зависимостью сущностных знаков, т. е. слов. Закономерная организация слов, согласно теории формалистов, есть не что иное, как языковая интуиция, историческая память автора, который в силу своих способностей сумел так преподнести уже выстроенный в подсознании языковой материал, что он прозвучал как поэтическая речь. При этом внешняя смысловая оболочка слова в этой системе связанных сущностей не играет роли; слово важно как звук, оно не является символом оформленной речи, но есть абсолютный символ языка. Подобная интерпретация значения слова формалистами свидетельствует об их, возможно, безотчетной тенденции к проблемам психологии художественного творчества, выдвинутых еще А. Потебней, к вопросам связей языка и мышления, а также неизбежно уходит корнями в понятие мифа.
Главное, на чем акцентировали свое внимание ученые-формалисты на ранних этапах творчества, это глубинная динамика языковых явлений, которая привела их к детальному изучению поэтического языка и исторической поэтики. Понятие внехудожественного языка, его бытовой коммуникативности рассматривалось ими как содержательная сторона художественного произведения; в содержании же присутствует та организация языкового материала, которая не позволяет рассматривать бытовой язык с точки зрения искусства создания форм в связи с тем, что в бытовом языке форма не создается специально, она не требует искусственной организации, а существует исконно, на уровне устного народного творчества (и все же творчества, ибо язык при озвучивании становится средством коммуникации, что в теории формализма является элементом именно творческого процесса).
В трудах сторонников Ф. м. появился мотив связи-противоречия поэтического и бытового языка, они вплотную подошли к этической аксиоме художественной нормы, которая заключалась в попытке разграничения бытового и художественного языка, в поиске той грани творчества, где происходит процесс расслоения стихийного и художественного контуров речи. Такая постановка вопроса позволила включить в категориальный аппарат теории понятия «литературный факт», «литературный быт», «литературный прием». Эти понятия диктовали неизбежность эстетических обобщений методологических подходов к изучению художественно-поэтического творчества как языкового явления.
С постановки этих проблем начался новый этап развития Ф. м. в литературоведении, что привело к созданию двух различных школ. В 1915 г. в сторонниками Ф. м. был создан «Московский лингвистический кружок», образованный лингвистами Р. Якобсоном и Г. Винокуром. Их интересы лежали в области изучения языковой культуры поэтической речи. Наиболее плодотворными представляются труды Р. Якобсона «Поэтический язык В. Хлебникова» (1919) и О. Брика «О стиховом ритме» (1919). В названных статьях представлен взгляд на поэтическую форму с профессионально-лингвистической позиции (Р. Якобсон) и отчасти любительской – о поэтическом ритме (О. Брик). В 1916 г. в Петербурге организовалось «Общество по изучению поэтического языка» – ОПОЯЗ.
Ранний русский формализм не мог претендовать на философские обобщения основ своей теории. Но он поставил перед литературоведением XX в. ряд проблем, которые были столь масштабны и интеллектуально насыщены, что многие из них сформировались в самостоятельные направления: структурализм, семиотику, современный деконструктивизм.
Лит.:
Томашевский Б. В. Теория литературы, Л., 1925;
Шкловский В. Б. О теории прозы. М. -Л… 1925;
Его же. Поэтика, М.,1919; Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб, 1996.
О. Палехова
Фотография
Наиболее распространенный ныне тип визуального изображения, основанный на технике репродуцирования. Возникновение Ф. связывают с именами француза Жозефа Нисефора Ньепса (1765–1833) и парижского диорамиста Луи-Жак-Манде Дагера (1787–1851). Если первому удалось прежде всех других зафиксировать фотографическое изображение, нареченное гелиографией (это был вид, запечатленный в 1826 г. из чердачного окна фотографа в городке Шалон – результат восьмичасовой экспозиции), то второй под именем дагерротипии в 1839 г. обнародовал свой метод. Речь шла о «спонтанном воспроизведении образов природы, полученных в камере-обскуре», или о таком «химическом и физическом процессе», который позволял природе «воспроизводить самое себя». Однако основы современной Ф. были заложены английским ученым и художником Генри Фоксом Тэлботом (1800–1877): благодаря изобретению им негатива, позволявшего делать потенциально бесконечное число отпечатков, Ф. и стала массово воспроизводимым изображением, обретя наконец то отличительное свойство, которого не знали за ней ни Ньепс, ни Дагерр.
Это правда, что Ф. является сочетанием физических и химических процессов, по отдельности давно известных человечеству, однако потребовался такой момент общественного развития, когда эти процессы могли быть сведены воедино, чтобы получилась фотография как «светопись» (такова ее этимология), а эта последняя, в свою очередь, пала на подготовленную производством почву. Можно без преувеличения сказать, что Ф. является искусством индустриального мира.
Впрочем, статус Ф. как искусства не раз подвергался сомнению. Отрицать за фотографией какую-либо художественность и вместе с тем расценивать ее как искусство, пришедшее на смену живописному, позволяет одна и та же черта – присущая ей документальность. Ибо для одних Ф. была квинтэссенцией самой действительности, а для других – ее (реалистического) отображения при помощи адекватных выразительных средств. Но если сегодня мы и склонны рассматривать Ф. как искусство – и это несмотря на явную ее «подручноеть»: служебную функцию Ф. в обществе трудно переоценить, – то подспудным критерием ее художественной оценки выступает не что иное, как живопись, с иерархией ценностей, характерной для этой последней (достаточно упомянуть о весьма ограниченном числе признанных фотографов – их не более двухсот – и о делении Ф. на такие традиционные жанры, как портрет, пейзаж и т. п.).
Ф. на многих уровнях обнаруживает двойственность: если это искусство, то в осовремененном смысле буквально проявленной «технэ», из чего вытекает множественность ее определений – Ф. есть одновременно техническое, научное и художественное достижение. Впрочем, сам способ толкования Ф. зависит от социального контекста и от того места, которое фотография занимает в нем. В нашей сегодняшней жизни Ф. прочно утвердилась в качестве регистратора скрытых от глаза процессов, а также социальных личин и событий. Это произошло потому, что благодаря своей технической подоплеке она расценивается обществом как аналог самого реального. (Что не противоречит «возвышенному» толкованию Ф., согласно которому она позволяет проникать за видимую оболочку вещей.)
Двойственность Ф. является предметом размышлений теоретиков этого вида искусства. В знаменитом эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935–1936), а также в «Краткой истории фотографии» (1931) Вальтер Беньямин обсуждает Ф. как такую разновидность массово репродуцируемого образа, которая приводит к разрушению «ауры», или уникальности, свойственной прежним, по преимуществу живописным, изображениям. Однако он признает, что «первые репродуцированные люди» все еще полны ауратичности, даже если в данном случае речь идет лишь о некоем средовом эффекте восходящего социального класса. («Дело в том, что в этот ранний период объект и техника его воспроизведения так точно совпали друг с другом, в то время как в последующий период декаданса они разошлись».)
Двойственность Ф. как принципиальную черту последней прослеживает и Ролан Барт, говоря об этом сначала в терминах «фотографического сообщения (посыла)», а потом и специальной «аффективной» феноменологии, выстраиваемой им для фотографии в качестве особого типа репрезентации в его последней книге «Camera lucida» (1979). (Эта книга остается по сей день ключевым текстом для понимания того, как возможно «чтение» фотографий.) Отмеченная двойственность передается понятием «фотографического парадокса»: в то время как Ф. является в своей основе прямым незакодированным сообщением (его содержанием выступает «сама сцена», или «буквальная реальность»), над ним надстраивается второе – коннотированное – сообщение, которое сосуществует с первым. Кодирование Ф. происходит на этапе ее изготовления, когда вступают в силу разнообразные профессиональные, эстетические и идеологические нормы, но точно так же и тогда, когда она становится объектом чтения, невольно попадая в принятую обществом систему знаковых координат. Таким образом, Ф. предстает одновременно «объективной» и «нагруженной», «естественной» и «культурной». (В статье «Фотографическое сообщение» (1961) перечисляются различные процедуры коннотирования: подделка; означаемое позы; объекты и навеваемые ими смысловые ассоциации; фотогения как информационная структура; эстетизм; объединение нескольких фотографий в определенным образом прочитываемый ряд.)
Дальнейшее развитие эти идеи получают в книг» «Camera lucida». Как и раньше, Барт отмечает необычайную связь Ф. со своим референтом (одна из пояснительных метафор – слоистые объекты, две половинки которых невозможно отделить друг от друга, не разрушив целого). То, что прежде определялось в категориях денотации – прямого указания на сцену, пейзаж или некий объект (Ф. не трансформирует изображаемое, она лишь редуцирует его пропорции и часто цвет), – мыслится теперь как «неуступчивость»: без реально существующей вещи (референта) не может быть изображения. Это подтверждает сама техника фотографирования: камера схватывает и регистрирует испускаемые вещью световые лучи, запечатляемые на специальной, как правило серебряной, фотопластине. Но «неуступчивость» означает и нечто большее: как показывает Барт, она равным образом относится и к «сфере «интенции» чтения», ибо зритель извлекает из Ф. только одно – «оно там было». В этой неотвратимости референции, референции абсолютной и тем не менее всегда уже отсроченной, и состоит сущность, или ноэма, Ф.
Однако сущность Ф. невозможно обнаружить с помощью абстрактных аналитических процедур: случайность, «отягчающая» каждый снимок, активно противостоит любой попытке сформулировать такое «всеобщее свойство, без которого не было бы Фотографии вообще». Очевидно, что движение, направленное к постижению сущности Ф., должно осуществляться не вопреки особенностям этой последней, а лишь сообразуясь с ней. Для Барта отправным пунктом построения «отдельной» науки фотографии становится не только сам опыт разглядывания фотоснимков, но и его собственный незаместимо-личный интерес. Такой интерес, выраженный в самом общем виде (даже притом что для его обозначения Барт применяет слово «приключение»), соответствует полю культурных значений, более или менее легко восстанавливаемых зрителем. Речь идет, иными словами, о некоем «вежливом» интересе, который мобилизует «полу-желание, полу-воление» («…это тот же невыраженный, отполированный и безответственный интерес, что возникает в отношении людей, зрелищ, одежды, книг, которые считаются «на уровне»). Подавляющее большинство фотофафий воспринимается именно в подобном модусе «понимания» намерений фотографа, чем подчеркиваются контрактные, т. е. по определению культурные, отношения между потребителями и творцами. Однако наряду с неангажированным интересом зритель может испытать и некоторое потрясение, выразимое лишь в терминах наслаждения или боли. В этом случае он сам становится мишенью, получая со стороны Ф. чувствительный укол.
Если общекультурный интерес, интерес, уравнивающий не только фотографа и зрителя, но и всех зрителей между собой во всеобщем усилии интерпретации, Барт именует studium'o M, то ситуацию обособления, или индивидуального неповторимого переживания, он обозначает как punctum. Punctum, эти «раны», «отметины», которыми переполнены отдельные снимки, разрушает непрерывность поля, покрываемого «моим суверенным сознанием» и находящегося в ведении studium'a. Иначе говоря, punctum уничтожает нацеленность сознания на объект в качестве интенциональной установки. В отличие от studium'a он предполагает иной способ восприятия, или иной тип «чтения», как об этом говорит сам Барт. Таким образом, можно заключить, что studium соответствует в целом процедуре коннотирования, тогда как punctum выявляет прямое фотографическое сообщение во всей его тревожащей наготе.
Впрочем, соотношение studium'a и punctum'a не является ни дихотомичным, ни оппозиционным. Барт настаивает на их соприсутствии, отмечая, что это есть род двойственности без характерного для классического дискурса «развития». Punctum «рассекает» studium, меняя «режим моего чтения» и приводя к тому, что появляется как бы новое фото, наделенное «высшей ценностью» для зрителя. (Именно поэтому punctum чаще всего ассоциируется с какой-нибудь деталью, но punctum'o M оказывается и сама но-эма Ф.: «это было», соединенное с мучительным сознанием, что «это должно умереть».)
Соотношение studium'a и punctum'a можно, как это делает Барт, интерпретировать в музыкальных терминах: в этом случае они выступают двумя темами – «на манер классической сонаты», – позволяя исследователю по очереди заниматься то одной из них, то другой. Но можно, вслед за Дерридой, представить данное соотношение как метонимическое, исходя из того, что при метонимии, т. е. «переименовании», происходит удвоение обозначающей функции слова, когда на его переносное значение накладывается значение прямое, так что и то и другое одновременно содержится в нем. Та же метонимия позволяет говорить о сингулярном и не требовать подмены: punctum книги «Camera lucida» – не воспроизведенная Бартом детская фотография его матери, благодаря которой ему удается заново обрести ее «душу», – может быть сообщен читателю в качестве незаменимого в силу того, что метонимия оперирует уже на уровне Мартовского письма.
Социальные аспекты Ф. и связь последней со сложившимися системами экономического и политического подавления подробно рассматриваются в хрестоматийной книге «О фотографии» (1973) американской писательницы Сьюзен Зонтаг. Исследованием природы фотографического изображения, способов его кодирования, связанных в том числе и со скрытой репрессивностью, заняты сегодня не только теоретики этого вида репрезентации, но и сами фотографы, неуклонно наращивающие критический и рефлексивный потенциал своего искусства. (Достаточно назвать имена Дайан Арбус, Ли Фридлэндера, Виктора Бёргина, Барбары Крюгер, Синди Шерман и Шерри Левин.)
В истории Ф. как самостоятельного вида творчества с изрядной долей условности можно выделить два основных направления. С одной стороны, это «натуральная» Ф., или такая, которая уделяет первостепенное внимание самому объекту изображения, запечатлевая его в том виде, в каком он дан. Концентрированным выражением этой линии можно считать документальные, или репортажные, снимки, расцвет которых приходится на 20-е и 30-е гг. Ф. выступает здесь таким средством отображения внешнего мира, на «объективность» которого не может повлиять даже с необходимостью предвзятый взгляд того, кто берется снимать (выбирая сцену или ракурс, фотограф лишь помогает реальности проявиться, но не фабрикует ее). К указанному направлению относится фотография города и жанровых сцен (Э. Атже, знаменитый своими снимками безлюдного Парижа; А. Стиглиц; Брассаи; А. Кёртеш; У. Кляйн; П. Стрэнд; У. Эванс; М. Бурк-Уайт; А. Картье-Брессон; П. Г. Эмерсон). Сюда же примыкает и пейзажная Ф. (Р. Фэнтон; Т. О'Салливан; У. Г. Джексон; К. Уоткинс; Э. Уэстон; А. Адаме; Р. Адаме). Признанными образцами («художественной») документалистики являются фотографии Доротеи Ланг. К этому же направлению можно отнести в целом фотопортрет и отдельные изображения человеческого тела. (Из портретных мастеров выделяются Ф. Надар, добивавшийся в студийных снимках небывалой интенсивности присутствия модели, А. Зандер, создавший целую галерею социальных типов, и портретистка викторианского времени М. Кэмерон.) Классическими фотографиями, воспроизводящими человеческое тело в движении, являются своеобразные протосеквенции Эдварда Мэйбриджа – документальные исследования, равно повлиявшие на живопись и кинематограф.








