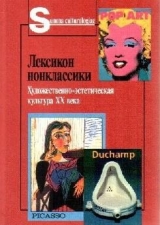
Текст книги "Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века."
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 90 страниц)
Кейдж (Cage) Джон (1912–1992)
Известный американский композитор авангардно-модернистской ориентации (см.: Авангард, Модернизм), один из крупнейших новаторов в музыке XX в. С детства интересовался не только музыкой, но также живописью, архитектурой и литературой. Работал на радио в Лос Анджелесе, занимался композицией у Генри Кауэлла, затем в 1933-34 гг. у последователя Шёнберга — Адольфа Вайсса. В 1934 г. вернулся в Калифорнию для занятий с самим Шёнбергом, с которым у него постоянно возникали серьезные споры относительно роли гармонии в музыке. К. считал ее сильно преувеличенной, за что заслужил от своего именитого учителя титул не столько композитора, сколько гениального изобретателя. В 30-е гг. К. много переезжает с места на место и добирается до Парижа, где берет уроки фортепиано у Лазар-Леви. В этот период он на долгие годы становится близким другом Марселя Дюшана.
С самого начала своего творчества К. интересовался ориентальными музыкальными культурами, в том числе ударными инструментами. Всюду, где ему приходилось надолго задерживаться (Сиэтл, Сан-Франциско, Чикаго, и наконец – с 1942 г. – Нью-Йорк), он создавал ансамбли ударных инструментов. В 1938 г. по заказу балерины Сильвии Форт сочиняет знаменитую «Вакханалию» – первую пьесу для препарированного рояля (развивая идеи Кауэлла) – по его собственным словам: для «оркестра ударных, которым управляет один человек». В этом же году К. начал работать с готовыми, или «найденными» (см.: Реди-мейд), музыкальными объектами в цикле «Воображаемые ландшафты». Этот цикл фактически предвосхитил и то, что в конце 40-х получило название «конкретной музыки», и «обработку» звука в процессе электрического усиления (методика, примененная в 50-е гг. К. Штокхаузеном и получившая широкое распространение в практике рок-музыки еще десять лет спустя). Следует напомнить, что практичных магнитофонов в те годы еще не было, и эксперименты с фиксированными звуками были делом весьма трудоемким.
К концу 40-х годов в мировоззрении и музыке К. происходит переворот: после «Сонат и интерлюдий» (1948) одновременно с другими выдающимися деятелями американского искусства (например, писателем Дж. Сэлинджером), но независимо от них он открывает для себя дзэн-буддизм, становится последователем пропагандиста этого учения Д. Т. Судзуки. Правда, как и его единомышленники из литературных кругов (и тоже калифорнийцы по происхождению) – поэты-битники (со старшим из них – Кеннетом Пэтченом – К. сотрудничал еще в начале 40-х), принимает его в чисто концептуальном смысле слова. «Я никогда не сидел в позе лотоса и не медитировал», – заметит позже сам композитор.
Уже в ранних сочинениях для ударных К. использует изощренную ориентальную ритмику, а в пьесах для препарированного рояля – экзотические ладовые образования. Однако, за исключением композиций, в которых предполагалось использование «готовых объектов» или «игры стилей», предвосхищающей эпоху постмодернизма (например, Fontбna Mix, 1958 – названная по «готовому объекту» Дюшана или «Ария» для голоса, поющего на пяти языках в пяти национальных стилях – от джаза и армянской народной песни до оперного бельканто; примечательно, что композитор предлагал исполнять второе сочинение под аккомпанемент первого), композитор полностью отказывается от каких-либо исторических параллелей или стилистических аллюзий. Уже в этот период в его музыке «есть своя система»: достаточно однородная, как правило, фактура, несуетливое (почти «медитативное»), чуждое какой-либо внешней аффектации развитие, лишенное любых внешних красивостей («я не люблю вибрафон» – признавался композитор чуть ли не в первых фразах своей знаменитой лекции «Silence»). В результате в 1951 г. появляются «Музыка перемен» для фортепиано на основе китайской книги «И-цзин» и «Воображаемый ландшафт № 4» для нескольких радиоприемников. В последнем сочинении исполнители (по двое у каждого приемника) крутят ручки громкости и настройки по составленной композитором схеме. В этом произведении нашли отражение основные эстетические принципы К. – выбор «готового материала» и, так сказать, chance operation – вероятности, случайности, неопределенности. Применительно к музыке метод сочинения, основанный на этих принципах, получает название алеаторики. Однако наибольшую (и, естественно, скандальную) известность приобрело сочинение «4»33" – tacet» (1952), в котором исполнитель (первоначально – пианист) не издает ни звука.
Существенным для К. было взаимопроникновение искусства и жизни: при исполнении некоторых сочинений он, например, предписывал открывать все окна и двери. Самым значительным сочинением этого периода считается Концерт для фортепиано с оркестром (1957-58, написанный для пианиста и композитора Дэйвида Тюдора). В нем К. покушается на «святая святых» – «единоначалие» дирижера. «Сводная партитура» отсутствует – пианист-солист и тринадцать оркестрантов сами решают, что, как и когда играть по партиям, записанным «графической нотацией» в виде 84 отдельных фрагментов. Поначалу принцип индетерминизма увлек не только близких К. американских композиторов – Мортона Фелдмана, Лэрри Остина, Крисчиана Вулфа. Даже весьма консервативный Леонард Бернстайн однажды предпринял весьма рискованный эксперимент: большой симфонический оркестр сымпровизировал четыре сравнительно небольшие пьесы, руководствуясь только дирижерскими жестами маэстро Бернстайна.
В Старом Свете, как известно, сложилась целая школа, работавшая в данном направлении, во главе с лидерами европейского авангарда К. Штокхаузеном и П. Булезом. Принцип определенности/неопределенности радикально изменил саму концепцию музыкального произведения – от достаточно скромных попыток придать музыкальным формам «мобильность» – в виде относительной независимости оркестровых партий в отдельных эпизодах (так называемая «горизонтальная алеаторика» Витольда Лютославского) до дзэн-буддистской концепции «не-созидания» (в частности, интерпретации произведений живописи и литературы как нотных текстов). К началу 60-х отношение к К. в кругах авангарда начинает поляризоваться: в частности, его союзник Пьер Булез публично выступает против преобладания элемента случайности в «проектах» К. Американский композитор, однако, продолжает экспериментировать, намного опережая опыты в области инструментального театра и хэппенинга (Water Music для фортепиано, радио свистков и колоды карт – 1952), мультимедиа (HPSCD для 7 клавесинов, магнитофонной ленты и света), преобразования акустических звучаний в процессе исполнения (Atlas Eclipticalis, совместно с Леджареном Хиллером – 1961) и даже интерактивной композиции (Knobs для компьютера и слушателя – 1969). До конца дней композитор проявлял живейший интерес ко всему, что делалось в музыкальном мире, не сторонясь актуальных тем, в частности, празднования 200-летия независимости США – Apartment Building 1776 и «экологического» нью-эйджа (Inlets для морских раковин, наполненных водой); в пик постмодернистской моды он сочинил свои гротескные «Европеры» («Europeras 1&2»), заказанные Франкфуртским оперным театром «суперколлажи» из опер классического репертуара, но не без аллюзий к современности. Они были поставлены в декабре 1987 знаменитым Питером Селларсом. В самых последних сочинениях (Four – для струнного квартета) К. вернулся к «чистой» музыке.
Специально следует отметить вклад К. в развитие принципов нотации – почти в каждом из его поздних сочинений применяется самостоятельный тип музыкальной графики, раскрывающий каждый раз новые творческие возможности для исполнителей. Несколько томов литературных текстов К. («Тишина», «После дождичка в четверг», «Пустые слова») постоянно переиздаются, каждый раз с дополнением его знаменитых историй (К. был блестящим рассказчиком). Ему принадлежат также «алеаторические» обработки «Дневников» Г. Д. Торо и «Поминок по Финнегану» Дж. Джойса, радиокомпозиция «Джеймс Джойс, Марсель Дюшан, Эрик Сати» (1978), а также произведения визуального искусства (в т. ч. «Не хочу говорить о Марселе», совместно с Кэлвином Самсионом, 1969 – серия «объектов» из плексиглаза). Быть может, отталкиваясь от «музыкальности» своей фамилии, в последние годы жизни К. проявлял большой интерес к мезостихам.
Одинаково далекое и от сциентизма, и от экзистенциализма активно-оптимистическое отношение к искусству и его месту в жизни до сих пор делает К. непререкаемым авторитетом в кругах авангарда и, с другой стороны, вызывающе действует на традиционалистов/консерваторов (см.: Консерватизм). Пожалуй, К. – первый музыкант чуть ли не во всей истории искусства (не считая разве что Рихарда Вагнера), чье влияние признают на себе представители практически всех современных искусств, особенно тех, которые стремятся к преодолению видовых и жанровых границ.
Соч.:
Silence: Lectures and Writings. Middletown, 1961;
A Year from Monday. Middletown, 1967;
Empty Words: Writings, 1973–1978, Middletown, 1979;
Writings, 1979–1982. Middletown, 1983;
Charles Eliot Norton Lectures. Cambridge, Mass., 1990.
Лит.:
Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. М., 1993;
Дубинец Е. Знаки звуков: о современной музыкальной нотации. Киев, 1999;
А John Cage Reader. Ed. P. Gena, J. Brent. N. Y., 1982;
John Cage: Composed in America. Ed. M. Perloff, Ch. Junkerman. Chicago, 1994.
Д. Ухов
Кинетическое искусство (от греч.: kinesis – движение)
Возникшее в 1950 г. художественное течение, ориентирующееся на пространственно-динамические эксперименты с нетрадиционными материалами. К. и. во многом опирается на эстетику Баухауза, Югенд Стиля, русского конструктивизма. Его зачинатели (Ф. Морреле, 3. Хюльтен) исходили из прерогативы движения как средства противостояния бесконечному повторению художественных форм, чреватому «исчерпанностью» искусства, «усталостью» творчества. Их обновление связывается с новыми художественными материалами. Теоретик движения Н. Шёфер выдвигает принципы пространственно-светового-хроно-динамизма как основы К. и. Широкое применение методов математического программирования трактуется как предпосылка рождения нового типа творца – художника-инженера, стремящегося воплотить в искусстве движение как таковое при помощи мобилей, механических приспособлений, оптических феноменов (см.: Оп-арт). Широко используются прозрачные материалы, электромоторы, рычаги, пульты управления и т. д. Непременным атрибутом является хэппенинг, активное отношение зрителя к артефакту, он призван изучать кинетическую инсталляцию во всех ракурсах, в том числе изнутри; тем самым опровергается классическая идея о том, что скульптуру в отличие от архитектуры нельзя созерцать изнутри.
Посвятившие себя К. и. художники задаются различными эстетическими целями. Ж. Тенгели стремится оживить, гуманизировать машины, борясь с тоской индустриального мира; П. Бюри обыгрывает замедленное движение; X. Ле Парк и В. Коломбо используют феномены прозрачности, игры света и теней; X. де Ривера сосредоточен на художественных эффектах работы моторов; прибегая к сложным приспособлениям, Н. Шёфер достигает полисенсорности воздействия; движущиеся магнитные скульптуры Такиса создают иллюзию вечного движения; группы Ничто, Зеро, Экзат 51 экспериментируют с динамикой и светотенью.
К. и. широко использует новейший опыт фотографии и киноискусства. При помощи электроники, кибернетики, искусственного освещения оно ищет новые способы художественного выражения, воплощающиеся в светокинетике, технологическом искусстве, искусстве окружающей среды.
К современным тенденциям развития К. и., сближающим его с эстетикой постмодернизма, относятся анонимность творчества при креативности аудитории, снятие противоречий между искусством и постнеклассической наукой. К. и. явилось предтечей голографии, дигитального искусства.
Лит.:
Popper F. Naissance de l'art cinétique. P., 1967;
Nature et art du mouvement. Brux., 1968;
Schoeffer N. Le Nouvel Esprit artistique. P., 1970;
Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945. 2 éd. P., 1990.
H. M.
Кино, кинематография (от греч. kinеma – движение, graphe – писать, рисовать)
Один из наиболее распространенных видов искусства XX в. Историю К. принято отсчитывать от первого публичного киносеанса, организованного братьями Люмьер в Париже в «Гран кафе» на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 г. Именно братья Люмьер запатентовали первый киноаппарат и дали ему название «кинематограф». Этому аппарату предшествовало множество других, с помощью которых можно было получить движущееся изображение; среди них наиболее близким к люмьеровскому был аппарат Т. Эдисона («кинетоскоп»), также базировавшийся на идее световой проекции. Так как этот аппарат был создан на год раньше, то некоторые историки считают именно Эдисона изобретателем кинематографа.
Технологические истоки указывают на две принципиальные составляющие кинематографа: «фотография» (фиксация световых лучей) и «движение» (динамика визуальных образов). Эти две координаты становятся важным формализующим принципом для описания кинематографа. Фотографический принцип связывает К. с изобразительной традицией, идущей еще от живописи и очень влиятельной для фотографии XIX в., то есть с идеей исскусства. Что же касается «движущейся картинки», то она отсылает нас к балаганам, райкам, ярмарочным аттракционам, иллюзионам, то есть к традиции массового, развлекательного зрелища.
Фактически уже первые фильмы братьев Люмьер сочетали в себе как фотографическое отношение к реальности («Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота», «Выход рабочих с фабрики» и др.), так и развлекательность и зрелищность («Политый поливальщик», инсценировки из жизни Наполеона). Однако первым кинорежиссером, по-настоящему превратившим фильм в эффектное зрелище, стал Ж. Мельес. З. Кракауэр определяет две противоборствующие тенденции внутри кинематографа – «реалистическую» и «иллюзионистскую» – как «линию Люмьера» и «линию Мельеса». Ф. Трюффо, предлагая свою диалектику кино, также связывает ее оппозиционные элементы («исследование» и «зрелище») с именами Люмьера и Мельеса.
Таким образом, технологический и исторический истоки К. взаимоутверждают друг друга. Технологическое развитие в К. всегда коррелировало с социальными явлениями в мире и, несомненно, влияло на появление новых выразительных средств, на формирование киноязыка. Это было существенным для возникновения тех национальных школ, которые выходили за пределы только национальной специфики кинематографа. Среди таких школ можно выделить русский монтажный кинематограф 20-х гг., немецкий экспрессионизм, французское «фотогеническое» направление, а также послевоенный итальянский неореализм и «новую волну» во Франции. Отдельного рассмотрения в качестве «школы» заслуживает голливудское К.
Несмотря на то, что первооткрывателем монтажа считается американский режиссер Д. У. Гриффит, поистине фундаментальными оказались достижения в этой области именно в Советской России 20-х гг., где увлечение кинематографом совпало с бурным развитием искусства (футуризм, конструктивизм, супрематизм). На фильмах Гриффита «Рождение нации» (1915) и «Нетерпимость» (1916) воспитывались тогда будущие выдающиеся мастера монтажного кино (первый полнометражный фильм Л. Кулешова «Приключения мистера Веста в стране большевиков» (1923) сделан сознательно по-американски).
В истории кино изменение значения изображения в зависимости от кадра, с которым оно смонтировано, получило название «эффекта Кулешова», поскольку им были проведены первые эксперименты в этом направлении. Школу Л. Кулешова в разное время прошли Вс. Пудовкин и С. Эйзенштейн, предложившие свои концепции монтажного кино. Однако если позиции Кулешова и Пудовкина во многом совпадали и сводили монтаж в основном к его нарративной и эмоциональной функциям, то Эйзенштейн создал фундаментальную концепцию монтажа как основания самого кино. Даже само движение в кадре, изменение «картинки» он рассматривает как вариант монтажа, при котором предыдущее изображение, благодаря физиологической задержке восприятия, содержится в последующем. Несколько особняком стоит теоретическая и кинематографическая практика Д. Вертова, но и его радикализм базируется в основном на монтажных возможностях кинематографа.
Среди основных монтажных фильмов тех лет следует отметить эйзенштейновские ленты «Броненосец «Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1927), пудовкинские – «Мать» (1926) и «Потомок Чингиз-хана» (1928), а также «Человек с киноаппаратом» (1929) Д. Вертова. Эти фильмы признаны кинематографической классикой.
Советское кино 20-х гг. отличается особой рефлексией самих монтажных возможностей кино. Не случайно, что с приходом звука и цвета, когда эти же концепции были применены к новым реалиям кино, оказалось, что эффективность монтажных решений достаточно ограничена. Но даже относительные неудачи со звуковым монтажом (такие, например, как фильм Пудовкина «Дезертир», 1934) оказались очень продуктивны своим экспериментальным характером. Именно в 30-е гг. заканчивается эпоха «советского монтажа», хотя влияние этой кинематографической школы актуально и по сей день.
То, чем для советского кино был монтаж, для кинематографа Германии тех лет стал свет. Немецкий экспрессионизм, с наибольшей силой проявившийся в фильмах «Кабинет доктора Калигари» (реж. Р. Вине, 1920), «Носферату, симфония ужаса» (реж. Ф. Мурнау, 1922), «Доктор Мабузе – игрок» (реж. Ф. Ланг, 1922), тяготел к изображению мистических и фантастических сюжетов. Чтобы создать ощущение сновидческой, галлюцинаторной реальности, требовались специфические визуальные эффекты, которые и были в большом количестве предложены фильмами этого направления. Вновь после Мельеса важным кинематографическим элементом становятся условные театральные декорации. Они исполнены под несомненным влиянием театральной эстетики М. Рейнхардта и создают неповторимую таинственную атмосферу многих фильмов. Однако сами эти декорации не были бы столь эффектны, если бы не специфическое драматическое освещение, также характерное для театра Рейнхардта и воспринятое немецким кинематографом того времени, многие представители которого были непосредственными его учениками.
В немецком экспрессионизме К. впервые обретает цветность: до изобретения цветной пленки появляются фильмы, раскрашенные вручную. Светопись стала столь неотъемлемой частью кино в Германии, что многие ленты, формально уже не принадлежавшие экспрессионизму, тем не менее несли на себе явный отпечаток этого направления. Таковы грандиозные фильмы Ф. Ланга («Нибелунги», 1924; «Метрополис», 1926), мелодрамы социального направления Kammerspiele («Осколки» Л. Пика, 1921; «Последний человек» Ф. Мурнау, 1925) и многие другие картины. Традиции экспрессионизма сохранялись вплоть до прихода к власти нацистов. Последними фильмами этого направления можно считать «М» (1931) и «Завещание доктора Мабузе» (1933) Ф. Ланга. Многие историки кино (например, З. Кракауэр в книге «От Калигари до Гитлера») считают, что в специфической атмосфере этих картин воплотились социальные неврозы немецкого общества того времени и предчувствие фашизма. Однако изобразительная специфика фильмов и теоретическое осмысление кинематографа в донацистской Германии имели важные формальные следствия. Во-первых, внимание кинематографистов было сосредоточено на иных, нежели монтаж, выразительных средствах; а во-вторых, особый интерес был проявлен к актерской игре и ее специфике в кино. Выразительная игра актеров Э. Яннингса, К. Фейдта, В. Крауса, П. Лорре – необходимая часть экспрессионистических образов кино.
То, что мы назвали ранее «фотогеническим» направлением во французском кино, имеет своим истоком деятельность режиссеров и теоретиков Л. Деллюка, Ж. Эпштейна, М. Л'Эрбье, чей поиск специфических выразительных эффектов кино (проявившийся в импрессионистической манере их собственных фильмов) повлиял на французский киноавангард (экспериментальные ленты Ф. Леже, М. Дюшана и Ман Рэя), дадаизм и сюрреализм («Антракт» (1924) Р. Клера, «Раковина и священник» (1928) Ж. Дюлак, «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век» (1930) Л. Бунюэля и С. Дали), а также на «поэтический реализм» 30-х годов (Ж. Виго, Ж. Ренуар, М. Карне).
Теория «фотогении» Деллюка выдвигала определенные формальные требования к изображению объекта в кино, которые можно считать развитием «линии Люмьера». Съемки на пленэре, искусство ракурса, ритм, рапид, композиция кадра – вот то, что приносит с собой «импрессионизм» Деллюка, фильмы Ж. Эпштейна, А. Ганса, ранние фильмы Р. Клера и Ж. Ренуара. Все это доводится до формальной жесткости и чистоты в авангардизме, а в «поэтическом реализме» сохраняется на уровне изобразительной стилистики.
Конечно, история кино не исчерпывается только названными течениями. До Второй мировой войны появились оригинальные национальные кинематографии в Италии, Швеции, Дании, Англии. Однако именно школы русского монтажа, немецкого экспрессионизма, французской фотогении, сочетая в себе социальные и художественные влияния времени с поиском адекватных кинематографических средств для их выражения, сумели выйти за рамки собственно национальных школ. Так, влияние Эйзенштейна и Вертова было особенно сильно в Германии (В. Рутманн, Г. Рихтер, Л. фон Рифеншталь), но также во Франции и в других странах. Это влияние, как уже отмечалось, не проходит и по сей день. То же можно сказать и о немецком экспрессионизме, чьи изобразительные достижения проявились в фильмах К. Дрейера, О. Уэллса, А. Хичкока, и о «французских» новациях в области формы, ставших ныне «естественными» кинематографическими приемами. Довоенный кинематограф осваивал изобразительные технологии. Освоение монтажа, ритма, движения камеры, возможностей света шло рука об руку с открытиями звука и цвета. Это был период обретения материи кино, его специфики, что отразилось не только в перечисленных выше кинематографических направлениях, но и в теоретическом их осмыслении.
Вторая мировая война – тот условный исторический рубеж, который можно считать завершением «освоения» кинематографической технологии. После войны главной темой кинематографической рефлексии становится язык кино. Два принципиальных подхода к киноязыку заявлены школами итальянского неореализма (40-50-е гг.) и французской «новой волной» (60-70-е гг.).
Неореализм справедливо связывается с антифашистскими и антибуржуазными настроениями послевоенной Италии, но помимо социальных истоков не менее важными являются эстетические корни, которые определяют приоритет «реальности» по отношению к технологии, то есть доминантой в нем становится люмьеровская линия. Причем в неореализме она получает наиболее яркое выражение, когда сама «реальность» становится языком кино. Для ранних фильмов Р. Росселини («Рим открытый город», 1946; «Пайза», 1948), В. Де Сика («Похитители велосипедов», 1948), Л. Висконти («Земля дрожит», 1948) это – социальная реальность прежде всего. Именно социальная неустроенность большинства населения стала той основной темой, для которой разрушенная войной Италия оказалась идеальной «декорацией». Неожиданное совпадение социальной и видимой реальностей позволило неореализму обнажить силу «прямого» кинематографического изображения, связанного только с репродуктивной техникой кино, без дополнительных приемов. Изобразительный аскетизм фильмов неореализма, выраженный в манифестах теоретических лидеров этого направления (Ч. Дзаваттини, Г. Аристарко) как требование «правды жизни», фактически утверждал: язык кино располагается в самой повседневности, в той «видимой» реальности, которая незаметна, пока не попадает на пленку, а это значит, что нет специфического языка К., оно – лишь инструмент, обнаруживающий язык реальности. Такая теоретическая позиция выводит неореализм за рамки определенного исторического момента, продолжая быть актуальной и после угасания самого течения. Подобное отношение к кино проявляется у столь разных режиссеров, как Р. Брессон и П. П. Пазолини (в его концепции «поэтического кино»), не имеющих отношения к неореализму или связанных с ним косвенно.
Французская «новая волна» исторически появляется тогда, когда неореализм окончательно сходит со сцены, а такие его представители, как Л. Висконти, М. Антониони, Ф. Феллини порывают с ним, утверждая исчезновение той «реальности», которая была его основой. Для каждого из этих режиссеров утрата «реальности» является одним из формообразующих кинематографических принципов. Таким образом, хоть и негативно, но неореалистические принципы продолжали влиять на собственный стиль этих авторов.
Кинокритик, провозвестник «новой волны» А. Базен и журнал «Кайе дю синема» 50-х гг. утверждали, что в кинематографе «авторство» носит специфический характер, и наряду с режиссерами, создавшими свой неповторимый стиль (кроме вышеуказанных это еще И. Бергман и А. Куросава), авторами являются и такие режиссеры американского массового К., как Г. Хоукс, Д. Хьюстон, У. Уайлер, Н. Рэй и др. Поиск «авторских средств» кино – такова была формальная задача молодых французских критиков, впоследствии ставших кинорежиссерами. При явных различиях между Ф. Трюффо, Ж. -Л. Годаром, К. Шабролем, Ж. Риветтом всех их отличает повышенное внимание к кинотехнологии, к тому, как «делается» фильм, как «делается» эмоция зрителя. В этом их принципиальное отличие от «реализма» неореалистов, хотя и те, и другие снимали малобюджетные ленты на улицах, на пленэре, с привлечением непрофессиональных актеров. «Мельесовский» аналитизм представителей «новой волны» был направлен на возможности кино как средства повествования. Именно поэтому их эксперименты касались не столько изобразительных средств, сколько сюжетов, жанров, стилей, которые становились определенными единицами чтения фильма. Практика режиссеров «новой волны» не случайно совпала с бурным развитием семиотики кино в 60-е гг. на Западе (Ж. Митри, К. Метц, Р. Барт, У. Эко), которая решала те же проблемы. Поиски «новой волны» во многом перекликаются с опытом советского и американского монтажного К. 20-х гг. и с его осмыслением в работах русских формалистов (см.: Формальный метод) и теоретиков пражского лингвистического кружка. «Новая волна» была последней «школой», которая утверждала К. не просто в качестве зрелища, но как особую рефлексивную систему, как определенную позицию, при которой внешне различные визуальные высказывания порождают определенный «общий» кинематографический дискурс. Он особенно ярко представлен в творчестве Годара, чей «деконструктивизм» является доведением до крайности той семиотики кинематографического приема, которая была характерна и для других режиссеров этого направления.
В последние десятилетия возникли оригинальные национальные кинематографии в Германии (Р. В. Фассбиндер, В. Герцог, В. Вендерс), Чехословакии (В. Хитилова, И. Менцель, М. Форман), Польше (А. Вайда, К. Занусси, К. Кесьлевски), Англии (П. Гринуэй, Д. Джармен, С. Портер), России (А. Тарковский, А. Герман, К. Муратова); появились крупные режиссеры в ранее «некинематографических» странах, таких как Финляндия, Бельгия, Иран, Китай. Однако именно американский кинематограф, постоянно развивавший зрелищную линию в К., практически оккупировал мировой кинопрокат.
Со времени своего основания в самом начале века Голливуд постоянно расширял производство массовых фильмов. У истоков его стояли комедиограф М. Сеннетт (у него дебютировал Ч. Чаплин), Д. У. Гриффит, создатель вестернов Т. Инс, актеры Д. Фербенкс и М. Пикфорд, прославившиеся в первых фильмах, сделанных в жанрах приключенческом и мелодрамы. С приходом в К. звука («Певец джаза», 1927) возникает мюзикл, на цветной пленке («Technicolor») уже в 30-е гг. сняты фильмы В. Флеминга «Волшебник из Оз» и «Унесенные ветром», тогда же появились знаменитые мультипликационные ленты У. Диснея. Голливудская киноиндустрия привлекала своими возможностями многих европейских режиссеров, среди которых – С. Эйзенштейн, Э. фон Штрогейм, О. Уэллс, Ж. Ренуар, Э. Любич, В. Шестром и др. Подавляющее большинство из них не смогли приспособиться к требованиям Голливуда, хотя некоторые фильмы, такие как «Алчность» Штрогейма, «Ветер» Шестрома, «Гражданин Кейн» Уэллса, ныне признаны классикой не только американского, но и мирового кино. Однако ориентация американской кинопромышленности на массового зрителя сильно ограничивала «авторские» возможности режиссеров. Система требовала «зрелищных» фильмов, приносящих большие прибыли, и потому на главные роли вышли не режиссеры, а актеры-кинозвезды и продюсеры. Главные достижения Голливуда связаны с разработкой жанров. Комедии Ч. Чаплина, Б. Китона, Г. Лойда, братьев Маркс, мелодрамы с Р. Валентине, вестерны Д. Форда, «черные» (или – гангстерские) фильмы с X. Богартом, мюзиклы с Ф. Астером и Д. Келли, триллеры А. Хичкока и т. д. вплоть до фантастических лент, фильмов ужасов, боевиков и блокбастеров последнего времени, – все эти жанры живут и возникают «по требованию» массового зрителя, задающего достаточно узкие рамки для самовыражения режиссеров. Экспериментальное, альтернативное, независимое кино Америки (С. Брекхейдж, братья Мекас, Д. Джармуш) носит крайне маргинальный характер и ориентируется в основном на европейский опыт. Тем не менее и в Голливуде появляются режиссеры, которые не просто доводят жанровые возможности кино до предела, как это сделали А. Хичкок и С. Кубрик, но умудряются создать собственные ниши в этом жестком коммерческом пространстве (П. Богданович, В. Аллен, М. Скорсезе).
Массовый успех голливудской продукции заставляет говорить о К. как об иной системе восприятия, нежели та, на которую в основном ориентировалась европейская традиция, стремившаяся сделать из него еще одно искусство. Зрелищная сторона кинематографа еще во времена Мельеса вступила в противоречие с культовым характером искусства. Последним оплотом культа в К. была люмьеровская «реальность». Однако даже в теории главного «апологета» реальности З. Кракауэра это понятие приобретает неожиданный смысл, указывая на пограничное состояние между внешним и внутренним самого восприятия. С одной стороны, это – материальные явления внешнего мира, но благодаря кинотехнологии они стали элементами внутреннего чувства. Речь идет об особом восприятии, которое не принадлежит отдельному человеку, но является «общим» в том смысле, что каждый конкретный зритель не есть субъект такого восприятия. В этом теория Кракауэра близка как идеям гештальтпсихологии, выразителем которых в кинотеории стал Р. Арнхейм, так и феноменологии М. Мерло-Понти. Таким образом, «развлекательное» К. требует от теоретика пересмотра проблематики психологии восприятия, в центре которой стоял отдельный человек. На массовый характер киновосприятия указывал еще В. Беньямин («Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»), называя его «рассеянным» и отмечая, что именно такой тип восприятия (по сути де-субъективированный) становится ключевым в искусстве XX в.








