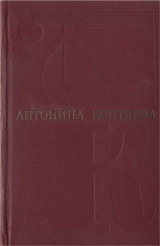
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц)
– Я тоже фарт ищу, – сказал Черепанов.
Зуев укоризненно покачал головой. Клиноватая бородка его смутно белела в ночном сумраке.
– Шутишь! Кто его так ищет? В землю надо смотреть. Земля счастье хранит! – С этими словами старик уверенно топнул ногой. Под сапогом звонко откликнулась сланцевая щебенка.
Было свежо; ветер тихо покачивал редкие на горе кусты стланика, в лощинах дымились туманы.
– Счастье наше, отец, не в земле, а в нас самих, и каждый его открывает по-своему, – возразил Черепанов. – Твой фарт, как ты его понимаешь, – просто удача. Его люди всегда искали: продал купец товар с прибылью – фарт, оттягал кулак землю у соседа – тоже фарт. А есть еще и воровской… – Черепанов заметил резкое движение Зуева, твердо сказал: – Ты Саньку Степанозу знаешь? Он ведь тоже ищет, где бы сжулить, спиртишку достать, перепродать. Забродина вашего возьми… Страшный человек! Этот работников на себя ищет. Хочешь ты на него работать? Нет? Так он тебя воровством своим заставит.
– Он заставит. Верно. А по-другому как?
– По-другому? Вот о Рыжкове Акимовна сказала: «Заразился приисками. Вечный старатель». Но старатели разные. Одни фарт только в самородке ищут, другие к большему стремятся. Ведь Рыжкову только шаг сделать к счастью, которое поднимает душу человека. Вот возьмем Сергея Ли, к примеру. Пришел он сюда неграмотным парнем. Темный, забитый был, но сердцем чистый. Пригрел его советский строй, и потянулся паренек не за самородком золотым, а к учебе и в том фарт для себя открыл. Но не успокоился: дальше ищет и все новые богатства открывает в своей душе и в людях. Жизнь его будет с каждым годом богаче, красивее, интересней. Можно ведь сытно жить в теплом углу, деньги иметь, вещи приобретать. Мы не против зажиточности. Но если нет при этом общественного интереса, то человек злой становится, точно цепная собака. Ведь собака на цепи не конуру охраняет, не хозяйское добро, а от скуки бесится. Разве мы можем о таком счастье мечтать? Нет! По-нашему, счастье только в коллективе, где каждому подходящее место найдется. Чтобы он не бился из-за куска хлеба, а мог развернуться в самом лучшем. Чтобы после оглянулся на себя и сказал: «Да неужели это я такой пришибленный был?»
Зуев рассмеялся.
– Чтобы всем, говоришь, место нашлось? А ведь многих ты обижаешь, Мирон Устинович. И враги у тебя есть. Е-есть! Помнишь, шла перепалка из-за разведок на устье Орочена? Круто вы тогда дело повернули, дорогие товарищи! Оно и верно, если бы послабее напирать, золото до сих пор лежало бы нераскрытое. А только я так смекаю, может, и не имелось вины у тех, которых вы поснимали. Может, золото им просто не давалось либо уменья не хватило.
– Были и такие. Если нам деликатности с ними разводить, мы на месте топтаться будем. Свой человек не обидится, когда его толкнут нечаянно.
– Чудной ты, – ласково сказал Зуев. – Ну, ладно, иди домой отдыхай. И мне давно на боковую пора. Состарился, кость стала сухая, легкая – ко сну не тяготит. Помирать скоро, а все чего-то ждешь в жизни, и все нету. А увидать страсть охота. Вот чего ради я за тобой увязался? Спал бы себе, старый дурак, а то теперь обратно переться надо.
– До свидания, отец!
– Прощай, Устиныч.
Старик отстал, но еще долго глядел вслед Черепанову, пока тот не скрылся за кустами.
Черепанов шел медленно. Глухо шумел слева, в вершинах ключей, дремучий хвойный лес. Мощное дыхание его Черепанов чувствовал на своем лице. Глухарь тяжело сорвался с одиноко стоявшей сосны. Шумный мах его крыльев утонул в тумане.
«Здоровый какой! – подумал Черепанов, невольно вздрогнув. – На охоту бы сходить, рябчиков попугать, да еще не время».
И на общительного Черепанова находила иногда жажда тишины. Он любил суровую и прекрасную северную природу, был легок на ногу и, как на праздник, отправлялся в тайгу к геологам, ведущим разведку, к лесорубам или рабочим-покосчикам. С ружьем за плечами, в мягких ичигах, зимой на лыжах он без устали преодолевал огромные пространства… Но на зелено-бело-голубых просторах ему не хватало вида человеческого жилья… Дымок лесного зимовья сразу ущемлял его сердце тоской и радостью.
«Хотя бы один поселок на пятьдесят, на сто километров, – говаривал он дружку Сергею Ли. – Представь-ка, если бы среди этих гор бежала лента шоссе. Асфальт бы! Перекинь мосты через наши реки – куда тут Швейцария! В небе серые оскалы гольцов, по нагорьям альпийские розы. Ельники, сосновые боры. Олени пасутся на моховищах. Зимой, правда, холодновато. Но зато летом жара! Выращивай лук, редиску, и картошка вовсю растет».
Любое начинание по сельскому хозяйству на приисках Черепанов приветствовал с воодушевлением, радуясь каждому клочку обработанной земли. Он внимательно присматривался к бывшим огородникам-китайцам. Интересовали его и горняки-корейцы. Он уважал их за трудолюбие, скромность и честность – самые дорогие для него качества в человеке. Но среди восточников еще действовали старшинки, которые вели себя в артелях как хозяйчики-арендаторы…
«Сколько разной нечисти! Так и прет она из каждой щели! – говорил Черепанов, делясь с Сергеем Ли своими мыслями после жаркой схватки на последнем артельном собрании. – Уже решен в стране вопрос – кто кого. Побили собственников в торговле и промышленности, в сельском хозяйстве начинаем побивать… А у нас на приисках, при мелком старании, какой еще простор стремлению к наживе! Кустарничество! Хищничество! Теперь дано указание о механизации приисковых работ!.. Вот когда наша таежная окраина почувствует результаты решений четырнадцатого и пятнадцатого съездов партии об индустриализации страны! Но какое бешеное было сопротивление! Тянули и назад, в прошлое, и на явный провал. А кто? Да те же выкормыши буржуазии, которым наплевать на таких, как Афанасий Рыжков, старик Зуев или Егор Нестеров – хороший парень! Весь этот народ тоже до сих пор не понимает, какой переворот в его жизни сделали решения партии. Но большой переворот будет и замечательный!»
Вспомнив этот свой разговор с Ли, Черепанов остановился, вдруг взволнованный до глубины души. Порыв гордой, любовной радости за свою страну охватил его.
– Правильно идем! – сказал он вслух, представляя могучие экскаваторы, поставленные на горные работы, и выражение изумления и восторга, с каким созерцала их толпа собравшихся землекопов с натруженными, жилистыми руками.
…Из-за косогора показались огни в долине Ортосалы на устье Орочена. Они проступали в тумане мутными пятнами, сливаясь в широкое бледно-желтое зарево, на фоне которого чернели одинокие кусты стланика, словно сторожившие прохожего у нагорной тропы. Черепанов свернул левее, направляясь к спуску, в вершину Орочена, но позади неожиданно послышался шорох шагов. Хрустнула ветка. Черепанов оглянулся и сразу был оглушен жестоким ударом в голову. Он покачнулся, но не упал, а медленно сел на влажную от росы землю. Все закружилось перед ним, теплое потекло по лицу, на шею, на грудь… Но пальцы уже открыли кобуру нагана. Наган оказался страшно тяжелым. Сжав зубы, Черепанов с усилием поднял его, успел найти приближавшуюся цель и выстрелил.
26
Утром, идя на работу, Маруся увидела около больницы кучку женщин. В середине стояла толстая, как ступа, Ивановна, Марусина ученица, и слегка покачивала маленькой головкой, слушая бабьи разговоры.
– Вы что собрались, кумушки? – весело спросила Маруся, проходя мимо.
– А ты ничего не слыхала?
– Нет, – сказала Маруся и остановилась.
– Партийному секретарю голову проломили!.. Камнем до крови.
– Сиделка вот сказывает – бинтов смотали на него без конца.
– Может, и помрет, если в мозгах кровь запечется…
– Очень просто, помереть недолго, – наперебой заговорили бабы.
Маруся побледнела и совсем по-детски громко заплакала. И так искренне выразилось ее огорчение, что прослезилась и Ивановна, притихли остальные приисковые подружки: всем вспомнилась дружелюбная простота секретаря партийной организации.
Девушка провела ладонью по лицу, подняла намокшие ресницы, в глазах загорелись злые огоньки.
– Где он сейчас?
– У себя дома.
– В больнице не захотел лежать.
Маруся до боли сжала кулаки и быстро пошла по дороге к бараку Сергея Ли. Женщины долго смотрели ей вслед.
– Словно своего родного жалеет!
– Да как не пожалеть, бабы!
– Не из-за нее ли тюкнули-то его? – высказала предположение юркая, точно ящерица, старушонка-зимовщица. – Уж не Егорово ли это дело? На днях вечером выбежала за кладовку и слышу, будто разговаривает кто потихонечку. Я по кустикам, по кустикам, насколько могла, подобралась. Стоят они на дороге: этак Егор, этак Маруська. Чего говорили, брехать не стану – не слыхала, а только, видать, она сюда шла, а Егорка-то ее отговаривал. Долго стояли. Не иначе, это его работа!
– Парень-то степенный! Вряд ли пошел бы он на такое, – возразила Ивановна. – Хотя с ревностью не шути. Ох, и лютое чувство!
Разговоры перешли на мужей, измены и ссоры. И долго еще трещали бабы, пока не одернул их проходивший мимо старик Фетистов.
– Загалдели, вороны… – сказал он дребезжащим тенорком. – Кому беда, а вам все развлечение.
Вечером неожиданно арестовали Егора, так как стало известно, что он в ту ночь пришел в барак только под утро. Где он был, Егор отказался сообщить, и два милиционера увели его на Незаметный.
27
Ветер вздувал пузырем распоясанную рубаху Никитина, трепал пряди его мягких волос. Мишка стоял на краю неглубокой ямы, ожидая, пока другой старатель нагружал тачку. Откатку производили двое, три человека работали в яме, маленькая артель была вся налицо. Деляну эту они получили недавно и торопились использовать последние хорошие дни уходящего лета.
С весны Никитин уже успел переменить несколько делянок, но нигде не заработал. Неудачи не особенно огорчали его. Он не привык серьезно задумываться, не умел рассуждать, а жил беспечно и просто.
Пить водку Мишка научился еще совсем желторотым юнцом. Вступая в комсомол, обещал прекратить выпивку, однако старательская среда, в которой он находился, не допустила подобного отступничества. Везде, где он появлялся, старатели настойчиво угощали его, и он не мог отказаться; после гульбы жестоко сокрушался, получая нагоняй в ячейке, раскаивался… и снова не выдерживал.
Когда его исключили, он сначала загрустил, а потом махнул рукой и увлекся поисками фарта.
Сейчас Мишка стоял и думал о предстоящих промывках, вспоминал, как фунтили на Верхне-Незаметном в двадцать четвертом году. Он заработал тогда в одно лето около десяти фунтов золота, а ему не было и семнадцати лет. Не зная, что делать с таким сказочным богатством, он очертя голову проиграл добрую половину в карты, а остальное прокутил в компании прихлебателей, восхищенных его щедростью и безрассудным молодечеством. С тех пор и закрепилась за ним горькая слава компанейского парня.
Закончив углубку ямы, старатели отдохнули и начали вскрывать «торфа» вверх по деляне. Мишка Никитин работал теперь в забое. Из-под кайла его так и брызгали белые искры, обрушивались плотные комья породы.
Подравнивая низ забоя, он ударил кайлом раз, другой, и вдруг что-то блеснуло перед его взглядом. Он застыл, подавшись вперед напряженным телом, и все мысли мгновенно исчезли, осталось только вот это: кайло в руках, буро-желтая разрушенная земля и яркая царапина в углублении забоя. Старатель упал на колени, ковырнул блестящее, и из-под железного носа кайла вывернулся на его ладонь небольшой грязный камень.
По одному весу, не глядя, он узнал бы, что это золото, поднялся, ошалелый от радости, и долго протирал находку подолом рубахи. Остальные старатели нетерпеливо переминались вокруг, ревниво и жадно следя за каждым его движением.
Матово-желтый, поцарапанный сбоку самородок, похожий по форме на уродливую картофелину, глянул на них с Мишкиной ладони. Он переходил из рук в руки, им любовались, нежно оглаживали его неровности.
– Фунта полтора потянет! – сказал бывший зимовщик Быков, прикидывая находку на вес.
– Да, пожалуй, не меньше.
– В конторе определят.
– Сдавать понесем – узнаем.
«Сдавать в контору…» Эти слова сразу охладили пыл золотоискателей, и они присмирели, призадумались: всем стало жалко отдать самородок. Не то что они мало получили бы за него – оплачивали неплохо, но так заманчиво иметь свое золото! Хоть пропить, хоть перепродать, но распорядиться им по собственному усмотрению. У косого Быкова даже руки затряслись.
Все без слов понимали настроение друг друга и чувствовали себя неловко. Некоторые раньше занимались хищением, но вместе собрались впервые, еще не снюхались, да и как утаить самородок на пятерых?!
– Может, там еще есть? – выразил общую мысль артельщик Григорий, и все принялись искать, разгребали породу, осторожно кайлили, растирали комки в ладонях. Несколько маленьких самородков успокоили их, и Быков пошел за лотком.
Народу в вершине ключа было мало, и до вечера артель незаметно промыла лотков двадцать. Прежде чем идти в барак, копачи договорились, что никому не скажут о своем фарте, и два дня будут мыть тайком: они числились на подготовке, и горный надзор к ним заглядывал редко.
Мишка тоже согласился на хищение. Он хотел оставить себе найденный им самородок, хотя и не представлял, куда приспособит эту огромную золотину.
На другой день утром, выйдя из барака, он увидел Григория, разговаривавшего с китайцем в круглой шляпе и дабовых штанах с отвислой мотней. Мишка не сразу узнал в этом старателе, худом и длиннозубом, веселого Саньку Степанозу.
Артельщик отошел в сторону, подмигнул Мишке.
– Просится в артель, – сказал он, кивая на китайца, – учуял, где жареным пахнет. Пай вносит шестьсот рублей… Примем, что ли?
Мишка недовольно насупился.
– Откуда он узнал? Натрепался кто-нибудь?
– Да ты не бойсь, с ним удобней… Перепродать али еще чего, рисковать на стороне не придется. Теплого время осталось мало, впятером все равно не успеем отработать.
– Как хотите, – сказал Мишка уклончиво.
Он все-таки надеялся, что остальные члены артели запротестуют. Однако из дальнейшего стало ясно, что вопрос о принятии новичка уже решен заранее: никто не удивился появлению китайца на деляне, и Григорий ни с кем больше не советовался.
За три дня они набили золотом увесистый мешочек и начали промывку на бутаре: срок подготовительных работ кончился, скрываться дольше было невозможно.
Вечером после первой промывки, давшей артели семьсот сорок граммов, в бараке началась пьянка.
Перед гулянкой Мишка, еще не успев заложить как следует, взлохмаченный и счастливый возвращался из ороченского магазина с котомкой, набитой продуктами, бутылками спирта и двумя буханками хлеба в руках. Сокращая путь, он пробирался в стороне от тропы, отводил растопыренными локтями ветки кустарников, и мшистая земля беззвучно колебалась под его легкими шагами.
– Жалко, мы вместе не пошли, – сказал впереди приглушенный голос. – Вдвоем мы бы во…
Мишка словно налетел на глухую стену, разом подался назад и замер.
– Его стреляй! – ответил китаец и злобно сплюнул. – Кругом мешает компанья с Сережка Ли. Тебя союза не пусти, хочет справка получи из ваша деревня. Меня грози высылка, как чужого элемента. Какой вредный люди! Я двадцать пять года живи на русски сторона, такой плохой не видал.
– Жалко, м-мы бы его… вдвоем-то… – промычал первый, и Мишка узнал голос Быкова.
Потом они пошептались неслышно и пошли к бараку. Никитин, прижимая к груди еще теплый хлеб, двинулся следом. Ночная птица ширкнула его крылом по лицу, и от неожиданности он чуть не выронил одну буханку.
«Вот напоролся на приключение!» – думал он, поглядывая то на быстро темневшее небо, то вперед, чтобы не упустить Быкова и его спутника. Когда свет из окошка упал на них, он узнал круглую шляпу Саньки и вырванный углом лоскут на рукаве его китайской кофты.
В бараке было пьяным-пьяно, но Мишка в этот вечер пил мало, подолгу задумывался, щуря выпуклые светлые глаза, тихонько насвистывал.
Утром он отозвал в сторону желтого с похмелья артельщика и, глядя ему в упор в широкую, стянутую рубцом переносицу, сказал приглушенным голосом…
– Этот, ходенька-то твой… он Черепанова высторожил.
– Да ну? – искренне удивился Григорий. – Ах он, холера! Он ведь ладил в старшинки попасть в восточной артели, а Черепанов да Сергей Ли всех китайцев против него восстановили. На Сергея старшинки тоже грозятся. Мстительные они до ужаса. – Григорий переступил с ноги на ногу, спросил с неловкой усмешкой. – Что же ты теперь будешь делать?
– Заявлю, – жестко сказал Мишка.
Глаз артельщика воровато забегал, широкое лицо его покрылось от волнения бурыми пятнами.
– Покорно благодарим! Он же нас засыплет насчет утайки-то! Вместе ведь хитили… Тогда нас с делянки сразу выметут.
Об этом Мишка не подумал. Углы его толстых губ опустились. Григорий, заметив растерянность парня, хлопнул его по плечу, сказал ласково:
– Брось, Мишуха! Чего нам ввязываться в чужие дела! Один раз пофартило в кои годы, и то пойдет псу под хвост. Не по-товарищески будет с твоей стороны. Они с тобой не больно цацкались: как не поглянулся, так и вытурили в беспартийные. От всей души советую – не связывайся!
Слова эти крепко поколебали Мишкину убежденность. В самом деле: Черепанов остался живой, в драках люди еще сильнее увечат друг друга, и никто бузы не поднимает. Не стоит из-за пустяков лишаться хорошей делянки.
Артельщик сразу повеселел и обращался с Мишкой заискивающе-дружелюбно.
Однако общество Быкова и Саньки после подслушанного разговора стало тяготить Мишку.
«Собралось жулье на легкую поживу!» – злился он. Особенно раздражал его вид угрюмого Быкова. Потом он вспомнил Егорку Нестерова. «Сидит парень ни за что!» Конечно, знакомство у них малое, но разве это по-товарищески – не выручить его из беды?
28
Когда милиционеры вывели Егора из барака, одна только Надежда проводила его. Она молча шла рядом с ним, теребя край фартука, пока милиционер не отстранил ее. Егор несколько раз оглядывался и видел, как неподвижно, опустив руки, стояла она на тропинке.
«Несчастные мы с ней оба!» – подумал он тоскливо.
Взяли его сразу после работы – от волнения он не смог пообедать, но не испытывал ни усталости, ни голода. Случай с Черепановым возмутил всех приискателей, и теперь Егор сгорал от стыда под их насмешливыми и осуждающими взглядами. Узелок с бельем стеснял так, что хотелось зашвырнуть его в кусты. Может быть, не всякому встречному было бы понятно, что ведут арестованного, но проклятый узелок выдавал все!
– Рабочий человек, а не лучше кулака, который из-за угла с обрезом нападает, – сказал кто-то басом.
Егор взглянул исподлобья, увидел у тропы двух знакомых старателей и отвернулся.
– За что он его? – спросил другой.
– За девку.
У Егора бешено заколотилось сердце: откуда стало известно, что он ревновал Марусю к Черепанову? Да, ревновал, но разве можно заподозрить его в покушении на убийство? На миг он закрыл глаза, и ему отчетливо представилось, как заливает кровь запомнившееся, кажется, навсегда смуглое лицо с такой светлой улыбкой, что даже его, Егорова, угрюмая душа открывается ей навстречу. Невыразимая обида охватила его.
– Я не виноватый! – крикнул он, останавливаясь, но в ответ услышал смех.
– Иди, иди!.. Там разберут, виноватый или невиноватый, – сурово сказал милиционер.
И старатель, споткнувшись, пошел дальше.
На полдороге, когда отдыхали у ключа, он вспомнил о лепешках, которые успела всучить ему Надежда, потянулся было к лежавшему на траве узелку, но опустил руку. «Хуже кулака!..» Егор тоже слышал о том, что творилось в последние годы в деревне: о растущих артелях-колхозах, о бешеном сопротивлении мироедов. «Повеситься в пору, – мелькнула у него мысль. – До чего розно душа с телом живут – душа с тоски рвется, а брюхо жрать просит». Мгновенно вспыхнувшее отвращение к себе вылилось в решении: «Ежели сразу не выпустят, уморюсь с голоду».
На допросе он упрямо молчал, и молчание его даже озадачило седоватого, видавшего виды следователя. Вернувшись в камеру, Егор залег в углу и притворился спящим. С ним вместе сидели жулики самого низкого пошиба. Разглядывая их из-под прижмуренных век, он слушал малопонятные разговоры, и ему хотелось раскидать эту нечисть, выломать дверь и убежать в тайгу, где все так просто, где можно лечь прямо на землю, прижаться к ней, словно к груди матери, и, не стыдясь, заплакать навзрыд…
Неизвестный, бросивший камнем в Черепанова, нечаянно отомстил и за ревнивые Егоровы терзания, и поскольку соперник остался жив, Егор сначала был почти доволен. Но по общему негодованию он понял, что таежникам Черепанов дорог. «А что он сделал для нас хорошего? – размышлял Егор. – Часто бывал на делянах?.. Ему за это деньги платят. Собрания проводит? Так на то он секретарь организации. Это его обязанность прямая». Вспомнились слова Зуева. «Душевный человек!» – сказал однажды старик о Черепанове.
«Может быть, это: за работу деньги платят, а душевность – особая статья, ее не укупишь. Выходит, я хуже всех, если порадовался его несчастью? Значит, я с бандитом заодно?»
От этой мысли Егор так скрипнул зубами, что застонал вслух.
– Заболел, что ли?
Егор открыл глаза и увидел красновекое лицо картежника-шулера, изрытое глубокими морщинами.
– Тяжело!
– А меня выселяют из приискового района, – сообщил, словно похвастался, шулер. – Власть оберегает карманы трудящихся от моего искусства, а мое здоровье от здешнего климата. В административном порядке. – Он присвистнул и сделал странное движение тонкой, бледной, словно бескостной, рукой. – А ты?
– Что я? – спросил Егор неохотно.
– Тебя тоже к высылке?
Молодой старатель вспыхнул от возмущения:
– Я по ошибке.
– Ты был уже на допросе?
– Был.
Шулер склонил голову, оттопыренное ухо его будто пошевелилось.
– И что же?
– Ничего.
– То есть как ничего? Если ошибка, то она должна выясниться.
– Ее нельзя выяснить.
– Почему?
Егору не хотелось говорить с этим жуликом, приставшим к нему то ли от скуки, то ли в поисках единомышленников.
– Ты террорист, – подсказал шулер. – Тот, кто убивает все мешающее нормальной жизни, – пояснил он, заметив недоумение старателя. – Я тебя приветствую.
– Приветствуешь? – Егор поднял вихрастую голову, посмотрел на собеседника с неприязнью. – Не больно-то я нуждаюсь в твоем приветствии. Понял? Не на того напал. В ту ночь был я в чужой шахте. Золота хотел намыть в богатом забое… А молчу потому, что есть одна… которая за это не простит.
– Предпочитаешь прослыть убийцей? – съязвил шулер.
Егор нахмурился.
– Тут я не виноватый. Меня все равно выпустят.
– Ты оказываешь мне больше доверия, чем следователю, – заметил шулер, усмехаясь.
– Стыдное про себя не всякому расскажешь. Перед хорошим человеком будешь вроде оплеванный, а ты кто? Человек, что ли?.. Так, видимость одна.
Шулер отодвинулся и озадаченно притих. А Егор повернулся на спину и, не слушая шушуканья блатных, задумался.
29
– Можно приступать, Петр Петрович? – почтительно спросил смотритель работ Колабин.
Потатуев взглянул на часы:
– Пора.
Колабин рысцой обежал вокруг промывальной ямы зумпфа и снял пломбы с бутары.
Быков и Мишка Никитин приступили к съемке. Рабочий день на делянах уже кончался, и любопытные подходили со всех сторон. Они стояли в некотором отдалении, переговаривались между собой, но не спускали глаз с шлихов, смываемых с бутары в деревянный лоток. Мишка, присев на корточки, держал лоток. Руки его покраснели от холодной воды, но он сидел неподвижно, сжав толстые губы, и, казалось, ничего не замечал, кроме ярких желтых крупинок, мелькавших в черной массе шлихов.
– Сколько вчера сняли? – спросил Потатуев Саньку.
– Два фунта двенадцать золотника. – Китаец подумал и добавил весело: – Восемьсот пятьдесят грама. Шибко хорошо заработай. Каждый день.
– Я тоже думаю, что неплохо. Все сдаете? Не таите?
– Как можно? Ваша нас обижает такой подозрения! Смотритель пломба делает.
– Разве что пломба! Да вы и с пломбированного сумеете похитить. – Потатуев посмотрел на китайца, подмигнул, и оба рассмеялись. Оглянувшись на подошедших старателей, Потатуев громче и строже добавил: – Смотри, попадетесь, сразу с делянки долой!
– Зачем попадетесь! Наша хорошо живи, смирно. Ваша моя знает. Давно знакомый люди.
– Потому и предупреждаю, что знакомый.
Потатуев усмехнулся и тоже подошел ближе к зумпфу. Артельщик и Мишка «доводили» золото, отмывая шлихи в двух лотках. Остальные члены артели стояли тут же, с неослабевающим интересом следили за движениями промывальщиков.
Потатуев через плечо Мишки заглянул в лоток. Золото медленно передвигалось в нем, вращаемое движением воды: самородок, много мелкой крупы, пластинка, похожая на елочку; поблескивая, легко смывались остатки шлихов. Крякнув, Потатуев выпрямился, огладил ладонью усы и подбородок, маленькие глаза его хищно, светло горели.
Санька подошел сзади, посмотрел на золото, весело прищелкнул языком. Старатели с других делян завистливо вздыхали или громко хвастались прошлыми удачами.
– Кто такой? – спросил Потатуев Саньку, кивая на Быкова. Зеленоватые глаза Быкова смотрели на золото, смытое теперь уже на один лоток, и на Потатуева; всем видом и выражением он странно отличался от остальных старателей. – Давно в артели?
– Моя приходи, его здесь работай. Наша люди… – Лицо Саньки было неподвижно, но глаза настороженно ловили взгляд Потатуева.
– Раньше знал?
– Раньше года знакомый нету.
Потатуев еще раз пристально оглянул Быкова и обернулся к подошедшему Колабину.
– Ну, как?
– Сейчас взвешаем. Пойдем в контору или здесь можно?
– Съемка крупная, лучше в конторе. Сколько приблизительно?
– Около двух фунтов.
– Вот счастье людям! – Потатуев прикинул на ладони мокрый тяжелый узелок и снова усмехнулся в усы. – Что бы вы сделали, если бы вам достался такой сверточек?
– Право, не знаю… – замялся Колабин, словно и вправду вообразил себя обладателем золота. – Купил бы домик в Благовещенске с фруктовым садом…
– А ты куда свой заработок потратишь? – спросил Потатуев, передавая узелок Григорию.
– Куда-нибудь употребим. Жена у меня денежку любит, съездим в жилуху. Погуляем. Потом опять на делянку. Чего же еще? – Старатель подошел ближе к Потатуеву, обдавая его винным перегаром, сказал просительно: – Вы бы, Петр Петрович, зашли к нам в барак на угощенье.
– Не могу, дорогой. Я человек старой выучки. У нас не полагалось, чтобы служащие с рабочими компанию водили.
– Мы понимаем, конечно… Просим от души.
– Не могу. Люблю таежников, но в семейственности меня никто не попрекнет. Черепанова ты небось не пригласил бы.
– Так он человек партейный. Он на гулянку, конечно, не пойдет, а за всяко просто заходить никогда не стесняется.
– А у меня времени нет, чтобы запросто ходить по баракам, – раздраженно сказал Потатуев и, кивнув смотрителю, пошел по узкой тропинке между ямами и отвалами разреза.
30
Когда бабьи разговоры дошли до Акимовны, она чуть не захворала от огорчения, заохала, разбранила дочь, но Маруся очень резко оборвала ее причитания. Она тоже нервничала, потому что жалела Егора, но сомневалась в его непричастности. Где, в самом деле, он шлялся в ту ночь?
– Если у вас любови не было, так чего ради он вызверился на Черепанова? – приставала мать.
Маруся нетерпеливо встряхивала стрижеными волосами.
– Оставь ты меня в покое! Я-то при чем, если у него не все дома? А может, он и не виноват. С Черепановым у меня отношения товарищеские, и нет, понимаешь, нет повода приплетать меня к нему!
– Говорила я тебе: какая может быть дружба у девушки с холостыми ребятами!..
Но девушка, не дослушав попреков, уходила из барака. Сам Рыжков ничего не говорил, не спрашивал и сердито подмигивал жене, когда она начинала вздыхать да охать.
– Ты ровно гвоздь в сапоге: беспрестанно тревожишь, – укорил он ее. – Отобьешь девку от дома, ей и без твоей докуки тошно.
Акимовна удивилась до онемения. Она ожидала от мужа попреков за недогляд, сетований на избалованность дочери, даже ругани, но не попустительства, которое оскорбляло ее, ставя под сомнение родительское право распекать и советовать. Она суетливо оправила платок, сказала скорбно:
– Рада бы помолчать, да на сердце кипит. Глазыньки у меня от слез притупели – нитку в иголку не вдену. Срамоты сколько: кого ни встреть, всяк намолвку делает.
– У вас, у баб, обычай таков: соберетесь и ну языками молоть. Нечего убиваться прежде времени. Пока еще плохого не видать.
– Чего же хуже надо, потатчик ты этакий? Чтобы в подоле принесла?
– Выдумаешь! Но ежели что, и с ребенком не пропадет, на улицу не выкинешь. Ладно, хватит об этом толковать. – Он сел на чурбан и попросил ласковее: – Обстриги меня под гребенку, а то я вовсе облохмател.
Женщина накинула ему на плечи свой чистый фартук, взяла ножницы, железную гребенку и принялась за стрижку. Скоро половина головы стала похожа на неровно выкошенный лужок. Акимовна зашла было с Другой стороны, но Рыжков отстранил ее рукой и, глядя исподлобья, смешной и печальный, сказал с горестным вздохом:
– Неужто взаправду Егоркино дело? Куда это годится? Без всякого хулиганства можно было обойтись. Пришел бы и сказал: так и так, мол, Афанасий Лаврентьич, ну и фактически поставили бы перед ней вопрос ребром. А то сунулся в брод по самый рот. Эка дурость какую спорол! – Рыжков шаркнул по полу ичигом, будто лягнул беду-кручину, и снова наклонил к жене большую голову.
Надежда догнала Марусю в сенцах, возбужденно и быстро зашептала:
– Марусенька, ты бы похлопотала о нем… о Егорушке-то. Золотой ведь он человек! Не поднимется у него рука на такое!
– Что ж я могу? – грустно сказала Маруся, удивленная волнением Надежды.
– Посоветуйся с кем-нибудь. У тебя знакомства много. Может, нанять этого… как их… при суде-то?
– Да ведь ничего еще неизвестно, – нерешительно возразила Маруся, – и денег у нас нет.
– Эх ты-ы! – Надежда сдвинула брови, маленькие уши ее горели. – Была бы я девкой… Я бы за такого парня душу заложила! Деньги!.. Господи, да сегодня же хоть тысячу рублей добуду…
– Что ты выдумала! – прикрикнула Маруся, но, пугаясь необычного вида женщины, погладила ее вздрагивающую руку. – Взятки с нас брать не будут. Чего ты раскипятилась? Я его тоже жалею, только надоел он мне со своей любовью.
Надежда неожиданно побледнела.
– Я ведь как мать ему… Один он… Посмотрю на вас! Оба вы молодые… Пара!
– Я поговорю, – пообещала Маруся. – Вчера еще хотела попросить одного человека… чтобы выяснили это дело. Не очень-то приятно мне выслушивать разные разности!
31
В парткоме, все еще помещавшемся в клубе, только что закончилось заседание, было накурено, скамейки стояли в беспорядке. За перегородкой, где находилась гримировочная, ребята-комсомольцы играли в шахматы.








