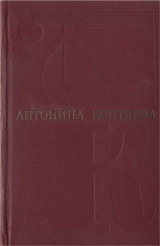
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
«Ишь, как распелся!» – подумал Андрей, уже наученный горьким опытом.
– Если и в этот раз ошибемся, трудно подняться будет, – высказал он вслух навязчивую мысль, подкинутую ему Моряком.
– Что вы, Андрей Никитич! Право слово! До каких пор она нас водить будет? Хоть она и жила, а тоже надо совесть иметь!
– Егорыч еще не выписался? – спросил Подосенов чуть погодя, оглядывая помещение барака, в сумраке которого как пчелы гудели рабочие.
– Выписался, да у него после желтухи с почками неладно сделалось. Недаром пословица – простоит изба и сто лет, ежели ремонту нет.
– Не слыхал я такой. – Счастливо улыбаясь, Андрей представил поездку в тайгу, дни, проведенные с Валентиной. – Вы вроде Моряка сочинительством занялись.
– Да ведь правда! – немножко застеснялся Чулков. – Изнашивается человек с годами, а все держится, покуда на ногах. А свалился раз – и пошло-посыпало. На курорт направили Егорыча. На самый на Кавказ. Анна Сергеевна путевку отхлопотали.
Андрей ничего не сказал, но открытое лицо его выразило унылость.
– Мне думается, Анне-то Сергеевне надо бы сразу сообщить! – добавил старый таежник, не зная, как истолковать выражение Андрея. – То-то порадуется! Ведь весь будущий производственный вопрос на ниточке держится.
– Нет, лучше подождем. Вы и рабочих предупредите, чтобы помолчали пока.
Андрей встал, беспокойно прошелся по бараку. Чулков исподлобья наблюдал за ним: он ожидал большего проявления радости. Вялая задумчивость главного геолога оскорбляла лучшие чувства разведчика.
14
Кирик не успел еще подробно рассказать жителям своего поселка о поездке, о том, как он заезжал на выморочное стойбище и как спускался с белым стариком в горячую утробу парохода.
Пока он отсутствовал, начали строить магазин, теплые подвалы для овощей, отправили человек тридцать парней и девушек на шахты обучаться горному делу, а якут Гаврила вспахал трактором новое поле за речкой.
Жена Кирика за это время научилась хорошо доить и совсем привыкла к своим коровкам, но однажды, когда она выходила из коровника, ее любимица Ветка, мотнув головой, нечаянно подцепила ее рогом за кожаный, в светлых бляшках пояс.
Как всполошились эвенки, увидев бегущую гигантскими шагами Катерину рядом со скачущей коровой. В напряженно поднятой руке доярка держала ведро с молоком. Она испугалась, но молока не пролила. Кирик, выслушав рассказ о том, как односельчане, держа в руках жерди, сразу образовали круг и остановили ошалевшее животное, похвалил жену за храбрость и уважение к артельной продукции;
– Каждому дадут больше денег, если в артели будет больше прибыли, – важно сказал он, припоминая свой разговор с Анной.
На этом и застал его председатель артели Патрикеев, который сообщил, что в Буягинском наслеге, на Алдане, открываются курсы медицинских сестер и кооперативные и что со Светлого привезли бумагу об отправке на учебу молодых эвенков. В бумаге есть приписка насчет Кирика, если он пожелает, то для него по возрасту сделают исключение.
Охотник не сразу понял, что такое «исключение по возрасту», а разобравшись, очень возгордился. После этого он уже никак не мог не пожелать.
С целой оравой молодежи он в тот же день выехал на Светлый.
– На какие ты хочешь: на кооперативные или медицинские? – хмуро спросил Уваров, к которому Кирик явился посоветоваться.
– Медицинские – это фершалом, что ли? – с робкой надеждой спросил старик: ему очень польстила мысль сделаться чем-нибудь вроде доктора.
– Больно скоро хочешь ты стать фельдшером, – сказал Уваров, – это же шестимесячные курсы. Медицинской сестрой будешь, хирургической. Помогать при операциях будешь.
Эвенку очень хотелось бы помогать при операциях, хотя он и боялся их, но…
– Как же я сестрой буду? Баба я, что ли?
Этот наивный вопрос смутил и рассердил Уварова, сбитого с толку:
– Ну, братом будешь. Экий ты!.. Не все ли равно, как называться! Главное, чтобы дело знать.
– Тогда уж лучше, однако, на кооперативные.
Уваров написал ему заявление и позвонил по телефону в поселковый Совет.
Из поселкового Совета эвенк зашел в магазин. Вид продавцов, хлопотавших за прилавками, привел его прямо в умиление. Он сразу представил, как сам будет заправлять разными такими делами. Теперь надо было составить письмо для жены и передать обязательно – поклон односельчанам, чтобы ждали пополнения своих ученых кадров в торговле. Теперь иначе было нельзя, и охотник решил пойти к дружку Ковбе, но, выйдя из магазина, увидел Валентину Саенко.
– Здравствуй, – промолвил он с искренне радостной улыбкой.
– Кирик… Здравствуй, Кирик! – обрадовалась и Валентина: эта встреча вызвала у нее столько волнующих воспоминаний.
– Ты что, хвораешь? – спросил он, шагая рядом: при всем оживлении она не выглядела такой свежей и румяной, какой он запомнил ее с первой встречи.
Саенко вздохнула:
– Немножко болею…
Она сразу потащила его к себе, узнав, что ему нужно написать письмо, и они вдвоем долго обсуждали, как лучше его составить.
– Пиши: едет, мол. Ученый, мол, будет. Заведующий магазином будет, – говорил Кирик, покусывая мундштук холодной трубочки: курить в такой нарядной комнате он стеснялся. – Хорошо, когда ученый, – продолжал он мечтательно. – Кругом уважение. Неученый мужик хуже ученой бабы. Я тебя уважаю. Я Анке-то сказал, что ты да мужик ее играл маленько… спал, мол, вместе.
– Ты с ума сошел, Кирик! – сдавленным голосом произнесла Валентина, бледнея.
– Нет, с ума не сошел. Надо сказать: друг она. Спать – это ничего. Обманывать нельзя – спаси бог.
– Что же… она сказала?
– Ничего не сказала. Она меня знает. Давай пиши еще: приедет, мол, домой, патефон купит. Вот как у тебя. Кружков с песнями купит…
Запечатанное письмо эвенк отнес в контору и сдал секретарю, как научила его Саенко, потом вышел на крыльцо и сел на ступеньке.
«Хорошая баба Валентина, – сказал он себе. – Хороший доктор».
Охотник вспомнил поездку с ней по тайге и вдруг забеспокоился. Сначала научился бы на сестру… или брата, потом на фельдшера. Как бы он, фельдшер Кирик Кириков, ездил по тайге! Знал бы все болезни. Лечил. Оспу делал, и все бы уважали его.
Сообразив, что допустил большую оплошность, он встал и пошел в партком.
Уваров выслушал тревожно сбивчивую речь эвенка и подумал, что, пожалуй, верно, лучше окончить ему медицинские курсы. В магазин и так все придут, а вот лечение, гигиена… Тут очень важно, чтобы свой человек был который язык знает.
Уваров написал новое заявление и снова долго говорил по телефону с поселковым Советом. Получив исправленные документы, Кирик вспомнил о письме, отосланном жене. Будут ждать продавца, а приедет вроде как фельдшер. Нет, так нельзя: обман получится. И Кирик помчался в контору. Он получил обратно письмо, положил его в карман и, выйдя на улицу, задумался: надо было написать другое.
15
Конюх сидел в своей комнатке, провонявшей крепким запахом дегтя и кожи, пил чай с постным сахаром и сухариками.
– Здорово, старик! – еще с порога закричал сияющий Кирик. – Я завтра, однако, поеду учиться.
Ковба отложил ложку, которой ел размокшие сухари, вытащил из-под стола запасной табурет.
– Давай садись, – предложил он и потянулся за второй кружкой.
Тогда охотник тоже начал хлопотать: положил дорожный вьюк на постели, развязал ремни и, ухватив за примятые листья, вытащил из сумы какую-то тяжелую овощь.
– Редька. – Ковба радостно осклабился, очень тронутый гостинцем. – Вот спасибо! Давно я редечки не едал. Сейчас мы ее нарежем да с маслом… – Он засучил рукав, вооружился ножом и спросил: – С огорода, поди-ка, спер?
– Пошто спер? Спаси бог! Сторож дал.
– Да ведь это турнепса, – определил Ковба с огорчением, сидя за столом и медлительно пожевывая. – То-то я и гляжу: красивая она больно.
Узнав, что Кирик отказался от кооперативных курсов, старик крепко пожалел.
– Это бы тебе верный кусок хлеба. Эх ты, голо-ва-а! Фершалом сделаться трудно: ведь они есть которые почище докторов, а тебя еще грамоте учить да учить! Валентина-то твоя лет пятнадцать, поди, училась, покуда до дела дошла.
Вообще Ковба был не против медицины, но желание эвенка подражать Валентине Ивановне вызвало в нем досаду.
– Никакого сознания в ней нет, – проворчал он, вспоминая то, что рассказывали ему Клавдия и сам Кирик. – Никакой жалости, а еще образованная!
С этими словами Ковба добыл с полки листок бумаги, конверт и чернила в бутылочке с деревянной пробкой. При своей внешней заскорузлости он был человеком с понятием, давно уже умудрился ликвидировать неграмотность и – хотя писать ему было некуда и некому – обзавелся всем письменным припасом.
Письмо он писал мучительно долго, и даже Кирик, с почтением наблюдавший за движениями его тяжелой руки (она возилась по листу бумаги, как медведь на песке), терял терпение и не раз пытался разнообразить дело посторонними разговорами.
Получив наконец письмо, заклеенное хлебным мякишем, эвенк отнес его к поселковому Совету – контора уже не работала – и опустил в почтовый ящик. Потом он отошел и снова затосковал, забеспокоился.
Уваров лег спать, но еще читал в постели газету, когда в дверь постучали. Он встал и впустил очень расстроенного Кирика.
– Что это у тебя вид такой унылый, товарищ медик? Будто ты уже помог кому-нибудь отправиться на тот свет, – грубовато пошутил таежник.
– Не могу я по-медицински, – жалобно заговорил таежник. – Меня грамоте учить да учить…
Уваров сел на кровать, почесал в раздумье волосатую под расстегнутой рубахой грудь.
– Ничего, научишься. Парень ты толковый.
– Какой я парень? Никакой я парень! Пятьдесят лет, однако. Голова-то худой уж!
– Хм! – Уваров похрустел газетой, разглядывая присмиревшего Кирика.
Лицо эвенка выражало тревогу.
– Не расстраивайся, – сказал Уваров, понимая растерянность охотника. – Видишь ли, у тебя, попросту сказать, глаза разбежались.
– Тогда пускай пойду я в кооператив.
– Смотри, тебе виднее. Давай бумаги. Я утром пораньше все выправлю.
Обрадованный Кирик полез по карманам.
– Ты уж не серчай, друг, – приговаривал он, виновато посматривая на Уварова.
На улице совсем темно. Незадачливый курсант пошел было к конному двору, возле которого жил Ковба, но снова вспомнил о письме: «Поеду на кооперативные, а написал – на медицинские».
У него заломило в висках, и он остановился посреди улицы. Одна нога хотела идти к старику, другая – за письмом. Кирик постоял в нерешительности и круто свернул к поселковому Совету. Темные изнутри стекла отсвечивали от ближнего фонаря, и охотник ясно увидел в них свою одинокую тень. Щель, в которую он недавно запустил письмо, оказалась совсем узкая, и расстроенный Кирик сел на завалину, не зная, что делать:
«Снять ящик?.. Пожалуй, нельзя. Ждать до утра – долго».
Ему захотелось домой, в артель. Он вдруг почувствовал себя совсем никудышным.
В домике Уварова уже темно. Эвенк долго в нерешительности ходил кругом, но все-таки подошел к двери, поцарапался легонько, потом сильнее. За дверью послышались грузные, твердые шаги. Крючок звякнул, дверь распахнулась. Уваров, странно большой, в белом, стоял у порога.
– Что? – спросил он. – Чего тебе не спится? Или опять передумал?
– Передумал, – тихонько сказал Кирик. – Однако я лучше домой поеду.
– Ну, беда-а! – Уваров полусердито рассмеялся. – Заходи в горницу. Аа-я-яй! – шумно зевнул он, включая настольную лампу.
С минуту он смотрел на эвенка теплым, сонным взглядом, потом вытащил из-под постели запасной тюфяк, постелил его на жестком диванчике, кинул в изголовье полушубок.
– Давай ложись и спи. Понял? Никаких больше разговоров сегодня на эту тему! Ты и меня совсем закружил…
– Тогда я пойду, однако…
– Не-ет! Никуда ты, однако, не пойдешь. Я тебе не мальчик всю ночь бегать открывать да закрывать. Я ведь тоже за день-то натопаюсь…
Уваров подождал, пока Кирик стянул торбаса и неловко улегся на диванчике, но, когда лег сам, сказал ясным, мягким и добрым голосом:
– Я тебя, браток, понимаю… Вопрос в жизни серьезный. В таких случаях человек обязательно сомневается. Все мы немножко чудаки: есть что-нибудь одно – берешь и доволен, дай на выбор – и не сообразишь, за что ухватиться.
Уваров замолчал, и Кирик, тотчас услышав его ровное дыхание, понял, что самый главный на прииске партийный товарищ уснул, и сам успокоился от близости этого сильного человека. Но и утишив свое волнение, он еще долго не мог отделаться от всяких трудных мыслей. Его беспокоило даже то, отчего ему так ловко лежать на высокой скамейке. Он вспомнил гладкие руки Валентины, уснувшие, как дикие голуби, на плече Андрея Подосенова, кудри их, темные, светлые, перепутанные сном и любовью, и вспышку страшного гнева, вызванную рассказом об этом, на лице Анны. Еще Кирик вспомнил редьку-турнепсу, подаренную им Ковбе, и большой хлеб, положенный в его вьюк стариком. Хлеб был круглый, теплый, румяный, как солнце.
– На дорожку, – сказал старик Ковба.
Эвенк взял булку, прислонил к своему лицу, вдыхая теперь уже привычный запах хлеба, потом поднял ее обеими руками и, любуясь ею, промолвил по-эвенкийски:
– Какое счастье, что есть на земле хлеб!
16
– Иначе я не мог…
Валентина молчала, опустив голову, нервно теребила снятую с руки замшевую перчатку. Она и Андрей сидели в уютной прибрежной котловине, обросшей по краю кустами жимолости и шиповника.
– Неужели ты не понимаешь, как мне тяжело!
Валентина еще ниже опустила голову, пряча лицо, но Андрей увидел, привлеченный движениями ее рук, перчатку, которую она теребила, и то, что вспыхивало светлым блеском и тут же расплывалось пятнами на желтой замше: Саенко плакала.
Он был с нею, пошел на унизительные уловки, чтобы устроить это свидание…
– Разве тебя не радует то, что мы вместе сейчас?
Она медлила с ответом, и Андрей вдруг услышал надвигающийся шквал птичьего перелета.
Прямо на них тянула стая гусей. Их было не меньше пятисот, и мощный плеск крыльев прошумел, словно буря, когда они взмывали разом ввысь, заметив сидевших людей. Быстро удаляясь на фоне тускневшего неба, стая извивалась огромной змеей, то выравниваясь, то колыхаясь клубами. Неумолчно звучал в ядреной свежести осеннего воздуха зовущий переклик голосов.
Андрей слушал, откинув голову, ноздри его раздувались.
Он вспомнил широкие розово-черные озерные разливы, желтизну высоких болотных трав и то, как однажды, в такой же вот тускло-багровый прохладный вечер, он нашел у своего охотничьего шалашика Анну. Она оставила все и прискакала к озерам. Чувство испуганной виноватости овладело им, когда он увидел ее измученную, а она, сразу просияв, сказала: «Живой! Пороть тебя некому! Шестой день пропадаешь».
– Ты заботишься лишь о себе, – сказала неожиданно Валентина, поднимая заплаканное лицо со злым, еще не знакомым Андрею выражением. – Ты думаешь только о том, что тебе тяжело. А мне легко?
– Я все время думал о тебе, – горячо сказал Андрей, сразу полностью обращенный к ней. – Я так тосковал…
– Конечно, ты приехал домой, к своему семейному очагу, – быстро продолжала Саенко, теперь уже спеша высказать то, что наболело у нее за последние дни, и пропустив мимо ушей его уверения. – Я не имею никакого права упрекать тебя, но и спокойной оставаться не могу, когда ты – там, с нею!.. Это просто невыносимо. Я ненавидеть ее начинаю.
Валентина взглянула в опечаленное лицо Андрея, и злость исчезла. Ей стало стыдно и больно.
– Прости меня, – сказала она, порывисто обнимая его, – прости, я ничего не буду требовать. Но не забывай, что есть одна такая, для которой ты – все на свете!
– Как можно забыть? Я тоже извелся. Ведь я тебя целую неделю не видел.
«Что же тебе мешало прийти?» – хотела сказать Валентина, но удержалась и только прошептала:
– Да, целую неделю!
Теперь ей хотелось загладить то, что прорвалось поневоле, и в то же время она ощущала горький осадок оттого, что, вспылив, лишь потеряла в его мнении: не избалованная жизнью, она все-таки не умела и не могла побороть собственную строптивость.
– Я больше не стану упрекать тебя, – сказала она, снимая с куста легко отпадавшие, вялые листики и осыпая ими Андрея, лежавшего возле нее на сухо шелестевшей траве. – Я постараюсь успокоиться и не ревновать.
– Неужели ты думаешь, что я буду делить свое сердце между двумя? – спросил он, облокачиваясь и положив на ладонь лицо. – Но ты пойми, насколько я связан. Я хорошо сознаю, какую ответственность несу перед тобой, но и Анну пощадить надо…
– Как хорошо было бы, если бы мы встретились лет десять назад! – задумчиво произнесла Валентина.
Андрей промолчал.
Десять лет назад он уже любил Анну. Хотел ли он вычеркнуть ее из своей жизни в те годы? А пять лет назад? А в прошлом году?..
17
«Объявляться» Чулков приехал неожиданно, даже Андрей, подготовленный к этому, растерялся, когда в кабинет ввалился его старый приятель. Сам Чулков, хотя и старался напустить на себя небрежное спокойствие видавшего виды разведчика, не мог скрыть торжества, и скуластое лицо его так и расплывалось в улыбке.
– Привез первую добычу, глядите, Андрей Никитич! – сказал он и, подмигивая, усмехаясь, покашливая, засуетился самозабвенно над привезенными мешочками и пакетиками.
– Показывай свои трофеи. Чем вы хотите похвастать? – говорил Андрей, тоже взбудораженный.
Вместе с Чулковым он начал высвобождать из оберток образцы красноватого, ржаво-дымчатого и совсем белого кварца. Куски кварца были с тонким золотым накрапом, блестками золота в изломах и сплошь спаянные золотом, будто облицованные им. Вокруг стола уже собрались сотрудники разведочного отдела, смотрели молча, только глаза и щеки у всех разгорелись, точно озарял людей чистый блеск найденного ими металла. Они ведь тоже искали его: топографы, геологи поисковых партий, геологи-разведчики, чертежники, машинистка с бантами в белых девичьих косах. Находка, выложенная на стол, притягательная, словно магнит, принадлежала им, она сразу подняла их над остальными работниками приискового управления.
Все молчали, а у крыльца конторы, у магазина и шахтовых копров уже обсуждался вопрос о том, какую рудную фабрику будут строить на Долгой горе.
– Теперь загремим! – сказал Ковба Хунхузу, засыпая ему по такому радостному случаю добавочную порцию овса. – Ешь на здоровье. Теперь, брат, начнут нам подбрасывать и денег и продуктов, а прежде всего народ к нам повалит. Это уж как водится. Он, народ-то, не станет разбираться, какое тут золото: рассыпное или рудное. Ему только бы золото!
Анна и Ветлугин узнали об открытии позднее всех: им сообщили по телефону.
– Да, очень богатое, – сдержанно ответил Анне голос главного геолога – ее мужа.
– Поздравляю! – тихо сказала она. – Я тоже рада.
– Спасибо, – почти официально отозвался Андрей.
Потом в кабинет директора влетел сияющий Ветлугин. Теперь и он гордился: разве не настоял он на том, чтобы дать положительное заключение на весь сезон летних работ?
Одна Анна осталась в стороне от общего торжества: ведь она больше всех протестовала против Долгой горы. Правда, никто не напоминал ей об этом, но она-то помнила и хотя не раскаивалась, но гордиться ей было нечем. Однако она вздохнула свободнее, страшная тяжесть свалилась с ее плеч: тупик, в котором находилось предприятие, был взорван, – только это и радовало.
– Пойдемте к разведчикам, поздравим их с открытием и поглядим на золото, – сказала она Ветлугину.
– Проходите, проходите, Анна Сергеевна! – бросившись им навстречу, вскричал Чулков, чувствовавший себя в это время в кабинете начальника совсем по-хозяйски.
Он бесцеремонно раздвинул людей, толпившихся возле образцов руды, и, идя боком впереди Анны и Ветлугина, с таким видом подвел их к столу, что не удивиться тому, что он хотел показать, было невозможно. Но директор и главный инженер удивились не из вежливости. Их, как и всех остальных, заворожило золото, блестевшее из каждого излома руды. Это было, поистине сказочное богатство, и они могли теперь от чистого сердца преподнести его стране.
18
Красные до черноты лежали на солнцепеке кисти зрелой брусники. От этих темных маленьких гроздьев лбище горы казалось кудрявым.
Анна смотрела на ягоды, раздавленные сапогами тех, кто шел впереди, осторожно ступала по скользким листочкам, негромко говорила Чулкову:
– Сколько добра зря пропадает! Перебросьте-ка сюда на недельку человек сорок с лесозаготовок! Дайте им норму… ведра два-три.
– Три много, Анна Сергеевна.
– На такой-то ягоде! Вооружите их совками – больше дадут. Ссыпать можно в ящики. Зимой вывезем с обратным порожняком. Я, когда была девчонкой, любила ягоды собирать. Меня Кабарожкой звали на зимовьях. Знаете, коза такая есть – кабарга… Легко я по горам ходила.
Чулков стал рассказывать о своем, но Анна уже не слушала его. Она увидела себя девочкой-подростком. Платок всегда съезжал почему-то с ее гладко причесанной головы. Андрей любил дергать ее за косу. Ох, и натрепала она его однажды за такую грубую шутку! А потом они помирились… Он жил тогда у них только летом, пока в приисковом поселке не открылась своя средняя школа. Каждую весну, вытянувшийся за время ученья, он вваливался к ним в барак с котомкой. В котомке были потрепанные учебники – подарок Анне, которая одолевала их в течение года до следующей встречи, – пара белья, застиранного неловкими юношескими руками, да старое одеяло. Появление друга всякий раз казалось влюбленной девочке неожиданно прекрасным.
Еще вспомнилось далекое осеннее утро. Деревья тонули в слоистой пелене тумана. Расплывчато рыжел над ними огнистый куст солнца, а настоящие кусты, у самой тропинки, мокрые от оседавшей мги, пламенели ярко, свежо, холодно. Мать Анны первая сняла с плеч берестяный короб, обтянутый оленьей шкурой. Они отдыхали: мать, Андрей и Анна, усевшись на пожухлой траве, ели вареную картошку с огурцами и черным хлебом…
Брусника была такая крупная, горы такие синие. Деревянные пальцы совков покраснели от ягодного сока. Вольный ветер шел по горам на юго-запад, к Байкалу, разгонял туман, склонял посохшую траву в распадках, играл платком на плечах Анны. Она и Андрей взбежали вместе с ветром на высокие скалы.
Далеко впереди шумел Байкал, голубо-седой, мощный, дышавший пьяным разгулом.
Девушка никогда не видела столько воды… Двое юных посмотрели на шумевшее море, друг на друга и… поцеловались. Впервые он погладил ее тяжелую косу.
Сейчас он шел совсем близко, но в его прямой спине и уверенной походке чувствовалось совершенное равнодушие: он и в радости отчуждался от нее.
Анна повернулась к Чулкову, снова заговорила, стараясь отогнать тяжкие мысли:
– Мы ссыпали бруснику в кадки на зимовьях. Это в Баргузинской тайге. Кадки ведер на сорок. Зимой на санях вывозили их домой, в поселок. Бывало, выбежишь в кладовку, стукнешь по краю бочки – ягода несмятая так и покатится, зашумит. Я любила принести ее к чаю и облить мерзлую медом… Вы любите с медом?
– Люблю, – сказал разведчик. – У нас на Лене тоже этак: осенью целыми артелями ездили по бруснику, с бочками, с ящиками.
Чулков сразу заметил нелады между Анной и Андреем и сам намеренно говорил много, чтобы «не бередить болячку».
19
Около одной из канав Чулков остановился, заложив пальцы рук за узенький ремешок, лукаво подмигнул главному геологу.
«Вот мы какие, знай, мол, наших!» – говорило все его выражение.
Андрей понимающе кивнул и первым сошел в канаву. Сухо-каменистая, просторная, с устьями шурфов, темневшими на ее дне, тянулась она по горе. Именно здесь, в этой простой, свободно открытой канаве, находилось то, что объединило всех пришедших одинаковым волнением. По грубо сделанной лесенке они спустились в шурф. Оруденелая, точно ржавая кварцевая жила, прорвавшая когда-то древние граниты, была теперь вскрыта на глубину. В кварце светло блестело густо вкрапленное золото, местами он пророс золотом, как жиром, прямо залился им. Рука человека разрушила породы, и в только что вскрытой руде золото желтело особенно ярко, блестящее, холодное, шероховатое, с крючковатыми краями изломов. Такого богатства ни Ветлугин, ни Анна, ни сами разведчики никогда не видели.
– Вроде этого было на Королонских приисках по Витиму… – заговорил Чулков, первым нарушая сосредоточенное молчание.
Притихший после всех радостных волнений, он почти с благоговением смотрел на хитрую жилу, которая так долго ускользала от него и его товарищей.
– Я тогда работал у старых промышленников, – продолжал он свои воспоминания. – Только там кварц уже разрушился, рассыпался в песок, и золото можно было просто выбирать. Самородки, как тараканы в щелях, сидели в скале. Старатели, когда хищничали, крючком их выгребали. Без всякого шума уносили шапками. Богатое золото было, слов нет, а до этого и тому далеко!
– Эх, что бы найти этакую жилу пораньше! – бормотал Ветлугин, рассматривая кусок руды.
Даже радость по поводу открытия не приглушила в нем неприязни и зависти к Андрею.
– Что бы вам денег-то давать нам побольше? – в тон ему, но улыбаясь, укорил тот.
Как счастлив был бы он теперь, если бы над ним не тяготело предстоящее объяснение с Анной.
– В пору ведь было с подписным листом идти! – продолжал он насмешливо. – А теперь небось постараетесь как можно скорее выжить нас отсюда.
– Безусловно, – Ветлугина сразу обозлило нескрываемое торжество соперника. – Я рад душевно за свои денежки: не зря мы их вколачивали в Долгую гору.
– Может, на большую фабрику развернемся, – мечтал вслух Уваров, блестя карими, добрыми сейчас глазами: он был горячо благодарен Андрею за его оправданное деловое упорство. – Как ты думаешь, Анна Сергеевна?
– Теперь о чем угодно можно думать – золото есть.
– Есть, бессомненно, – подтвердил прямо-таки разнеженный Чулков. – Будем гнать да гнать и в глубину и по простиранию. Прослеживать будем. Жила что надо. Ровная, как апельсин!
– Вот уж придумал, – сказала Анна. – Апельсин круглый…
– Пес его знает, какой он есть. Слышал я, говорят такое.
Чулков лукавил: он отлично знал, что такое апельсин, но любил прикинуться закоренелым таежником, а кроме того, ему хотелось развеселить Анну. Оживленная богатым открытием, она снова стала молодой, как это было и на самом деле, а теперь еще смеялась – значит, все отлично: жила, золото, работа и отношения между ними – добрыми людьми.
– Лет через десяток вырастут здесь и апельсины, а яблоки наверняка, – полушутя сказала ему Анна, когда они вышли из канавы. – Взять распадок на южном склоне, застеклить его сверху вроде ангара…
– Дорого обойдется, – с сочувственной улыбкой возразил Ветлугин.
– А что нам дорого? Люди наши дороже стоят. Золото есть, отчего же садам не быть?
– При здешних снегах никакое застекление не выдержит, а без теплиц ничего не выйдет, – серьезно сказал Уваров, с сожалением взглянув на суровые хребты вокруг.
Ему тоже хотелось совершить что-нибудь особенно хорошее, радостное и значительное для всех.
– У меня есть один… без теплицы зимой ягодками пользуется, – сказал Чулков и, свернув с дорожки, приподнял корину, упавшую с сухостойного дерева. – Вчера я заприметил, как он хлопочет…
На земле лежала кучками отборная крупная брусника, отдельно – сланиковые орехи и лесные колоски.
– Бурундук? – спросила Анна.
– Он самый. Утром это вытаскал из норы. Немножко проветрит, просушит и обратно стаскает. Мудрый зверь! Много ли зараз за щеку возьмет, а глядите, натаскал сколько!
– Я его ограблю немножко… для Маринки.
– Берите, берите! – обрадованно заговорил Чулков. – Орехов у него на всю зиму. Я уж второй раз его высматриваю. А дочке интересно будет. Бурундук, мол, поклон послал с орехами.
20
Малоприметная дорожка, выбитая конскими копытами среди мхов и камней, вилась то по глухому лесу, то между скал, нагроможденных на открытых склонах. Далеко впереди ехал Андрей, потом Ветлугин, только Анна и Уваров ехали вместе, и всех их, двигавшихся гуськом, стало видно, когда они поднялись на голые просторы нагорья.
«В пору было с подписным листом идти», – припомнила Анна невеселую шутку мужа, отыскав взглядом черную точку, маячившую на краю каменистой пустыни. Очертаний знакомой фигуры она не различила. Неужели это Андрей один там, впереди?
Хунхуз споткнулся, громко звякнув подковой. Анна сразу натянула поводья. Она держалась в седле непринужденно, как и три месяца назад, казалось, не было оснований тревожиться за нее в пути, но Уваров мгновенно спрыгнул со своего коня и, забегая вперед, крикнул:
– Стой, товарищ Лаврентьева! Расковался твой разбойник.
Он подошел к Хунхузу, сильной рукой взял его ногу, поднял ее и снял подкову, заломившуюся в сторону на последнем гвозде.
– Может, возьмешь на счастье? – пошутил он.
– Давай! Знаешь, я ведь и вправду теперь суеверной сделалась… Не очень, а так, чуть-чуть. Во всяком случае, бабьи заклинания, привораживания ожили в памяти. Слова-то какие подбирались! У меня бабушка слыла мастерицей зубы заговаривать, кровь останавливала, – продолжала Анна, выждав, пока Уваров сел на свою лошадь и двинулся рядом. – Помню, мне лет десять было, принесли к нам из тайги охотника-медвежатника. Такой статный детина, добрый молодец, как в песнях поют… А медведь поломал его страшно и кудри вместе с кожей спустил ему на лицо. Крови под носилками – целая лужа… А бабка вышла в сенки, глянула да и говорит: «Мое дело – кровь останавливать, а коли она вытекла, я над ней не властна». Он, охотник-то, тут же в сенках и умер.
– Ну? – спросил Уваров, с тревогой поглядывая на Анну.
– Испугалась я, конечно. Ночью у меня озноб сделался, сон пропал. Этот охотник у нас бывал иногда и все посмеивался: «Подрастешь, Анна, замуж возьму». И дома и на улице дразнили меня невестой… И вот лежу я на печке с бабкой – на лавке одна спать побоялась, – плачу, дрожу. Жалко мне было охотника. Бабка меня с уголька вспрыснула, потом начала слова какие-то чудные наговаривать. Стало мне смешно, засмеялась я сквозь слезы, а бабка говорит: «Вот теперь и его душеньке полегче. Не может душа терпеть, когда над нею детские слезы ночью проливаются. Слепнет она, душенька, и дорогу к райскому саду теряет». Интересная была у меня бабка, и так она верила в свои сказки, что, слушая, не хочешь, да поверишь. Лечила она еще от бессонницы, от тоски любовной своими особенными словами…
– И действовало? – спросил, ласково улыбаясь, Уваров.
– Пациенты оставались довольны, благодарили…
– А почему ты о бабке вспомнила?
– Подкова чем-то растревожила. Хотя нет, не подкова. Не раз я свою бабку вспоминала в последнее время. Думала: не зря они, наши бабушки, выдумывали всякую всячину… Когда душа горит… хочется ее полечить словом каким-нибудь, за сердце хватающим. Они и верили. Им-то нельзя было иначе: больше у них ничего не оставалось. А у нас… – Анна круто осадила коня и, приподняв на дыбы, повернула обратно. – Смотри, Илья!








