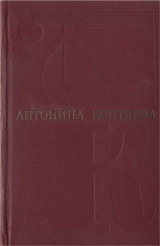
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
– А я ухожу на обед к Подосеновым… – сообщила Валентина весело, здороваясь с ним.
– Очень приятно, – сказал он, обиженный, но сияющий. – Вы всех гостей так встречаете?
– Нет, только вас и только потому, что рассчитываю идти вместе с вами. Но мы можем посидеть еще с полчасика у меня и поболтать. Как вы там жили, в тайге?
Валентина прошла через комнату, села на широкий диван, покрытый ковром:
– Посмотрите, какой чудесный диванчик вышел, а внизу ящики, а в подушках сено.
Она сидела, сложив на круглых коленях обнаженные почти до локтей руки, и смотрела на Ветлугина добрыми и лукавыми глазами. Ему захотелось опуститься перед нею, обнять ее, но она зорко взглянула на него и спросила:
– Что это вы такой румяный сегодня?
Он промолчал и сел, держа под мышкой сверток с пластинками.
«Румянец прямо прозрачный», – припомнил он слова Клавдии и поморщился.
– Вы опять принесли что-то, – полюбопытствовала Валентина, не без удовольствия наблюдая его смущение.
– Принес?.. Ах, да! – Ветлугин осторожно развернул бумагу.
Если бы Валентина захотела, если бы она позволила, он загромоздил бы покупками ее скромную комнатку. Он тащил бы сюда все, что смог добыть, как скворец в скворечню. Валентина разбудила в нем мучительную потребность хлопотать и заботиться. Как был бы он счастлив, имея право выбирать для нее платья, туфельки, какие-нибудь детские распашоночки, чепчики, косыночки – всю эту милую, трогательную мелочь, на которую он стал посматривать в последнее время с особенным вниманием.
Он затосковал о семье, но семья была немыслима для него без Валентины, а она или посмеивалась над ним, или смело, почти дерзко давала отпор всем его попыткам опекать ее.
23
– Я выбрал для вас несколько хороших вещей, – проговорил он, запинаясь, мрачнея от сознания того, что не смеет, не может высказать ей то, чем он жил в последнее время. – Вот «Элегия» Массне, «Лесной царь» Шуберта, а это «Вальс цветов» Чайковского…
– Спасибо, – ласково сказала Валентина. – Вы любите классическую музыку?
– Да, конечно, – ответил Ветлугин, продолжая машинально перекладывать пластинки. – Очень люблю. Музыка облагораживает душу. Люблю! – повторил он и, отложив пластинки, посмотрел на Валентину.
Она погладила кошку, перебравшуюся с окна на диван, и снова спросила:
– А гармошку любите?
– И гармошку люблю. – Ветлугин вспомнил разговор в магазине, улыбнулся.
– Она вас тоже облагораживает? – придирчиво допрашивала Валентина.
Чувствуя ее непонятное раздражение и остро переживая его, Ветлугин ответил с выражением грустной задумчивости:
– Да, облагораживает. Однажды я слышал игру лоцмана на Лене. Играл он мастерски. Да еще обстановка такая… Вдалеке унылые берега. Белая ночь. Простор. Страшный водный простор, на котором чувствуешь себя затерянным…
– Странно! Такой вы сильный, а говорите о грусти, о затерянности. И это не случайно. Я уже не впервые это от вас слышу. – Она неожиданно рассмеялась.
– Над чем вы смеетесь?
– Я вспомнила, что говорила Клавдия.
Ветлугин наклонил голову, сгорая от стыда и досады.
– Что могла сказать эта старая колдунья?
– Она говорит… что если бы она была помоложе, конечно, если бы понравилась вам…
– Перестаньте, – попросил Ветлугин.
Его цветущее здоровьем лицо стало таким жалким, что Валентина сразу перестала смеяться.
– Если бы вы знали… Я так одинок, – пробормотал он невнятно.
Валентине снова представилась Клавдия, но она подавила смех и сказала:
– Вам только кажется, что вы одиноки! У вас есть любящие родители, и сестры есть, а вот я… Я действительно совсем-совсем одинока… И мне никого – понимаете? – никого не надо!
– У вас, наверное, были тяжелые переживания, – сказал Ветлугин, подавленный внезапной вспышкой ее явного ожесточения против самой себя. – Кто-нибудь оскорбил вас?
Валентина медленно выпустила кошку из рук, пригладила ее взъерошенную шерстку.
– Я никому не позволила бы оскорбить меня… безнаказанно, – сказала она и побледнела.
– Тогда почему вы сами смеетесь над чужими чувствами?..
– Я? – Она взглянула на него, искренне изумленная. – Ах, вы опять о грусти! Виктор Павлович, милый… Ну, вообразите… сидела бы на моем месте такая… краснощекая бабища и вздыхала о своей несчастной женской доле. Кто бы ей поверил?
– Вы издеваетесь надо мной, – сказал Ветлугин и, неловко повернувшись, раздавил пластинки.
– А вы начинаете буянить?! – воскликнула Валентина и снова залилась смехом.
– Да, я скоро начну буянить, – пообещал он угрюмо и поднялся, кусая губы.
Валентина тоже поднялась.
– Пойдемте со мной к Подосеновым. У них сегодня какой-то особенный пирог и мороженое. Это мне по секрету сказала Маринка, а я по-товарищески сообщаю вам.
– Нет, с меня на сегодня довольно!
– Как хотите. А то я могла бы воспользоваться вашей порцией мороженого. Куда же вы? – Валентина посмотрела вслед Ветлугину и сказала, задумчиво улыбаясь: – Обиделся!..
24
Она шла по улице, счастливая каждым своим движением. Радостное предчувствие чего-то необыкновенного охватило ее и все нарастало даже от ощущения солнечного тепла, от прикосновения ветра, поднимавшего, будто крыло бабочки, край ее пестрого платья.
У террасы Подосеновых вилась по веревочкам фасоль, уже покрытая снизу мелкими красными цветочками. Цепкий, шершаво-шелушистый виток уса, как живой, прильнул к протянутой руке Валентины, потрогавшей на ходу зеленые листья. Она резко отбросила его, и стебелек сломался легко, неожиданно хрупкий. Она поглядела на него с жалостью, вспомнила о сломанных пластинках, о Викторе Ветлугине и поднялась по ступенькам.
Дверь в столовую была открыта, и оттуда доносились тонкий голос Маринки и смех Анны.
Анна сидела у стола, накрытого к обеду. Перед ней лежали крохотные ножницы и тонкие мотки шелковистого мулине. Один моток Анна держала в руках, терпеливо разбирая спутанные нитки.
– Мы уже соскучились по вас, – сказала она Валентине и весело пояснила: – Делаю носовые платки Маринке. Начала давно, да все некогда было закончить. А сегодня она заставила меня рассказывать о всякой всячине, вот я и рукодельничаю. Нитки, конечно, ты спутала! – добавила Анна, повернувшись к дочери.
– Так, наверно, я, – скромно согласилась Маринка. – Ребенок у меня болеет, Наташка моя, – озабоченно сказала она Валентине. – Она добралась до мороженого и ела, ела, пока не захворала. Теперь кашляет, – Маринка перевернула куклу, и круглолицая Наташка с желтыми косицами тоненько запищала. – Вот, – Маринка вздохнула, – плачет… Ты бы полечила ее немного.
Валентина взяла «ребенка», прислонила его головкой к своей щеке.
– Ну, не плачь, не плачь, – уговаривала она серьезно, а Маринка, чуть улыбаясь открытым ртом, с умилением смотрела на нее, держа согнутые ладошки так, точно хотела подхватить своего плачущего ребенка.
Валентина стала осматривать «больную». Кукла опять запищала.
– Ты с ней тихонько, – попросила Маринка, кладя обе ручки на колени гостьи.
– Нельзя говорить Валентине Ивановне «ты», – сделала ей замечание Анна.
Строгий тон матери сразу испортил всю прелесть игры. Маринка потянула куклу из рук Валентины, перебралась с ней в другой угол и стала лечить ее сама.
– Плачь, – требовала она шепотом. – Тихонько плачь и скажи мне «а-а»… – Но играть одной не хотелось, и она снова обратилась к Валентине: – Я скоро буду летать, – сообщила она. – Побегу, замашу руками и поднимусь выше папы, выше дома.
– Было бы чудесно – уметь летать! – И Валентина снова ощутила то чувство особенной радости, с которым шла сюда.
– Я тоже маленькая часто летала во сне, – сказала Анна.
Узкий пробор ровно белел в ее волосах, уложенных на затылке в тяжелый узел. Особенно нежно смуглели полуобнаженные плечи над прозрачными сборками блузки. До сих пор Валентина видела Анну в строгих закрытых платьях и только теперь поняла, что она по-настоящему красива.
– И сейчас еще часто летаю, – продолжала Анна, проворно снуя иголкой; тонкий пушок блестел выше запястья на ее женственно полной руке. – Вот вроде Марины – побегу, обязательно подогну ноги и лечу. И каждый раз боюсь зацепиться за телеграфные провода. Обязательно какие-то провода… Тогда я сильнее машу руками и поднимаюсь еще выше. – Анна откусила нитку, откинув голову, полюбовалась на свою работу и стала собирать платки и разворошенные нитки. – Андрей сегодня совсем заработался. Закрылся в рабочей комнате и пишет…
– Папа все пишет, – вмешалась Маринка. – Я не могла дольше терпеть и пообедала. Вы, наверное, тоже не дотерпите. Мне уж поспать пора, а он все пишет.
Валентине вдруг стало скучно. Она взглянула на свои красиво обутые ноги: стоило надевать такие туфли и новое платье!.. Почему Анна ничего не сказала о нем? Нравится ли оно ей?
– Я сейчас уложу Марину и позову Андрея, – сказала Анна, – вы на минуточку займите себя сами.
Валентина взяла с этажерки первую попавшуюся книгу. Ей захотелось уйти. Какое ей дело до этих людей, погруженных в свои интересы! Пусть они пишут сколько угодно, пусть возятся со своим ребенком. Валентина вспомнила, как Андрей в прошлый выходной день играл с Маринкой. Это доставляло ему столько радости! Он сам дурачился, как мальчишка; его узнать нельзя было.
«Отчего я злюсь, – подумала Валентина, слушая, как сильно стучало ее будто распухшее вдруг сердце. Почему сегодня мне неприятно сидеть у них? Все-таки они оба порядочные мещане… Мещане! – не веря себе, повторила она упрямо. – Уют… И корзиночка с нитками… Не хватало только мужа с газетой. Читают, учатся!» – Валентина так ожесточенно открыла книгу, что переплет хрустнул.
25
Даже не пытаясь прикинуться занятой чтением, Валентина, нервно хмурясь, посмотрела на дверь, за которой послышались шаги: в комнату входил Андрей.
Она сразу заметила выражение особенной оживленности в его лице.
«Любезничают с женушкой, а я тут сижу одна, как дурочка», – подумала она, не поняв этого оживления, созданного работой, и потому еще больше раздражаясь.
– Вы знаете, я читала письмо Энгельса к одной женщине, – сказала она Анне во время обеда. – Меня поразило то, что он ей писал: «Если бы вы были здесь, мы оба смогли бы побродить по окрестностям…» Нет, вы только представьте себе: Энгельс – и вдруг… побродить!..
– Что особенного!.. – вступился Андрей, замедлив с блюдом салата, которое он собирался поставить рядом с заливным из дичи, гордостью Клавдии, изощрявшейся на всякие выдумки.
– Это значит – просто погулять, просто пошататься без всякой цели с милой, умной женщиной, посмеяться, поговорить… И уж, наверное, не об одной политике! – продолжала Валентина, не обратив внимания на реплику Андрея и даже не взглянув на него. – А разве мало у нас людей, засыхающих и физически и душевно на своей работе? Некоторых даже невозможно представить гуляющими. Они всегда заняты, у них всегда безнадежно деловой вид. Поговоришь минут пять с таким человеком – и сразу в носу защиплет, и сам не поймешь, зевать ли тебе хочется или плакать.
– Правда! У нас многие сгорают на работе, – сказала Анна, неприятно удивленная горькой, искренне прозвучавшей тирадой Валентины.
Букет полевых цветов стоял между ними, заслоняя лицо гостьи, и Анна решительно переставила его, оставив на скатерти легкий след опавших от ее движения светлых тычинок.
– Мне кажется иногда, что это просто дань времени, – продолжала она с задумчивым видом, отделяя кусок пирога для Андрея. – Пока мы не создадим в основном того, что намечено нашими строительными планами, пока работа не войдет в нормальное русло, мы не научимся беречь себя. Нам слишком часто приходится спешить. Некоторые, возможно, рисуются этим, но, в общем, мы действительно очень заняты.
– Мне кажется, разрешение этого вопроса во многом зависит еще от семейной обстановки, – снова вмешался в разговор Андрей, серьезно взглянув на Валентину. – Смогут ли двое людей так ужиться, чтобы, не ущемляя интересов друг друга, организовать свой труд и отдых?
«До чего же самодоволен!» – подумала Валентина, поняв только то, что он вполне удовлетворен своей семейной обстановкой и тем, что хорошо ужился с женой.
– Семья! Вот то, во что я меньше всего верю, – произнесла она, не то насмешливо, не то болезненно кривя губы. – Никогда мужчина и женщина не уживутся так, чтобы… не ущемлять интересов друг друга. Для этого нужно состояние вечной влюбленности, совершенно невозможное, и тот, кто первый выйдет из этого состояния, потребует себе больше прав за то, что другой все еще влюблен в него. Вот тут-то и начнется ущемление интересов! А там прелесть нового впечатления, и… пошла семейная драма со всякими дрязгами. Или прямая вражда, или ложь… – Валентина взглянула на побледневшее, с широко открытыми глазами лицо Анны, лицо человека, которого незаслуженно ударили, и торопливо, точно боясь, что ей помешают, продолжала вызывающе: – Вообще, так называемое семейное счастье – довольно непрочная вещь. Стоит только вмешаться другой красивой женщине – и самый честный, самый нежно влюбленный муж начнет испытывать прочность своей семейной клетки.
– Вы глубоко не правы! – возразил Андрей, нарушив внезапно наступившее общее молчание. – Не верить в семью – значит не верить в естественность человеческих чувств и отношений. Какая семья, какого общества – это другой вопрос! Семья в капиталистическом обществе, построенная на расчете, действительно является клеткой, охраняющей все ту же частную собственность. Там ложь и вражда неизбежны… Не то у нас! Могу ли я, живя с любимой, мною избранной женщиной, чувствовать себя в клетке? Конечно, нет! Значит, не может быть и речи об ущемлении интересов, если бы даже я и… разлюбил свою жену. Во всяком случае, для разрушения подлинно современной семьи вмешательства другой красивой женщины далеко не достаточно. Мало ли на свете красивых женщин!
26
Смутная, но остро-тревожная мысль проникла сквозь теплую пелену сна, всколыхнула и разорвала ее. Валентина к самому носу притянула нагретую простыню: ей не хотелось просыпаться, но сознание чего-то непоправимого властно выталкивало ее из сонного забытья.
«Отчего мне тревожно?» – подумала она, переворачиваясь в постели и прижимаясь щекой к подушке, такой свеже-прохладной по краю.
Снилась какая-то чепуха перед пробуждением… Нет, не то! Она перепутала вчера назначение двум больным, чего с ней никогда не случалось. Но ведь все закончилось благополучно, сегодня утром ей было так весело! Да ведь это сегодня уже миновало. Значит, что-то еще произошло.
Она была у Подосеновых… Сердце Валентины вдруг больно сжалось. Она сразу представила себе лицо Анны, когда та стояла на террасе и теребила листок фасоли, от чего вздрагивала вся зыбкая зеленая завеса. Красные цветы-мотыльки тоже вздрагивали, точно хотели взлететь. Лицо Анны было неподвижно, только тяжелые ресницы ее моргали медленно, и Валентина, глядевшая на ее профиль, чувствовала, что взгляд женщины-директора намеренно ускользает от нее. Все слова, сказанные Анной после их беседы за столом о семье, звучали вежливо, но холодно.
– Ну и пусть, – прошептала Валентина грустно. – Теперь это уже не поправишь!
Она легла на спину, вытянулась и пролежала так с полчаса, но странное волнение, овладевшее ею, все разгоралось, и наконец она уже не в силах была лежать в постели, пробежала в одной рубашке по комнате, забралась на диван и некоторое время сидела, сжавшись в комок, охватив руками колени.
«Частная собственность… капиталистическое общество… Целый трактат по политэкономии!» – иронически усмехаясь, припомнила Валентина слова Андрея, и еще она вспомнила, вся вспыхнув: «Мало ли на свете красивых женщин!»
– Ничтожество! – промолвила она с громким вздохом. – Слякоть! Как ты могла ляпнуть такое про семью? Как ты могла сказать такую пошлость? Ведь это ты от зависти! Ай-ай-ай! Какой стыд! – И Валентина не то засмеялась, не то всхлипнула, прижав ладони к лицу.
Нервная дрожь прошла по ее спине, она потянула к себе за угол пуховую шаль, окуталась ею, затем взяла недочитанную книгу, открыла ее на закладке, но не прочитала и полстраницы, как убедилась, что думает совсем о другом и не понимает смысла прочитанного.
Она попробовала представить себя на месте Анны. Вот она подходит к постели Маринки, идет в кабинет и садится у стола. Сколько всяких книг и бумаг на этом столе! Анна говорила, что она любит проснуться иногда ночью и посидеть с книгами часок-другой или даже просто так посидеть в тишине и подумать. Ну, вот и она, Валентина, также проснулась и встала, но читать ей не хочется, а думать… если думать только о семье Анны и разговоре у них за столом, то лучше совсем не думать: так больно и пусто делается на душе от однообразно повторяющихся мыслей, точно они обшаркивают ее своим бесконечным движением по узкому кругу.
И все-таки Валентина возвращалась к тому же. Работают и учатся!.. Валентина тоже любила свою работу. Она вспомнила кочегара на пароходе и сотни, сотни других пациентов. Имена и отдельные черты их она уже забыла, но то, как она лечила их, создало у нее доверие к своим силам, уважение к себе – человеку-работнику.
Хорошо Анне, что Андрей для нее настоящий товарищ и его слова не расходятся с делом. Хорошо ей, что у нее такой здоровый, красивый ребенок!
Валентина вспомнила, как она стояла однажды в Эрмитаже перед Мадонной да Винчи. У Мадонны был огромный безбровый, гладкий лоб, невинное лицо девочки и колени матери. Младенец, которого она бережно поддерживала своими пухловатыми в запястье руками, был светел, крупен, весь в нежных складочках жира, но девочка-мать смотрела на него с таким важным раздумьем; казалось, она подавлена была величием своего материнства.
Валентина порывисто встала, сунула ноги в мягкие туфли, открыла шкаф, приподнявшись на цыпочки, достала с полки деревянную плоскую резную шкатулку.
27
Толстые щечки его блестели, блестел круглый лобик и веселые глаза. Во рту, открытом улыбкой, едва белел чуточный зубок. Это был ее ребенок, ее сын! Снова она ощутила на своих руках утраченное тепло его маленького тела. Глаза ее заволоклись слезами. Казалось, она все имела для простого и милого женского счастья, но почему-то это «все» оборачивалось для нее в худшую сторону. Озлобленная неудачница! Неужели она не стоила иного в жизни?..
Валентина вставила карточку в щель между оправой и стеклом настольного зеркала. Потом ее печальный взгляд сосредоточился тревожно на собственном отражении.
Тонкая шея, открытая вырезом ночной рубашки, была гладкой, под легкой тканью обрисовывалась невысокая грудь. Наклоняясь, Валентина откинула назад светлые кудри, приблизила к зеркалу полыхающее румянцем лицо и вдруг улыбнулась сквозь слезы, восхищенная.
– Я еще буду любить! – с увлечением прошептала она. – У меня еще будет ребенок!
Ока подошла к окну, распахнула его. Сырая прохлада потянула в комнату. Валентина крепче закуталась в шаль и присела на подоконник.
На востоке едва брезжила заря. Казалось, кто-то огромный хотел поджечь темные лохмотья туч и раздувал под ними на горах тлеющие угли.
– Все-таки я очень одинока! – прошептала Валентина, глядя, как разгоралась и не могла разгореться тлеющая в тучах заря. – Вот и я стала вздыхать вроде Виктора… Но я ведь не докучаю с этим никому! – добавила она, точно оправдывалась перед собой за недоброе чувство, шевельнувшееся в ее душе против Ветлугина.
Она отлично сознавала, что раздражало ее совсем не то, что он так упорно тянулся к ней, стремительно подчиняясь всем ее прихотям и настроениям, – она даже не представляла, как могла бы жить, не привлекая чьего-либо внимания, – а раздражало то, что все его старания только подчеркивали ту душевную пустоту, которая особенно томила ее в последнее время.
Под окном вдруг зашуршало что-то, и Валентина от испуга и неожиданности чуть не свалилась с подоконника. Тайон, встав у стены на задние лапы, молча приветствовал ее, потягиваясь и размахивая тяжелым хвостом.
– Ах ты, дурной! – упрекнула его Валентина, перегнулась через подоконник, с трудом подняла и втащила собаку в комнату. – Все шляешься?
Пес виновато прилег.
– Когда ты привыкнешь к своему дому? – Валентина достала из шкафчика кусок булки, но Тайон только из вежливости обнюхал его. – Я привяжу тебя на цепь, – сказала Валентина; она сердилась, но чувство одиночества уже не бередило ее сознания, как минуту назад.
28
Все утро в больнице она была задумчива: мысль о том, что Анна обиделась, не покидала ее, а тут еще главный врач предложил ей поехать вместо заболевшего фельдшера в тайгу, к разведчикам, и она совсем приуныла.
– Вы умеете ездить верхом? – спросил вечером Ветлугин, пришедший по обыкновению навестить ее.
– В том-то и дело, что не умею.
– А сапоги у вас есть?
– Есть, но я ни разу их не надевала, – равнодушно ответила Валентина, сидевшая с шитьем в руках.
– В туфлях ехать нельзя.
– Не знаю я, ничего не знаю! – уже с досадой ответила Валентина и, страдальчески морщась, посмотрела на уколотый палец. – Как поеду и с кем поеду – мне все равно.
– Поедете вы с Андреем Никитичем, – сообщил Ветлугин. – Я это знаю потому, что Анна Сергеевна при мне разговаривала по телефону, – пояснил он, удивленный быстрым движением Валентины и тем взглядом, оживленным и испуганным, который она вскинула на него. – Там заболели два разведчика. Анна Сергеевна беспокоится… может быть, тиф.
– Об этом уж мы, врачи, должны беспокоиться, – сухо промолвила Валентина и низко склонила голову над шитьем.
Сильно вьющиеся на концах и над висками пряди волос совсем заслонили ее лицо, видна была только круглая мочка маленького розового уха.
Помолчав, она подняла голову, искоса взглянула на Ветлугина:
– Это далеко… ехать?
– Километров тридцать – и все тропой.
– Обязательно в сапогах?
– Да. Иначе вы сотрете ноги. А ходить по тайге в туфлях невозможно.
– Я сказала, что у меня есть… Валентина быстро опустилась перед своим самодельным диваном, вытащила из-под него пару маленьких, связанных ушками сапог. – Вот! Я купила их, когда поехала сюда.
Ветлугин взял сапоги, развязал бечевку.
– Они вам будут великоваты, – сказал он, шаря в сапоге, не торчат ли гвозди, но гвоздей не было. Он снова взглянул на Валентину, и сердце его сжалось от неизъяснимо смутной догадки. – У вас есть портянки?
– Нет, но я могу сделать. – Валентина вынула из чемодана кусок полотна, надрезала и оторвала от него широкую полосу. – Вы мне покажите, как нужно навертывать.
Она села, сняла туфлю и начала неумело пеленать ногу поверх чулка.
– Так и так… А теперь куда?
– Дайте я покажу, как нужно, – предложил Ветлугин и, опустясь на колени, деловито перепеленал ногу Валентины. Лицо его при этом было серьезно, даже угрюмо.
Когда он хотел подняться, Валентина положила руку на его плечо. Ветлугин вздрогнул, но овладел собой и посмотрел на нее почти холодно.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что вы самый хороший, самый славный человек из тех, кого я встречала! Я чувствую, мы станем друзьями.
Ветлугин вспыхнул, словно мальчик. Его недобрая догадка превращалась в уверенность. «Вот и я стал хорошим, потому что… потому что…» Он не посмел закончить свою мысль и молча отстранился от кокетки.
29
Лошадь оказалась очень высокой, и оттого, что она быстро переступала ногами, вся ее длинная спина до кончиков навостренных ушей и круглые бока подергивались, шевелились, и сидеть на ней, особенно в начале пути, было страшно и неудобно. Валентина то и дело теряла стремена, смущалась, сердито ворчала, отыскивая ногой ускользавшую опору.
«Наверное, я очень смешная сейчас!» – думала она и старалась держаться как можно прямее.
Ей казалось, что она скачет во весь опор, но смирная ее лошадь только трусила добросовестно, без понуканий, по выбитой корытом лесной дорожке, размытой на спусках дождями. Вернее, лошадь торопилась просто из боязни отстать в тайге от своего черного соседа по конюшне, на котором ехал Андрей. Не все ли равно, что побуждало ее торопиться? Важно то, что через некоторое время она стала как будто ниже ростом, и спина ее оказалась надежно широкой.
Осмелев, Валентина начала посматривать по сторонам – на зеленый полумрак леса, на болотце, заросшее пухлыми моховыми кочками и желтыми звездочками чистотела. Когда лошадь немного отстала, замявшись в нерешительности перед размешанной на тропинке грязью, Валентина крепко торкнула ее каблуками сапог и, перескочив рытвину, снова почувствовала себя счастливой. Ей уже досадно стало, что Андрей был впереди и не заметил проявленной ею ловкости.
– Я нарочно еду тихо и все жду, что вы окликнете меня, – ответил он на ее упрек в невнимательности.
– Мне никогда не приходилось ездить верхом, – оправдываясь, сказала Валентина и, недовольная собой за это, добавила с хвастливой небрежностью: – Зато теперь я могу как угодно.
– Даже рысью?
– Почему бы нет!
– Попробуем, пока позволяет дорога. – И Андрей слегка подстегнул свою лошадь.
Валентина сразу же потеряла стремя и съехала набок, но не слетела, не выпустила поводьев, а крепко, точно испуганная кошка, вцепилась в седло. Она бы расплакалась от досады, но то, что ей удалось удержаться, ободрило ее. Она сумела поправиться в седле, и Андрей ничего не заметил, когда остановил коня и, улыбаясь, обернулся.
– Вы молодец! – крикнул он ей, как Маринке, не разглядев выражения ее обиженно изогнутых губ.
– Я устала, – сказала она, когда они проехали в молчании еще километров пять. – Я устала и хочу пить, – повторила она, и в голосе ее прозвенел уже не задор, а слезы.
– Скоро мы доберемся до воды. Там можно будет напиться и отдохнуть, – снова, как маленькую, утешил он.
– Поезжайте со мной рядом, – потребовала Валентина. – Моя лошадь все время спотыкается. Она не кривая?
– Нет, это отличная верховая лошадь, – спокойно ответил Андрей и поехал совсем близко, но не рядом, а по-прежнему впереди: дорожка была узкая.
«Ничем не проймешь! – думала Валентина, почти ненавидя его шляпу с откинутой на поля сеткой и крепкую, бурую от загара шею. „Нет, отличная верховая…“ – передразнила она с ожесточением. – Но могло же мне показаться…»
30
Мягкая дорожка кончилась, подковы лошадей начали постукивать о камни, и вскоре сосновый бор, пронизанный дождем солнечных лучей, светло распахнулся вокруг Он был громаден со своими бронзовыми под блеклой зеленью стволами-колоннами, с грудами разрушенных скал-останцев, покрытых розово цветущей богородской травой. В нем пахло теплой хвоей, смолою.
Пи-ить… пи-ить, – стонал в вышине голос невидимого ястребка.
Изредка в пустоте высоких просветов перелетали красногрудые клесты. Внизу, над тонкой желто-бурой вязью сухих иголок, между редкими кустами шиповника и темнолистой рябины, суетились у своих стожков муравьи.
Валентина стащила с головы сетку вместе со шляпой и осмотрелась.
Пи-ить, пи-ить! – кричала птица, и казалось – сейчас за соснами распахнется в шуршании камышей, в белой кайме песка сказочный, прозрачно-голубой простор озера.
Вбежать бы в светлую воду, вдохнуть запахи озерной свежести, ощутить всей кожей дыхание ветра, еле качающего в тусклой оправе далеких берегов солнечный блеск.
Но сосны не расступались, а все новые и новые поднимали над дорожкой высокую крышу бора.
– Где же ваше ружье? – неожиданно напомнила Валентина, взглянув на Андрея.
– Я не взял его с собою, – сказал он, посматривая по сторонам. – Зачем вам понадобилось ружье?
– А если медведь?
– Здешние медведи редко нападают.
– Редко нападают, – повторила Валентина. – Но все-таки нападают!..
«Хорош, нечего сказать, – подумала она. – Правду говорил Ветлугин: он совсем не чуткий, в нем нет даже простого человеческого отношения к окружающим. И что, собственно, хорошего может находить Анна в своей жизни с таким человеком!»
31
У русла речки, под редкими соснами, громоздились развалы рыжеватых скал; в замшелых расселинах их белели пушистые, на тонких стебельках звезды эдельвейсов; внизу, в камнях, чернела вода.
– Здесь, – сказал Андрей и, привязав свою лошадь за ольховый куст, хотел спуститься к берегу.
– А я? – спросила Валентина, все еще сидевшая в седле.
– Что – вы?
– Помогите мне слезть отсюда.
Андрей неловко усмехнулся:
– Простите, я совсем не привык ухаживать. Наши женщины-геологи проявляют в таких случаях полную самостоятельность. – С этими словами он протянул к ней руки и принял ее с седла, как ребенка.
На одно мгновение она прижалась к его груди и встала перед ним, прямо и смело глядя на него блестящими глазами.
– Вы… легкая, – сказал он, немножко смущенный; всем своим видом она как бы говорила: «Я вам нравлюсь. Не правда ли?»
Вода в омуте, под нависшей скалой, черно-зеленая, плотная, была неподвижна, а выше по руслу звенела так, словно лилась на камни из узкого горла кувшина.
Валентина спустилась по крутому обрыву, бросила шляпу на береговой камень, зачерпнула пригоршней ледяную воду. У нее сразу, после первых глотков, заныли зубы. Она провела захолодевшими ладонями по горячему, потному лицу и снова начала пить.
– Вы заболеете, – предупредил Андрей, вытираясь носовым платком; намокшие волосы его смешно топорщились.
– Неужели? Я сама врач.
– Верно, я про это забыл.
– Забывать не следовало бы!
Ей захотелось шаловливо обрызгать его, но в это время что-то большое зашевелилось в глубине.
Валентина вздрогнула, опираясь ладонями в край камня, заглянула в воду.
– Вы обрушитесь туда, – снова предостерег Андрей.
– Ничего, вы меня вытащите…
Андрей подошел ближе, тоже всмотрелся.
Могучая рыба вышла из темноты, где едва виднелись затонувшие коряги. Мелькнуло, приближаясь, ее длинное тело, спина взбороздила поверхность омута, изогнутая лопасть хвоста взметнулась, обдав брызгами скалы. Всколыхнувшаяся вода сразу стала прозрачной и легкой, пока угловатое, в светлых полосах тело рыбы не исчезло опять в глубине.
– Осетр! – сказал Андрей с улыбкой. – Забрался сюда с Алдана и живет себе отшельником.
– Удалился от мира! – радуясь, звонко откликнулась Валентина. – Мне показалось, будто у него рта нет, – добавила она нерешительно.
– Рот у него тут, – Андрей тронул себя под подбородком, – маленький, круглый.
– Противный, – перебила Валентина.
– Почему противный? Вам сегодня всюду разные недостатки мерещатся.
– Смотрите, опять! Он совсем не боится нас, – сказала Валентина, словно не расслышав замечания Андрея. – Отчего он так осмелел?
– Играет. Ах, мерзавец, что он проделывает! Обычно они ходят стаями по самому дну, взрывая ил, как свиньи. Ему вольготно живется в этой яме. Ниже речка обмелела: в прошлом году образовались по руслу карстовые воронки… такие полости в известняке… и почти вся вода провалилась под землю. Вот он и играет здесь.
– Хороша игра! – промолвила со вздохом Валентина, вспомнив о собственном одиночестве. – Он уж, наверное, взбесился от скуки…








