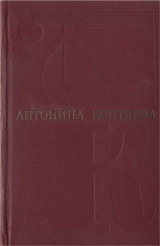
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
– В голову не приходило! Вот какая ты чудачка! Просто посмотрела потому, что дешево и нарядно получилось.
– Чужой нитки сроду не присваивала. – И Надежда стала рассказывать: – Машину я купила у одной отъезжающей в жилое место. На днях начну на ней шторку для двери вышивать по суровому полотну. Знаешь, этак с переплетом… Ришелье называется. Меня в Благовещенске хозяйка обучила – она мастерица была. Ты матери скажи, пусть приносит полотенца. Я ей обещала промережить. А отец как?
– Работает вовсю. Раньше говорил, что якуты для горных работ не годятся, а сейчас доволен ими… хвалит. Я заметила: любит он, чтобы его самого похваливали да поглаживали. Мама говорит, что он меня принимал, когда я родилась… Стыдно должно быть, а она гордится.
– Правильно делает, что гордится. Раньше в тайге не редко бывало так, что мужики у своих баб детей принимали. Животное и то в эту пору жалко, а если родной человек мается, как тут не помочь?
– Все равно неудобно! – Маруся легла возле Надежды, обняла ее. – Хорошая ты у нас!..
– Отпускаешь волосы? – Надежда потрогала прическу Маруси. – Тебе идет с шишкой, а с косами еще лучше было. Помнишь, как остриглась-то? Я тогда промолчала, а не понравилось мне.
– Надо всегда прямо говорить!
– Косы не выросли бы от этого, а тебя и так все ругали. Как с Егором-то? Встречаетесь?
Маруся смутилась. Егор стал снова настойчиво-ласковым, но его внимание уже не раздражало девушку: теперь ее тоже тянуло к нему.
Надежда смотрела пытливо, понимающе, доброе лицо ее вызывало на откровенность.
– В шахте он, третий месяц… Иногда к нам заходит.
– А-а-а! – протянула Надежда и умолкла, прикрыв глаза ресницами.
Маруся вспыхнула, верно поняв значение этого восклицания.
– Вовсе нет! Ты не подумай чего-нибудь… Он к отцу приходит, мне с ним некогда. – Вспомнив свой упрек Надежде насчет прямоты, Маруся совсем стушевалась. – Мне его жалко, он неплохой парень.
– Я тебе давно говорила. Его только в руки взять, а уж любит тебя!
Девушка нахмурилась, словно отгоняя что-то неприятное, качнула головой.
– К Катерине-то он ходил.
– Да ведь от обиды. Ему тогда наговорили, что ты с Черепановым живешь.
– А ты знала?! Почему ты не сказала ему, что это неправда? И мне не сказала!
– Ты слышать о нем не хотела, и я думала, может, ты вправду собираешься выйти за Черепанова. Я тогда пошла вечером на речку, а Егор-то лежит в кустах и ажно дрожит весь… Плакал ведь навзрыд! И не пьяный был. Это уж после Катерины. Я сама над ним заплакала. Жалею я его! Я с ним говорила недавно, похоже, он просто так ходил к этой халде, за водкой. Выходи-ка замуж за него. Пора уже. Мужиков много, да милых мало, а Егорка – он золотой человек.
– Чего ты нахваливаешь? – подозрительно спросила Маруся и внезапно задумалась. – Нет, не манит еще меня семейная жизнь.
– Дело твое, – сказала Надежда, но глаза ее повеселели. Она поднялась с кровати, помотав головой, распустила волосы, расчесала их и снова собрала большим узлом.
Маруся облокотилась на подушку и вспомнила сегодняшний сон. Она стояла в какой-то ограде, напряженно смотрела вверх. Дикие гуси кружились над нею в облачном небе, отчетливо были видны их светлые снизу крылья и крупные головы на длинных шеях.
«Упади! Упади!» – страстно шептала она. И вот один из гусей перевернулся, стал падать вниз, прямо к ее ногам. Благоговейное волнение охватило ее при виде такого чуда. Истово перекрестясь, она сказала: «Слава тебе, творец небесный!» – и наклонилась восхищенная. Но на земле перед ней лежала утка. Глядя на ее серенькое брюшко и ржаво-бурые крылья, Маруся почувствовала острое разочарование и обиду: она совершенно ясно видела, что падал гусь. Потом исчезла и утка, и Марусе было очень неудобно перед неведомо откуда появившимися ребятами-комсомольцами, и она, стесненно посмеиваясь, говорила, что перекрестилась нарочно.
Словно издалека донесся до нее голос Надежды, а она стояла совсем рядом:
– Кожа на голове болит от волос да шпилек, тяжесть такая. Придется заплетать в две косы и венцом укладывать.
– А я сон видела нынче!.. – перебила Маруся.
– Замуж тебе пора, – снова сказала Надежда, выслушав.
– Какое же это имеет отношение к моему сну? – спросила Маруся со смехом, но глаза ее заблестели еще ярче.
10
На подъемнике опять что-то случилось. Откатчики стояли и сидели возле тачек на рудничном дворе, курили, посмеивались над бадейщицей, румяной девушкой в брезентовой мужской спецовке.
– От баб нигде отбою нет! Сидели бы лучше дома, а то из-за вас один беспорядок.
Бадейщица, выведенная из терпения, сердилась.
– Почему из-за нас?
– Ребята на вас заглядываются, интересуются, работа на ум не идет.
– У лодырей на все отговорки. На второй шахте женщин нет, а поломки и простои без конца. Вчера на лебедке опять мотор испортился. Вызвали моториста в управление, а он говорит: «Должны же быть производственные неполадки. Машина, говорит, тоже имеет свои болезни». Женщина бы сроду не сказала, что неполадки должны быть. Да еще на таком молодом производстве: машины-то новешенькие!
– Ну, это он перехватил через край! – согласился забойщик Точильщиков, пришедший поторопить верховых с доставкой леса.
Очередь увеличивалась. Становилось шумно.
– Теперь, кажись, все собрались!
– Что-то Мишку Никитина не видать.
– У них забой дальний, метров за триста.
– Ему триста метров нипочем – бегает словно иноходец.
– Они с утра катали, – сказала бадейщица, – покуда подъемник исправный был. Третью смену раньше всех катают.
– Как это они умудряются?
– Ударнички! Охота лучше людей быть!
– Э-э-эй, бороноволоки, сторонись, задавлю! – крикнул, шумно подкатывая, Мишка.
– Становись в очередь, не лезь вперед.
– Я не лезу, мне вот на папашу посмотреть интересно.
«Папаша!» – усатый Точильщиков сумрачно усмехнулся:
– Девка я, что ли? Давай не дури! Тебя в санки бы впрячь, черта гладкого.
– Ты думаешь, тачка легче? В ней дерева пуда полтора, да грязи налипнет столько же. Вот скоро дадут железную, тогда любого вызову на соревнование.
– Уж ты вызовешь! – сердито сказал Точильщиков. – Что, огнива-то уже завешали?
– Егор верха подбирает, сейчас одно завешают.
– Которое?
– Первое.
– Чего же вы с утра катали?
– Шишки еловые! – ответил Никитин. – Чудак человек, что же можно катать из забоя? Ясно – породу! Снизу начинали.
– Как это снизу? Почему? – наперебой заговорили откатчики.
– Очень просто. Мы и вчера так… за смену пять огнив завешали.
– Ну и здоров ты брехать! Прямо уши вянут! – с возмущением крикнул Точильщиков. – Лучшие забойщики больше трех не завешивают…
Мишка сказал с достоинством:
– Приходи в забой, увидишь!
– Вот сменный мастер узнает, он вас проберет! – сказал один из сидевших у подъемника. – С землей шутить нечего, недолго и до беды.
Звонки на подъемнике прекратили разговор. Бадья плавно опустилась вниз, и на рудничном дворе началась беспрерывная суетня.
– Полчаса простоял из-за поломки в очереди, – сообщил Мишка, вернувшись в забой. – Давеча совсем свободно было, а сейчас все враз прут.
В конце смены, когда Егор завешал шестое огниво, пришли шахтеры из соседних и дальних просечек, осмотрели забой, посчитали огнива: нет ли старых? Один даже попробовал зачем-то пошарить за стойками.
– Рукавицы потерял, что ли? – насмешливо спросил Мишка.
– Гляжу, может, вам грунт пустой попался.
Егор, довольный интересом шахтеров, с кайлом в руках показывал, как он работал в последние дни. Общее внимание оживило его. Сдержанный и неловкий на людях, он сделался даже красноречивым. Ему казалось, что все с радостью ухватятся за его уже проверенное на практике предложение.
«Как сразу увеличилась бы выработка!» – думал он. Приход сменного мастера Колабина охладил его.
– Подкайливаешь? – спросил мастер хмуро, подсчитав сегодняшнюю завеску. – Действительно, шесть огнив! А дальше как будешь?
– Так же, конечно.
– А ежели я доложу заведующему техникой безопасности и он штрафнет тебя рублей на сто, тогда как?
– За повышение производительности не имеет права… – Сердце Егора отчаянно забилось. – Я напишу в газету, – пригрозил он.
– Жалея тебя, предупреждаю, – нерешительно возразил Колабин, внимательно разглядывая Егора. Он знал, что начальство подкайливать не разрешит, но неудобно было одергивать ударника, уплотнившего свой рабочий день, и он сказал холодно: – Если сошло благополучно, так только потому, что грунт устойчивый. В слабом сразу бы закумполило.
Новая смена уже приступила к работе. Забойщики, приходившие полюбопытствовать, расходились; кто посмеивался, кто задумался. Но после слов мастера всем стало ясно, что высокая производительность Егорова звена связана с большим риском.
Егор и Мишка, как обычно, вышли из шахты вместе, сдали спецовки, но долго еще сидели на длинной скамейке в коридорчике раскомандировочной. Мишка нехотя огрызался, когда их задирали, Егор молчал. Только однажды, когда он ходил к Катерине, у него было такое паршивое настроение. Ему вдруг захотелось напиться, но он вспомнил о Марусе и, устыдясь своего малодушия, повернулся к товарищу…
– Вот нахлебники Советской власти! Им только бы беспокойства не было, – сказал Мишка, лично оскорбленный отношением сменного мастера к трудовому почину звена. – Штрафнем, говорит, рублей на сто. Ну, не паразит ли?!
В глазах Егора разгорелись задорно злые искорки.
– Схожу я в партком к этому… Черепанову.
Мишка неожиданно развеселился:
– Ты его зря не любишь. Он хороший…
11
Река вышла из берегов… Мутные желтые воды ее, завиваясь бурунами, грозно хлынули с гор на крохотные, любовно возделанные поля и огороды, на ровные канавки орошения, заплескались у стен убогих фанз поселка… Все живое бросилось к пустынным склонам ближнего нагорья. Спешили женщины с грудными детишками, с наспех связанными узлами. Малыши постарше цеплялись за одежду взрослых, бежали, падали, кричали и исчезали под катившимися со стороны реки водяными валами. Река вздувалась все, выше, лезла из берегов неудержимо.
Жесткая рука бабушки, как железные клещи, сжимала ручонку Ли. Мальчик семенил за старухой, но все норовил оглянуться назад. Братья и сестры летели рядом, точно выводок напуганных цыплят, а мать и отец замешкались: выводили из хлевушка годовалую свинью – гордость семейства. Теперь они бежали, держась за веревку, захлестнутую лямкой под грудью животного. Отец отставал: он тащил еще какую-то ношу в мешке. Ли видел сверток и на плече матери. Потом она мелькнула уже без свертка: с трудом удерживала бестолково метавшуюся свинью. Когда водяной вал стал настигать бегущих, сбивая их с ног, животное кинулось вперед, и женщина выпустила из рук веревку. Люди бросали вещи, теряли детей, а жадная вода гналась за ними, глотая их, словно сказочный дракон. Потом те, кто уцелел, сидели на каменистом голом склоне под палящим солнцем и тупо смотрели на долину, покрытую пенящимся бурным разливом, по которому плыли обломки строений, деревья, вырванные с корнями, кучи соломы, бочки, плетни и тела утопленников.
Почти каждый год река губила посевы и уносила массу человеческих жизней, и хотя жители долины знали о ее склонности к жестоким причудам, они всегда оказывались не подготовленными к ним.
«Тяжело покинуть родной угол, зная, что не найдешь его, когда вернешься обратно, – говорила бабушка, покачивая на коленях маленького Ли. – Обидно попусту бросать в пасть вечно голодного зверя нужды свое здоровье, силу и молодость, но горше всего утрата любимых… Больно ранит живых падающий меч смерти. Каждый удар отдается в сердце близких, как стук топора по корням дерева встряхивает раскидистую вершину. Гибнут корни дерева, и сохнет зеленая крона. Гибнут живые привязанности, питающие заботой и радостью душу человека, и сохнет, черствеет душа…»
Бабушка говорит тихо, медленно, важно, гладя плечи внука и роняя слезы на его черную головку. По всему склону горы воют, рыдают женщины… Какое горе и разорение упало на жителей долины! Плачет и мать Ли. А отец смотрит сощуренными глазами на реку, которая недавно хватала его за пятки, и молчит. Трубочка его пуста, странно, точно мертвые, лежат на коленях узловатые, раздавленные работой руки. Эти руки не привыкли к праздности.
«Бабушка, когда я вырасту, возьму большую мотыгу и отведу реку», – обещает маленький Ли.
«Куда же ты ее отведешь, дружок?» – говорит бабушка, улыбаясь сквозь слезы.
«Вон туда!» – Ли неопределенно машет в сторону.
«Там такие же бедные люди, как мы, – говорит бабушка. – У них своего горя достаточно».
Вспугивая воспоминания, рядом раздается детский плач, тревожа и радуя слух:
– Зи-ина! Зи-ина!
Луша уже на ногах, в комнате полусвет от настольной лампы, окруженной книгами и бумагами, на которых смуглеют бессонные руки Сергея Ли. Откинувшись на стуле, он видит, что за кружевом оконных штор синеет ночь. Черные косы жены свешиваются над постелью, где барахтается, размахивая крошечными кулачками, бесконечно дорогое существо. Похоже, Зина ловит тяжелые косы матери, и Ли смеется про себя, глядя на эту милую картину.
Мирошка спит спокойно. Вот корни, которыми Сергей Ли крепко врос в жизнь… Но другие дорогие сердцу образы встают перед ним. Он снова задумывается. Ему хорошо, а они? Вот бабушка, хлопотливая, добрая, веселая говорунья… Вечно озабоченная работяга мать… Отец… Сестры… Ведь это тоже корни, которыми душа Ли привязана к жизни! И они не отсохли, не оборваны. А небо родной страны, ее горы и реки – все такое жестокое к бедным жителям и такое любимое!..
Неужели там никогда не будет радости и покоя? Неужели бабка умрет, так и не пожив без боязни за завтрашний день? Зи-на, Зи-на, какая ты счастливая, что родилась не на тех горячих и голодных берегах. Там рождение девочки – несчастье. Если она третья в семье, ее могут бросить в рисовое болото. Таков звериный закон борьбы за существование. Но должно ведь и туда прийти счастье?
Ли вспоминает, как он покидал свою деревню, родную свою страну… Ничего тогда не понимал!..
Прав ли он был, позволив жестокой нужде вытолкнуть его за порог родного крова, родной страны, где все подчинено японцам и американцам? Чем только живы там дети и старики? А в годы неурожаев все превращаются в стариков. Тяжелой поступью проходит голод. Страшные болезни идут за ним… Пустеют фанзы… Но так мало земли у бедняков, что вслед за мором опять, как пена, как горькая накипь, вскипает излишек ненужных рук, голодных ртов. Живой шлак, в который превращается часть народа, бьет через край котла, именуемого государством, уходит в сторону. Так ушел и Сергей Ли. Ушел и вдруг впервые ощутил себя человеком. Мог ли он сожалеть о прошлом? Нет, он с чистым сердцем перешагнул в новую жизнь и с радостью утвердился в ней, принимая ее, как принимает свет и тепло измученный, озябший путник. Он осматривается с признательностью, он тянется к этому теплу. За его спиной тьма, холод и голод. Со страхом вспоминая о них, он всем существом ощущает благодатную перемену. Так и Сергей Ли… Теперь его сердце болело только о тех, кто остался там, во тьме. И чем лучше он жил, чем свободнее и глубже дышал, тем больше думал о них и тем сильнее любил все, что окружало его сейчас.
– Луша! – тихонько, чтобы не разбудить чуткого Мирошку, окликнул он жену.
Она устроила удобнее головку ребенка на своей согнутой руке, поправила пеленку и только тогда посмотрела на мужа; влажно блестевшие черные глаза ее выражали ласковое внимание.
– Что? – спросила она, подходя и присаживаясь рядом с ним.
Он крепко обхватил ее плечи. До сих пор он не преодолел привитой обычаями его народа сдержанности в обращении с женщинами, но упрямо боролся с нею, хотя, целуя при посторонних жену, всякий раз испытывал невольное смущение: на Востоке поцелуй воспринимается как нарушение приличия. Ли с удовольствием нарушил сейчас это приличие и спросил:
– Скажи, ты могла бы поехать со мной на мою родину?
На лице женщины расплеснулась внезапная бледность и испуг.
– Зачем? – воскликнула она.
– Нет, не сейчас, – с живостью ответил Сергей Ли, увидев ее тревожное волнение, – а когда там будет Советская власть.
– Тогда я поеду с тобой… Мы поедем с тобой, – сказала она, вздыхая с таким облегчением, что Ли сразу представил невозможность оторвать ее от родной почвы, которой для нее была не местность, а весь общественный строй, вырастивший ее.
– Вот и у меня это же! – сказал он, зная, что она поймет его. – Ведь правда: родина там, где больше чувствуешь себя человеком. Но и моя страна станет той родиной, где будет хорошо людям.
12
В партком Егор не пошел: снова всколыхнулось чувство старой обиды, которую, сам того не зная, нанес ему Черепанов, снова вспомнилось отчуждение любимой девушки и свое падение…
«Ведь это из-за Черепанова я чуть не отсидел в тюрьме», – думал Егор.
Ему казалось, что тот настроен к нему тоже неприязненно, а интерес дела требовал посоветоваться с кем-то отзывчивым, кто дал бы совет и помог воздействовать на зловредного мастера. Тут Егор вспомнил последний доклад Сергея Ли, его горячий призыв повысить производительность труда…
– Вот я и хочу повысить, – с горечью сказал Егор вслух, как будто уже обращаясь к председателю приискома, и круто свернул с намеченного было пути.
У Сергея Ли шло заседание конфликтной комиссии: рассматривали выполнение договора старательской артели с управлением. Сидя в смежной комнате, Егор томился, сгорая от нетерпения, рассеянно прислушивался к голосам споривших. Прииском помещался теперь в новом помещении, из окон которого открывался вид на шахтовые копры вдоль бывшего русла Ортосалы, на людный поселок вдоль левого ее увала. Сначала Егор, занятый своими мыслями, ничего не замечал, и смысл спора на заседании не доходил до него потому, что подогретая ожиданием досада так и кипела в нем. Потом слова Сергея Ли задели и заинтересовали его.
– Нет, ребята, вы неправильно требуете, – говорил тот, обращаясь к старателям. – Льгот вам теперь предоставлено много, но нельзя превращать предприятие в дойную корову. Вы не с частным хозяином имеете дело, имейте государственное соображение! Нельзя рубить сук, на котором сидишь.
Ли говорил с сильным акцентом, но слова выговаривал правильно, лишь изредка скрадывая окончания их. Голос его звучал искренней, серьезной убежденностью…
«Вот у Колабина как раз и нет государственного соображения! – подумал Егор… Из глубины его души то и дело всплывало воспоминание о том, как Колабин ухаживал за Марусей, но Егор, не желая придать делу личный характер, сердито отмахивался от этих представлений. – Не хочет понять, что нам нужно работать как можно скорее, ловчее… Мало ли правил навыдумывали старые техники!»
– Здравствуйте, товарищ Ли! – сказал Егор, входя в комнату, когда представилась возможность.
– Здравствуй, товарищ… Нестеров, – ответил Ли, не сразу вспомнив фамилию молодого шахтера.
«Знает меня», – подумал Егор, разглядывая в упор симпатичное ему весело-умное лицо председателя. Но вопрос, который так волновал его с полчаса назад, представился ему вдруг совсем неважным. В самом деле, что можно рассказать сейчас? Ну, начал подкайливать забой снизу… Ну, удалось в течение нескольких дней вдвое повысить выработку звена… Даже свой брат шахтеры не придали этому значения. Стоило ли волноваться и устраивать конфликт с техническим руководством?
– Как жизнь идет? – спросил Ли. – Ты на какой шахте работаешь?
– У Локтева. На первой, – коротко ответил Егор, собираясь с мыслями.
– В соревновании участвуешь?
– Втянулись нынче, – неохотно начал Егор, но сразу оживился и торопливо выложил все, что наболело у него на душе в последнее время.
Ли слушал с жадным вниманием, придвинувшись вплотную к шахтеру, так что угольно-черные, слегка раскосые глаза его блестели перед самым лицом Егора.
– Ведь это замечательно! – вскричал он, обеими руками стиснув плечи Егора, – додумался раньше инженеров. Вот что значит, когда человек болеет общим интересом! Сильно меня рассердили сегодня рвачи. А ты молодец! Просто очень молодец. Важное нашел в своей работе. Пошли сейчас к Черепанову, он рад будет. Пойдем, пойдем! – говорил Ли, одеваясь и замечая нерешительность Егора. – Тут вопрос государственного значения, и мы все обязаны помочь тебе.
Егор пошел, подчиненный и захваченный жизнерадостной уверенностью председателя приискома, однако ощущал неловкую связанность.
Но встреча с Черепановым произошла неожиданно просто. Он выслушал Егора с большим интересом, угостил папиросой, закурил сам и, оставляя за собой дымный хвост, взволнованно прошелся по комнате.
Его тоже сразу воодушевила мысль о возможности улучшить работу в шахтах.
– Помнишь, я тебе еще в старом клубе говорил о переходе на хозяйские… – весело напомнил он Егору. – Ты мне тогда сказал: чего, мол, там делать? А вот и нашел чего!
– Нашел, – подтвердил Егор. Он все-таки избегал взгляда Черепанова и смотрел больше в окно, за которым влажно блестел на солнце рыхлый тающий снег. Не отрывая глаз от этого чудесно тающего снега, Егор добавил: – Обидно, что вместо поддержки одна просмешка. Пришел сменный мастер Колабин со своей указкой – и все сразу ему поверили, что дело, мол, рисковое.
– Сколько процентов вы дали сегодня? – спросил Черепанов.
– Двести четырнадцать, – ответил за Егора Ли.
– Здорово! Грунт у вас, говоришь, средний… А если в слабом?
– В слабом можно мельче подкайливать.
После небольшого раздумья Черепанов сказал оживленно:
– Надо вам хорошо освоить это подкайливание. Ведь потом придется других обучать. А насчет штрафов уладим. Штрафовать не будут, но мешать постараются наверняка. На помощь Колабина рассчитывать нечего: он хотя молодой, однако старыми традициями пропитан крепко. Ты что думаешь – мастер или инженер обрадуются твоему открытию? Ничего подобного! Они скажут: «Позвольте, ведь нас учили, что так работать нельзя». И по-своему будут правы. Но горное дело называется искусством! Значит, возможности для творчества в нем большие. Вот и твори, товарищ Нестеров, не бойся, что тебя одергивают, а мы создадим тебе условия.
13
В комнате было жарко натоплено. Потатуев любил тепло. Простая деревянная кровать его стояла у самой голландки. Сверх плюшевого одеяла он накрывался дохой, в ноги бросал овчинный полушубок.
– Небось сало не вытопится, а кости теплу рады, – говорил он сослуживцам, заходившим иногда в его маленький домик. – На улице любого мороза не боюсь, но дома – чтобы душа таяла.
Потатуев сидел у стола в меховой безрукавке, в низеньких валеных ботиках, оседлав очками мясистый нос, и, облокотясь, задумчиво смотрел на исписанный лист бумаги.
Письмо написано жене в Киренск. Потатуев давно жил отдельно от семьи. Единственный сын Кешка выродился ни в отца, ни в мать – дебелую, глуповатую иркутянку. Он был хил, хитер и в тридцать лет все оставался Кешкой, бездельником и пропойцей.
Глаза Потатуева рассеянно пробегали твердо выписанные строчки; оттого, что он подпирал кулаками большие уши, жирные складки косо набегали от щек к вискам.
«София Николаевна, здравствуй, мать моя!
Сыну не кланяюсь. Сердит за мотовство его и распутство. Деньги мне не даром достаются. Старею, а надежды на покойную старость нет. При нынешних порядках не наживешь палат каменных, а если и наживешь, так с железной решеткой. Недавно засыпало старателя в яме, и столько было комиссий да разговоров, что я заболел. Сердце стало пошаливать. Не обижайся, мать, на стариковское брюзжанье. Сама понимаешь, не от радости это. Хоть бы оженила ты нашего дурака, что ли. Только путная за него навряд ли пойдет, а халду взять – лишняя тяжесть на шею. В общем смотри, тебе виднее. В отпуск я ныне не приеду, не ждите. У нас здесь большие работы начинаются – недосужно будет».
Потатуев макнул ручку в чернильницу и дописал:
«К осени пошли мне валенки кухнарские, папашины. Деньги переведу двадцатого числа сего месяца. С приветом, муж твой Петр Потатуев».
Он встал и, шаркая ботиками, заходил по комнате. В сенцах стукнула дверь. Потатуев выглянул в переднюю, недовольно нахмурился: через порог переступал косой Быков. В старом ватном пиджаке и в сбористых шароварах он выглядел теперь настоящим старателем-неудачником.
– Ну, чего ты? – окрысился на него Потатуев. – Знают ведь: не люблю, когда на дом ходят, а все равно идут!
Быков виновато переступил с ноги на ногу. Взгляд его был заискивающим и злобноватым.
– Насчет работы я, Петр Петрович.
– Знаю, что не в гости пришел. Можно бы и в конторе поговорить. – Потатуев пристально оглянул старателя, припоминая, поднял одну бровь. – Ты в прошлом году работал в артели на Пролетарке… в той, которую разогнали за хищение золота?..
– Был такой грех, – хрипло ответил Быков и выжидательно кашлянул.
– Хм! – Потатуев погладил усы, чуть усмехнулся. – Где сейчас Санька, китаец этот?
Быков оживился, повеселел:
– Сидит он. Говорят, вышлют их из района, арестованных-то…
– Ну вот, – сурово оборвал Потатуев, – каждому по заслугам воздается. А ты чем занимаешься теперь?
– Все старался, да толку мало.
– Не везет?
– Еще как! Может, дали бы мне другую работу?
– Какую же другую? У меня, батенька мой, старательский сектор, а не завод, выбирать не из чего.
– Я все могу, – упрямо сказал Быков.
– Как это все? Кузнечное дело знаешь?
– И кузнецом могу соответствовать. Тятя наш свою кузницу держивали. Приходилось.
Потатуев ответил не сразу.
– Работа ответственная – наварка инструмента для шахт.
– Петр Петрович! – взмолился Быков. – Допустите ради Христа! Уж я бы постарался. Не верите мне, рукам моим поверьте. Вот они. – С этими словами Быков вытянул длинные руки ладонями к штейгеру, словно задушить его собрался.
– Руки у тебя действительно… Ладно уж. Дам записку к заведующему механической мастерской. Но смотри, чтобы не пришлось отвечать за тебя!
На другой день рано утром к дому Потатуева, как обычно, подали лошадь, запряженную в санки. Петр Петрович вышел в полушубке, в ушастой беличьей шапке, широко расселся и принял от конюха вожжи.
Хрустел под полозьями заледеневший снег, звенели застывшие лужи, по сторонам дороги темнели на припеках проталины. Морозец пощипывал щеки, но солнце вставало по-весеннему яркое.
«Не успею по холодку вернуться, – думал Потатуев, – придется санки оставить на руднике».
Он ехал на прииск Лебединый посмотреть работы богатой старательской артели. Старатели работали там на россыпи, а с правой стороны ключа на Лебединой горе были заложены первые рудные штольни.
Пока лошадь спускалась в долину, Потатуев с высоты зорко осматривал прииск: все изменялось теперь в районе не по дням, а по часам, а он не был здесь уже с неделю. В вершине – нечесаная грива ельника, редкие избушки старателей, в центре – новые постройки рудничного управления, бегунная фабрика, склады, дальше опять старатели. Работами рудника руководили молодые якутские специалисты.
Для Потатуева якуты и эвенки были просто инородцами. Раньше он покупал у них меха, ездил с ними на оленях в дальнюю тайгу и знал, что они обречены на вымирание. Значит, и церемониться с ними особенно не приходилось.
Он прошел по старательским делянам, спускался в глубокие зимние шурфы, пригрозил снять одну артель за неправильное ведение забоя, нашумел в другой из-за крепления и только к обеду, усталый и злой, вернулся на рудник.
В столовой было людно. Потатуев взял тарелку щей, выпил стаканчик водки и нехотя, без аппетита, сжевал пару жестких котлет.
Знакомый якут-инженер остановился у стола, протянул Потатуеву узкую руку.
– Здравствуй, голубчик! – пробормотал старик.
– Как поживаете, товарищ Потатуев?
– Ничего, живу помаленьку. Житье мое теперь под гору идет.
– Почему вы так думаете?
– Не думаю, а годы свое берут. Что у вас нового?
– Заканчиваем на фабрике установку второй чаши Бильдона. Хотите взглянуть?
– Можно, – согласился Потатуев.
В здании фабрики он долго наблюдал, как в чаше с глухим гулом кружились тяжелые жернова-бегуны. Мутная вода так и вскипала под ними, струилась внизу по решеткам промывальных шлюзов. Две завальщицы в красных платках, запорошенных седой пылью, подбирали лопатами руду и сбрасывали ее в чашу.
В смежном отделении постукивал мотор, гудели в топке дрова, и мерно шлепала о шкив сшивка приводного ремня.
Выйдя из помещения, Потатуев посмотрел наверх, где бегали вагонетки бремсберга от штольни к фабрике и обратно.
– Быстро вы все это оборудовали, – обратился он к инженеру, и в голосе его прозвучало невольное уважение.
– Поднимемся туда! – предложил инженер.
Потатуев взглянул на крутой склон горы, но кивнул утвердительно: работы Лебединого рудника его очень интересовали.
Два штрека, северный и южный, были пробиты от восстающего шурфа метров на сто. Новичок в горном деле, увидев, что они пройдены без крепления, ощутил бы робость. Конечно, порфиры – крепкая порода, но кто знает, может быть, где-нибудь вверху уже подтаяла трещина, заполненная льдом, и вдруг тяжелая глыба обрушится со сводчатого потолка после сотрясения от очередного взрыва. Потатуев не был таким новичком, к порфирам относился далее с уважением и поэтому озирался со спокойным любопытством.
Забойщики подчищали отпаленную породу, подтаскивали тяжелую тушку перфоратора; длинные кишки шлангов, наполненные сжатым воздухом, волочились следом.
Перфоратор неистово затрещал в напряженных руках бурильщика, выбрасывая из скважины мучнистую пыль. Потатуев посмотрел на бурение, на широкую жилу золотоносной руды, темневшую в порфирах, побывал в другом, противоположном забое и направился обратно, оставив инженера в руднике.
– Сухо тут у вас, хорошо, – сказал он коротконогому большеголовому запальщику, стоявшему в дверях компрессорной камеры.
– В сплошной скале работаем, а сверху вечная мерзлота. – Запальщик поправил сумку с динамитными патронами, висевшую у него на поясе, широко улыбнулся. – Подумать страшно – вечная мерзлота. Навсегда, стало быть.
Потатуев достал новую пачку папирос, ногтем отодрал наклейку, угостил запальщика. Закурили.
– Зачем динамит на себе носишь, не боишься?
– Чего бояться?
– А как взорвешься?
Запальщик беспечно ухмыльнулся.
– Чтобы взорваться, надо стукнуть по нему либо уронить. Я с ним привык: запросто обращаюсь. На Сосновом прииске динамитный склад был далеко, так я патроны под подушкой держивал, чтобы не замерзали.
Потатуев покачал головой.
– Не у меня работаешь, я бы тебя взгрел. Все до поры до времени.
– Именно, – охотно подтвердил запальщик. – Я уже пуганый. Помните, в позапрошлом году взрыв на Куронахе? Ведь это я тогда был.
– Когда избушку разбросало? – оживленно спросил Потатуев.
– Вот-вот. Я тогда принес динамит, положил с краю на плиту: «Пускай, думаю, отогреется», – и пошел. Только приоткрыл дверь на улицу, а доска-то с динамитом возьми да перевернись. Как взгудело, всшумело, и ничего я больше не помнил. Очнулся метров за семь в стороне, в сугробе. Глянул – от избушки два-три венца осталось, кругом бревна раскиданы, дрова обгорелые дымятся…








