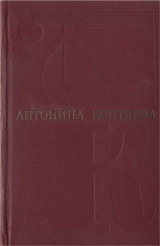
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц)
– Возьми книжку да пойди на улке почитай, нельзя же целый день в помещении сидеть, – посоветовала Надежда, причесываясь у порога. – Лучше вечером позанималась бы.
– Вечером кино будет. Передвижку привезли с Незаметного, – сообщила Маруся и задумалась. – Трудно мне дается эта политучеба.
Мать сочувственно покивала головой, вздохнула, скрестив руки под тощей грудью.
– Молода еще. Успеешь, научишься.
– Молода! – повторила Маруся с досадой. – Это не от молодости, а потому, что вы родили меня бестолковой. Сейчас только и учиться, пока мозги свежие. Я все равно в город поеду…
– Почто в город-то начала собираться?
– По то, что не век же мне с вами на отвале сидеть. Я говорила тебе… Мохом обрастешь от такой жизни!
Ответ был настолько дерзкий, что Акимовна обиделась, поджала тонкие губы, но смолчать не могла:
– Мы-то не обросли. Служишь, и слава богу, чего тебе еще?
– Я тоже думала – слава богу, а теперь что ни день, у меня покою меньше. – Девушка подобрала на скамейку ноги в туго натянутых чулках, перебросила на спину пепельно-русые косы и заговорила, мечтательно улыбаясь набежавшим мыслям: – Поговоришь с человеком, который везде бывал, – сколько замечательных городов! А в кино посмотришь: пароходы плывут, поезда по линии идут, на автомобилях люди катаются… Дома какие! Ничего-то я такого не видала в своей жизни. Хоть бы взглянуть. Поеду в кино… В Москву. Меня возьмут – я ведь красивая. Буду летать на аэроплане в самых опасных ролях. – Глаза и щеки у Маруси разгорелись, похоже было, что она бредила.
– Глупости одни у тебя в голове, – сердито сказала мать. – Ходила я на Незаметный с отцом. Он меня затащил на эти картины. И сам-то никогда не бывал, да ведь надо передо мной погордиться.
– Что вы там смотрели?
– Ничего хорошего! Сперва в потемках сидели, потом затрещало… Бабенки какие-то беспутные запрыгали. Юбки до того кургузые, то есть никаких юбок – одни белые перья топорщатся, – видно, откуда ноги растут. В глазах у меня так и замельтешило. Зажмурюсь, потом погляжу, а они все еще подскакивают – смотреть срамно.
– А отцу понравилось?
– Да ему что? Известно, мужик, – сидит, уставил бороду.
Надежда вышла из своего угла с ворохом починки, присела к столу, звякая ножницами, отрезала заплату.
Маруся заглянула в ее наклоненное лицо.
– Ли опять про тебя спрашивал. Нам в контору уборщицу надо. Пойдешь? С Васенькой своим развязалась бы…
Надежда тяжело вздохнула, ответила не сразу:
– Ушла бы, да боюсь. И жаловаться боюсь. Одно у него слово – убью. Здесь мне от него уйти никак невозможно. Вот, даст бог, начнут мужики промывку, тогда мы с твоей матерью разом с них деньги получим. Тогда уеду.
– Получишь деньги, он и заберет опять! Что же это такое? – вскричала Маруся, негодующе всплеснув руками. – Протестовать надо, защищать свое право жить по-людски.
– Пробовала я протестовать-то. – Голос Надежды прозвучал необычно звонко и сразу перешел на глухой шепот: слезы брызнули из-под прижмуренных век на выцветший сатин мужской рубахи. Провела по лицу огрубелой ладонью, усмехнулась, блеснув мокрыми синими глазами: – Обломал он меня… Руки-то у него железные!
– Глядя на вас, противно даже думать о семейной жизни, – тихо сказала Маруся, расстроенная слезами Надежды, а особенно жалкой ее усмешкой. – Нет, я замуж не пойду.
– Все девки так говорят, а потом – скорей под венец, – печально возразила Надежда, вдевая нитку в ушко иголки. – На том мир стоит – каждый находит свою судьбу. Многие ведь хорошо живут замужем. Мой-то сроду бешеный, такие, слава богу, редко встречаются. Нельзя всех под одно равнять. Ты бы пожалела Егора: хоть бы немножко поласковей с ним обходилась. Извелся парень! На днях секретничал он со мной… «Мне, говорит, от Маруси ничего не надо, сватать сейчас не собираюсь, а у меня, говорит, сердце переворачивается глядеть, как за ней в клубе служащие стреляют».
Маруся слушала внимательно, но при последних словах Надежды у нее не только лицо, но и шея до выреза ситцевой кофточки стремительно покрылись ярким румянцем.
– Не его забота! Мне бы такое сказать попробовал! – И она сердито стукнула по столу крепким кулачком.
14
Словно ураганом, смело лес на левом берегу Ортосалы. Бойкий перестук плотничьих топоров непрерывно раздавался над площадкой растущего поселка. Рабочие, набранные на строительство из местных старателей, помещались пока в бараках старого Орочена и в палатках «ситцевого города». Приисковое управление готовилось к приему целой армии вербованных с Дальнего Востока и из Сибири.
Сергей Ли воспринимал создание нового механизированного производства не только как огромное событие для всей Якутии, но и как серьезнейший экзамен для него – рядового профсоюзного работника.
– Ты понимаешь, Луша, – говорил он жене, сверкая чернущими, косо прорезанными глазами. – Боюсь я отстать от событий… Сначала мне казалось – хорошо: весь народ работает, все сытые, одетые. Снабжение налажено: в магазинах и продукты и мануфактура. Правда, вроде весело?.. На первый взгляд очень хорошо живется на Алдане. Мне нравится здесь жить. С самого начала понравилось. Сытно. Заработать можно. Белая мука для пампушек, кожаные сапоги, жирная соленая рыба… Когда сюда попал, даже не верилось – счастье какое! А вот пожил несколько лет и вижу: не все хорошо.
– Заелся! – пошутила Луша, любовно взглядывая на мужа; она шила приданое для будущего ребенка.
– Разговаривал с Черепановым, – продолжал Ли, не обращая внимания на реплику Луши. – Предприятие боевое – золото. Прииски богатые. Как не быть снабжению! Но работаем по-кустарному. Народ приходит, уходит. Старатели бегают с прииска на прииск, точно олени, – ищут, где побогаче делянки… Я люблю Алдан, мне обидно, когда сюда приезжают только заработать. Хочется, чтобы была настоящая жизнь, чтобы люди оставались надолго, учились, семьи привозили. – Ли прошелся по комнате, подхватил на руки трехлетнего сына. – Вот Мирошка вырастет патриотом Алдана. Тогда здесь жизнь будет совсем замечательная. Построим большие шахты с машинами… Ты понимаешь?.. Стану разве я работать, как кустарь-одиночка, в яме с ручной помпой да с лопатой, когда могу сделаться кадровым рабочим? Разница огромная? Правда?
Мне Мирон Черепанов подсказал: другое производство будет, и люди вырастут, руководить ими надо будет иначе. Сложнее, труднее, интереснее. В прошлом году в Москве было совещание хозяйственников. Там Сталин выдвинул шесть условий в своей речи. Она называется: «Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства». Мирон посоветовал мне обратить внимание на эти условия, еще раз продумать. Спасибо Мирону! Вот он научил меня ходить, и до сих пор я, как ребенок за няньку, хватаюсь за него в трудных случаях. – Ли остановился, покачивая прильнувшего к нему сынишку, но глядя куда-то через его головку, забыв и о жене, не сводившей с него взгляда. – Шесть условий… Первое – это механизировать труд, организованно набирать рабочую силу. Тут у нас в приисковой среде еще много самотека. Второе – ликвидировать текучесть кадров, уничтожить уравниловку, правильно распределять зарплату, улучшить бытовые условия.
Сказано: «Нельзя терпеть, чтобы машинист на железнодорожном транспорте получал столько же, сколько переписчик». А у нас сплошная уравниловка! Даже в крупных артелях на Пролетарке опытный забойщик получает столько же, сколько новичок на лесотаске. Необходимо так же улучшение снабжения и жилищных условий.
Ли, вдруг разволновавшись, опустил сынишку, пошел в комнату Черепанова и вынес небольшую брошюру.
– Здорово тут все предусмотрено! – говорил он, перелистывая ее на ходу. – «Не забывайте, что мы сами выступаем теперь с известными требованиями к рабочему, – требуем от него трудовой дисциплины, напряженной работы, соревнования, ударничества. Не забывайте, что громадное большинство рабочих приняло эти требования Советской власти с большим подъемом и выполняет их геройски. Не удивляйтесь поэтому, что, осуществляя требования Советской власти, рабочие будут, в свою очередь, требовать от нее выполнения ее обязательств по дальнейшему улучшению материального и культурного положения рабочих». Вот как! – торжествующе воскликнул Ли. – Пока с мелкими старательскими артелями нам до всего этого очень далеко. Лучше, конечно, чем лет пять назад. Но Сталин сказал – не надо оглядываться назад: «Только гнилые и насквозь протухшие люди могут утешаться ссылками на прошлое».
– Ты говорил: шесть условий, – напомнила Луша.
– Третье – ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии. У нас на горных работах обезличка сейчас просто свирепствует: за все отвечает артель целиком. А часто и артель не отвечает! Потом четвертое условие: «Добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная производственно-техническая интеллигенция». Пятое условие – изменить отношение к старым спецам, проявлять к ним побольше внимания и заботы, и шестое: «Внедрить и укрепить хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление».
Это настоящая боевая программа для нас, женушка! Вот слушай: «Думать, что можно обойтись без механизации при наших темпах работы и масштабах производства – значит надеяться на то, что можно вычерпать море ложкой». На Алдане у нас было настоящее золотое море, и сначала его вычерпывали ложками все, кому не лень… Мы били ловкачей по рукам, дрались за каждый золотник. Но это все было тоже кустарничество. Как дальше быть? Вот ответ: «Реальность нашей Программы – это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша решимость выполнить план». Понимаешь, дорогая? Обязательно прочитай эту книжечку. Очень пригодится! Закончишь вечернюю школу, поступишь на курсы, потом на производство.
Ли тоже занимался вечерами: готовился к дальнейшей учебе.
– Сейчас мы с Мироном пойдем на Пролетарку. Надо проверить, как дела в Трудовой артели. Пока невесело там!
15
Ли зашел в партком, помещавшийся в клубной пристройке. Давно надо бы дать парткому отдельное помещение. Завклубом уже несколько раз жаловался Ли на тесноту – и намекал, и прямо говорил, что площадь клуба не должны занимать посторонние организации.
Сергей Ли и сам это знал. Но… Как можно было называть партком посторонней организацией, да еще посягать на его выселение? Именно поэтому, а не ради личной симпатии и дружбы и не проявлял здесь Ли свойственной ему напористости. Теперь, когда началось строительство нового прииска, строился и дом для парткома на левом берегу речки, откуда будет вид на всю просторную долину…
– Ну что, Мирон, пошли? – спросил Ли, подсаживаясь к письменному столу приятеля.
Смуглый и черноволосый Черепанов с затылка мало отличался от восточного человека, и это тоже нравилось Сергею.
– Сейчас придет заведующий старательским сектором Потатуев, тогда и пойдем.
– Старый спец! – промолвил Ли, припоминая пятое условие, о котором говорилось на московском совещании. Как ты относишься к Потатуеву, Мирон?
– Положительно. Он того стоит: работяга и горное дело любит.
– Значит, лояльный, по-твоему?
– Да. А ты разве иначе думаешь? – спросил Черепанов, отрываясь от бумаг.
– Во всяком случае, не больше, чем нейтральный, – сказал Ли, опять сильно выделяя необычное слово. – Когда подходишь к нему, сразу чувствуешь – стенка. Не могу с ним, как с другими. Грубый, но не простой. В брошюре, которую ты мне дал, написано: год-два назад вредительство составляло своего рода моду. А ведь говорят, на далекие окраины мода доходит с опозданием и меняется тоже позже.
– Слушай, дружище, у тебя что, подозрения какие есть?
– Нет, но я его не люблю.
– Хм! – Черепанов с сердитой усмешкой покосился на Сергея Ли. – Хорошенький довод для обвинения человека: не люблю! Я в Потатуева тоже не очень влюблен. Это не критерий для оценки – личные симпатии и антипатии. Конечно, спокойнее на душе, когда имеешь дело с человеком, которому симпатизируешь. Но ведь нас с тобой поставили на работу не ради нашего спокойствия. В брошюре говорится о старых спецах, повернувших в сторону Советской власти.
Чтобы полностью использовать их опыт, надо проявить к ним побольше внимания, заботу оказать – это верно. Однако вредители есть и будут, пока имеется капиталистическое окружение. Поэтому зоркости терять нельзя. Я бы тоже не прочь иметь вместо Потатуева специалиста из рабочих, но нам не хватает своих, советских кадров. А ведь программу-то по золоту мы должны выполнить! Это прямая наша задача. Значит, надо и Потатуевых привлекать к работе.
* * *
Через несколько минут Черепанов, Сергей Ли и Потатуев шли по улице прииска.
Потатуев, пожилой и грузный, шагал вразвалку, зорко поглядывая вокруг карими глазами. Обветренное лицо его с сивыми вислыми усами было кирпично-красным от постоянного загара.
– Не беги, Мирон Устинович, успеем, – попросил он Черепанова, едва справляясь с одышкой. – Хорошо вам, молодым да легким на ногу, а во мне без малого шесть пудов.
Черепанов пошел тише. Ли тоже сбавил ходу, искоса взглянув на плотного Потатуева, сказал:
– Нам до собрания надо посмотреть, как подвинулась проходка штрека в Трудовой артели.
– Медленно идет! Я там вчера был. За сутки дают погона не больше полметра. Интересный народ эти старатели! На черном хлебе сейчас сидят, а упорство какое!.. Попробуй-ка их на хозяйских так содержать, сбегут сразу, а тут держатся. Затягивает золотишко… – Потатуев запнулся о что-то, покряхтывая, поднял новенькую подкову, с коротким смешком опустил в карман. – К счастью, говорят. – Потом добавил серьезно: – Здесь подкову поднимешь, там ручку от валка, все экономия.
«Нашел чем похвалиться!» – подумал Черепанов, но кивнул одобрительно.
Он ценил Потатуева за любовь к горному делу: не считаясь со своим возрастом, старый штейгер [8]8
Штейгер – мастер, заведующий горными работами.
[Закрыть]мотался по приискам с утра до ночи.
– Вчера утром вызвали меня срочно на конный двор, – говорил Потатуев. – Характер у меня беспокойный: если вижу неладно, обязательно вмешаюсь, хотя бы и в чужое дело. А тут моего Вороного опоили, придется теперь на водовозку ставить. Накричал я на конюхов, поволновался, потом зашел в шорную, то да се, – проваландался часов до десяти, забыл и про завтрак. Пошел в контору, да вдруг озяб, пряма в дрожь кинуло, тогда только сообразил, что пальто надел прямо на нижнее белье. Как ты думаешь, Мирон Устинович, понравился бы я нашим барышням в конторе?
Потатуев рассмеялся так весело, что Черепанов тоже улыбнулся. Усмехнулся и Сергей Ли.
– Испугали бы.
– Да пожалуй: секретарша у нас особа слабонервная. Сегодня пакет с почтой затащила в архив, искали, с ног сбились.
У конторы управления толпились старатели, пришедшие сдавать золото, сидели и на низкой щебенистой завалине, покуривали. Водовоз проехал с Ортосалы, расплескивая из бочки студеную воду.
– Эх, попил бы! – сказал кривой Григорий, глядя, как взлетают над бочкой сверкающие хрустальные брызги. – Попил бы, да подыматься неохота.
– Ишь, лень-то как его одолела! – откликнулся проходивший мимо старик Зуев, и засмеялся, показывая голые десны.
– Небось день навозишься, так одолеет. Ты зубы уж начисто съел, даже корешков не оставил, а над людьми насмехаешься, ровно несмышленый.
Беззубая улыбка на коричнево-смуглом лице Зуева стала еще шире:
– Не я съел, цинга съела.
– Я этого старика давно знаю, – сказал Потатуев. – У-у, бродяга! Из старых хищников. Такими раньше и гремела тайга. Теперь он не тот… Обломался, а все за фартом гонится. Прикипел душой к шурфам да бутаре. Я тоже тайгу ни на какой юг не сменяю. Уж если умирать, так под елкой. А ты, Мирон Устинович?
– Умирать не собираюсь, а елки люблю. Вы говорите: гремела тайга хищниками. Пусть она лучше молчит, чем так греметь! Землю грабили и людей грабили. Взять вот этого старика. Вы полагаете, что обломался он, что старость его одолела. А он пришел на днях в партком и потребовал: «Товарищ Черепанов, пошлите меня по линии общественности на ликбез. Охота, мол, обучиться грамоте, но самому стыдно пойти – засмеют».
– Грамоте? – Потатуев громко захохотал. – Ему умирать пора.
– Опять вы о смерти? Это успеется, а тут такой отрадный факт. Пробудился у человека интерес ко всему, и даже деньги понемножку копит. Сберкнижка у него.
– Пропьет, – равнодушно сказал Потатуев. – Старые таежники продувные бестии. Наверно, хочет подсыпаться к вам с просьбой, вот и выдумывает разную ерунду.
– Он ничего не просил, – сухо возразил Черепанов.
Там, где кончались постройки прииска, они догнали Марусю, которая возвращалась домой с работы. С красной косынкой на плечах, в ситцевом платьишке она показалась им совсем девчонкой.
– Чем ты, кроме политики и клубных дел, занимаешься в свободное время? – спросил ее Потатуев. – Беллетристику почитываешь?
Маруся вспыхнула – она не знала, что такое беллетристика.
– Романы, повести… – подсказал Черепанов, догадываясь о причине ее молчания.
– Романы… Я читала про Пугачева и, кажется, Дубровцева. Но это давно уже.
– А какого автора? – откровенно посмеиваясь, допытывался Потатуев, бывший не очень высокого мнения о культуре современной молодежи.
– Автора я не помню, – чистосердечно призналась Маруся, стыдясь своего невежества. «Вот какой противный», – подумала она о Потатуеве и до самой Пролетарки шла молча, а увидев издали отца, отстала от попутчиков: она все еще дулась на него.
Рыжков колол дрова возле барака. Черепанов, Ли и Потатуев пошли прямо к нему.
– Как дела? – спросил Ли, присев на чурбан возле груды смолистых поленьев.
– Помалу проходим. Плывун долит, спасу нет. Опробованье делаем каждый день, но плохо. Ой, как плохо! Другой раз и знаков нет.
– Москва не сразу строилась, – сказал Потатуев и оглянулся через плечо, заслышав звонкий смех Маруси.
Она стояла на дороге с женщиной в белом платье и в мужских сапогах. Что-то рассмешило их, и они от души хохотали, глядя друг на друга.
– Дочь-то у тебя, Афанасий Лаврентьевич, как смеется! Легкие, должно быть, здоровые.
– Ну, легкие! – теплые усмешливые лучики легли на висках Рыжкова. – Дури много, вот и хохочет.
– Зря бранишь. Девица хорошая.
– Ничего. От недохвала порчи не бывает. – И Рыжков снова заговорил о наболевшем: – Не знаю, как дальше пробиваться будем. Обессилел народишко.
– Может, выделите несколько человек на добавочное старание? – предложил Ли. – Все-таки поддержка будет. Как вы думаете, товарищ Потатуев?
– Если артель найдет возможным – пожалуйста, пусть выделят. Делянку отведем здесь же, по ключу. Только чтобы не получилось срыва подготовительных.
– Зачем срывать? Нам это вовсе неинтересно.
Из барака выскочила Надежда с полным тазом настиранного белья, прошла мимо, не здороваясь. Синие глаза ее заметно припухли, лицо было в пятнах, в прорехе продранной кофтенки сквозило розоватое круглое плечо.
– Симпатичная, шельма! – заметил Потатуев, глядя ей вслед. – Прямо как у Некрасова: «с красивою силой в движеньях…» Ты посмотри, Мирон Устинович, какие у нее ноги!
Черепанов покраснел:
– Сердитая она…
– Она не сердитая, а несчастная, – сказал Сергей Ли. – Мне Луша говорила о ней…
– С мужиком не ладят. – Рыжков, бросив топор на дрова, тоже обернулся в сторону женщины, уходившей к речке. – Баба – золото, а жизнь у нее, правда, никуда не годится.
– Что ж так? – спросил Черепанов.
– Да кто их разберет! Сегодня ссорятся, завтра мирятся. Он ее поколачивает, она терпит, голубушка. Мужичонка пустой, вздорный, прямо сказать – плачет по нем тюрьма, но покуда не пойман… Однако, супруг Надежды вроде законный, а у нашего брата мненье такое: если не бьет – стало быть, не любит.
– Ты свою тоже бьешь?
Рыжков сконфузился.
– Не приходилось. Я как-то осерчал раз и одного сукина сына взял за руку. И что ты думаешь? Сломалась рука-то. Прямо на удивленье. С той поры и с дружками и с недругами обхожусь аккуратно, с осторожностью. Ну, пойдем к артельщику… Он вас проведет по нашей Палестине и все обскажет по порядку.
Часа через полтора, когда уже наступил светлый вечер, незаметно переходящий в белую северную ночь, они подходили к бараку, где было назначено собрание. Старатели, по-домашнему распоясанные, толпились у открытых дверей, курили, лениво переговаривались. Китайцы и корейцы сидели на корточках отдельной группой и тоже курили. Старик в выпущенной поверх мятых шаровар розовой рубахе, легко ступая по траве босыми жилистыми ногами, нес с ключа ведерко воды. Следом за ним шла женщина, прижимая к бедру таз с бельем. Это была Надежда. Черепанов пристально посмотрел на нее. Она показалась ему особенно милой и грустной, на щеке ее он заметил ссадину, и чувство горячего гнева и жалости охватило его.
Сидя на собрании, он никак не мог сосредоточиться, смотрел на озабоченные лица старателей, а в душе остро сверлило: «Он ее поколачивает, а она терпит, голубушка!» Да, голубушка, такая сильная, цветущая, с добрым лицом. Но почему она терпит? Неужели жалеет этого негодяя? Сердясь на себя за отвлечение от важного для стольких людей вопроса, Черепанов поискал взглядом Потатуева. Тот сидел на бревнах, упираясь руками в колени, и глядел на говорившего старателя. Видно было, что слушал он внимательно.
«Экий несуразный! – мысленно упрекнул его Черепанов, снова отвлекаясь от дела, теряясь перед необычностью чувств, неожиданно нахлынувших на него. – Подковки собирает, экономию наводит, а у женщины только и заметил что ноги красивые! Терпит – значит, любит», – решил он наконец и сам удивился, как больно кольнула его эта простая мысль.
16
Забродин с трудом приоткрыл опухшие веки и шумно зевнул. В углу полутемно; ситцевая занавеска скупо пропускала утренний свет. По привычке Забродин чувствовал – пора вставать, но подниматься не хотелось. Жены рядом уже не было, подушка и набитый сеном матрац, хранившие вмятину от ее тела, давно остыли: ей некогда разлеживаться на койке.
Василий раздраженно прислушался к говору проснувшихся старателей и закутался с головой в стеганое одеяло: «Поспать бы еще часок!»
Вчера он «случайно» нашел в сундуке Надеждины золотые серьги с дешевыми камушками. Сняла она их из-за сломанной застежки. Вещичка простенькая, да и та куплена женой за свои деньги – подарками ее Василий не баловал, чтобы не зазнавалась. Только в первый год сожительства подарил он ей голубого китайского шелку на платье да две пары чулок, принесенных «с той стороны».
Сережки Забродин отнес Катерине и, прогуляв там до трех часов ночи, вернулся после проигрыша без копейки. Сначала у него в банке накопилось около сорока рублей, а потом проиграл все.
«Сейчас самый сон, а тут эта канава! Вот клад баба у Григория. Досталось добро кривому черту! С такой бабой я бы лежал да в потолок поплевывал».
Надежда подошла к постели, тронула мужа за плечо.
– Вася! Ребята уже все встали.
– Поди ты! – прошипел он. – Слышишь, я спать хочу…
– Так ведь на работу надо идти! – звучал над ним грудной, теплый голос Надежды.
Забродин догадывался, что она не знает, как подступиться к нему, и это возбудило в нем желание ударить, чтобы сорвать зло и лишний раз испытать свою власть и силу. Надежда помедлила, снова нерешительно протянула руку, но, не коснувшись широкой спины мужа, отошла от койки.
Забродин прислушался к ее шагам, вспомнил, как отвернулась она от него, когда он лег к ней под нагретое одеяло. «Винищем от нас стало разить… Погоди, ведьма косматая, я тебя проучу!»
– Ночь пропялится, а утром вставать мочи нет, – расслышал он голос Егора.
«Опять надо мной насмешки строит!» – Забродин сбросил с головы одеяло, сжал кулаки.
– Гулять не устать, кормил бы кто да поил!
– С его профессией на делянке скучновато.
Смех перекатился от нар к столу: старатели уже садились пить чай.
– Черт с вами и с вашей канавой! – пробормотал Забродин. Ему хотелось доказать старателям свое презрение к ним, полное равнодушие к их пересудам, и он продолжал лежать, вздрагивая от бессильной ярости.
– Вася! – снова окликнула Надежда.
Он подождал, пока она зашла за занавеску, наклонилась над ним, и тогда сразу бешено сверкнули перед ней его глаза. Встреченная ошеломляющим ударом в лицо, она откачнулась назад и свалилась на пол…
Маруся, розовая после сна, наливала из бочонка воду в рукомойник, когда услышала глухой стон Надежды, взглянула на странное трепыхание забродинской занавески и, упустив ковш, метнулась к отцу:
– Тятенька! Василий опять дерется! Бьет он ее!
Забродин, словно подстегнутый этим криком, выбежал, схватил у печки полено и снова рванулся к жене. Все за столом вскочили.
Егор, сразу догнав дебошира, преградил ему путь:
– Брось полено!
– Ага, защитники нашлись! Вот оно что! С молокососами связалась! Бросить, говоришь, н-на, получай!
Егор едва успел отскочить. Полено, громыхнув по нарам, ударило Зуева в согнутую спину. Старик охнул и выронил сапог, который собирался надеть. Егор широко размахнулся… От свинцового его кулака у Василия искры замелькали перед глазами и разом вылетели остатки похмелья.
Сплюнув вместе с кровью два сломанных зуба, он, как бешеный волк, накинулся на парня.
Егор был бледен… С прищуренными глазами, с твердо стиснутым ртом он казался странно спокойным и, принимая удары противника, отвечал ему такими увесистыми, частыми плюхами, что круглая голова Забродина моталась во все стороны. Егор бил человека, которого давно ненавидел за лень, за обиды, нанесенные Надежде. Раздраженный болью и азартом драки, он готов был убить Забродина.
Растаскивали их всей артелью. Окровавленные, в изодранных рубахах, они стояли, разъединенные толпой галдящих старателей, не в силах унять озлобление, дрожащими руками цеплялись за плечи товарищей, порываясь друг к другу.
– Ты вот что, Василий, – хмуро помаргивая, сказал Рыжков, – калечить женщину мы тебе не дадим. Драться так – это форменное смертоубийство. И швыряться поленьями в жилье, где народу набито, тоже уголовщина. Не в городки играть!
– Чего с ним разговаривать? Пускай выметается из барака! – крикнул Зуев, стоявший сзади с размотанной портянкой на одной ноге. – Он мне чуть хребтину не перешиб. Может, я из-за него теперь инвалидство получу. Ночь где-то колобродит, а потом с опухшими шарами на людей кидается!
– Ясный факт! Он вон какой гладкий, а в забое еле двигается. И на верховых работах только для виду суетится: у него бадья целый час ползет.
– Детинка с запинкой два века живет!
– Зато не надорвется!
– А Егорка-то наклал ему подходяво.
Забродин затравленно осмотрелся.
– Все против меня? Ну и шут с вами! С легкостью от вас уйду, бабу свою здесь брошу. На кой мне она такая, ежели каждый на нее права имеет!
Он встретился с взглядом Егора, повел плечом, отвернулся и пошел одеваться. Надежду увела в свой угол Акимовна. Слушая всхлипыванья жены, неясно доносившиеся сквозь говор старателей, Забродин не испытывал удовлетворения. Он был несколько растерян: первый раз в жизни его так жестоко избили без особой причины. Ну, добро бы по пьяной лавочке или за мошенничество в картежной игре, а то за собственную бабу!
«Теперь уж непременно надо уходить, – думал он. – Кому какое дело, как я с ней обращаюсь? Не артельное добро! Жила она с Егоркой, не иначе. За это следовало бы ей еще добавить». Надевая ичиг, он сплюнул кровью и выругался. «Зубов вот лишился. Останься с ними, и вовсе захлестнут».
Забродин хотел умыться, но над лоханью плескался Егор. Грустная Маруся поливала ему из ковшика на покрытые синяками и ссадинами плечи. На свободной руке ее висела купленная по случаю верхняя рубашка Рыжкова, которая оказалась для него маловатой. Акимовна достала ее Егорке. – парню не во что было переодеться.
– Как ты работать-то будешь сегодня? – спрашивала Маруся, с состраданием глядя на распухшие пальцы Егора. Она любила его сейчас, благодарная за Надежду, и ей хотелось погладить его по мокрым темным вихрам.
– Ничего, обойдусь… – бормотал Егор, поеживаясь обнаженной спиной. Ему неудобно было стоять перед девушкой в таком истерзанном виде, но, застегивая воротник, он поймал ее сочувственный взгляд и, сразу повеселев, подумал: «Знать, жалеет она меня».
Когда старатели ушли на работу, Забродин смыл над лоханью кровь с лица и рук, сдернул лоскутья рубахи, вытерся ими и бросил их под порог. Гологрудый, мягко ступая высоко подтянутыми ичигами, он прошел к своей койке, сорвал занавеску и начал искать другую рубаху.
Выдвинув на свет ящик Надежды, плакавшей в углу Рыжковых, он сбил с него замок и вытряхнул пожитки на пол. Поискав в куче тряпья, он положил в карман золотое колечко и около тридцати рублей – все Надеждины сбережения, разорвал ее почти новое шерстяное платье, ситцевые рубашонки, принес с улицы топор и начал разбивать обухом швейную машинку. Потом Василий поставил на ребро деревянную подножку и расщепил ее вдрызг. Акимовна и Надежда только пугливо вздыхали за занавеской.
Забродин сделал из мешка котомку, уложил туда свое барахло и, перекинув ее на лямках за спину, подошел к углу Рыжковых.
– Слышь, Надежда, я ухожу. Счастье твое – Егор мою злобу на себя перехватил. Неохота мне сейчас больше тревожиться. – Он знал, Надежда радуется его уходу, и, чтобы лишить ее этой радости и просто так, на всякий случай, добавил. – Ты без меня не больно прыгай. Тошно мне тут у вас стало – вот и пойду проветрюсь, а как вздумаю, вернусь обратно. Ежели хахаля заведешь – берегись! Обоим гроб и могила.
Надежда вздрогнула, но заплаканное лицо ее, обезображенное багрово-синим подтеком, осталось неподвижным. Отрешенно и скорбно смотрела она перед собой, уронив на колени руки.
Выйдя из барака, Забродин угрюмо оглядел зеленую долину. Над кустами звенели птицы. Стадо мелких курчавых барашков нежно белело в синеве глубокого неба. Утро вставало в росе, теплое и сияющее.
Василий взял у поленницы палку и пошел, сбивая ею головки синих колокольчиков, над которыми деловито кружились осы. На увале выбранная им тропа свернула на незаметнинскую дорогу. Он не знал, как ему придется жить на Незаметном, но сегодня он будет сыт и свободен. Работа в артели осталась позади, как сброшенная ненавистная ноша.
17
– Афоня! Вставай, Афоня! – испуганно будила мужа полуодетая Акимовна. – Прибегал китаец из соседнего барака – в забое, слышь, не все ладно.
Рыжков вскочил с постели и начал торопливо одеваться. Впопыхах он не сумел навернуть портянку, плюнул с досады, и один сапог надел на босу ногу. В бараке полным светом горела лампа, и темные тени старателей шевелились на занавеске. Поминутно скрипела дверь.
Акимовна догадалась наконец зажечь свечу около Марусиной койки. Девушка спокойно спала, подложив под голову руки; длинные косы свалились с подушки.
Женщина подала мужу пиджак, спецовку, растерянно спросила:








