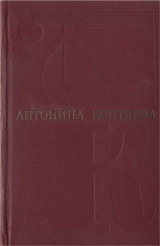
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
– Стоит ли обращать внимание на глупую, злую записку? – продолжал Ветлугин, садясь рядом на скамью. – Валентина Ивановна не авантюристка, не темная личность. Всем это известно.
– Вам особенно, – тихо вставила Анна, и выражение слабой, тонкой и ласковой иронии оживило ее черты. – Меня не то поразило, что написал какой-то дуралей, – и не со зла написал, а по доброму расположению, – поразило то, что все уже знают о нашем разрыве. Значит, это действительно совершилось. Мне сочувствуют…
Анна выпрямилась, провела рукой по влажным волосам, и Андрей увидел, что блузка на ней тоже мокрая.
– Вы уж постарались, чуть не целый ушат на меня вылили, – виновато усмехнулась Анна. – Я рада, что никто не видел, когда мне стало дурно. Это от переутомления… Я совсем не отдыхаю. И то, свое, личное, сказалось, разумеется.
– Да, нам обоим грустно. Но что же делать? Я много передумал в последнее время и понял: надо отойти! – Ветлугин облокотился на колени, сжал большими руками черноволосую голову, Андрею даже показалось, что он заплакал. – Вам еще тяжелее, у вас дочка, – сказал он. – Я не говорю о материальном положении, в этом вы сильнее любого мужчины, но ребенок… будет скучать об отце.
– Нет, для меня лучше то, что есть ребенок, – сказала Анна просто.
28
Подойдя к будке землесоса, Анна взглянула на молоденькую мотористку, особенно румяную в лиловом байковом платке. Из-под платка забавно выглядывала короткая коса. Маленькими, по-детски пухлыми руками девушка – дочь одного из старателей – регулировала работу мотора.
Сколько женщин пришло на горные работы за последнее время! И толстощеких крепышек, и таких, румянец которых давно растаял, сбежав по морщинам. Что думает она, эта девочка? Наверное, радуется своей власти над умным чудовищем, запустившим железный хобот в кипящую грязь. Оно втягивает эту грязь, пыхтя и хлюпая, по тысяче кубометров в сутки, но все новая сбегает к нему от высоких обрывов забоя, обрушиваемых жемчужно-белыми струями двух мощных мониторов. Будка землесоса дрожит над водой, сотрясаемая его работой, но девушка уже привыкла к шуму, чудовище покорно и послушно ей, и грязные ее рукавички спокойно лежат у его чугунных лап на чисто вымытом полу. Сегодня она мотористка, завтра будет техником, потом – инженером. Она счастливее Кирика, уехавшего все-таки на медицинские курсы: раза в три моложе его.
* * *
Анна отходит от будки и по узкой дорожке, покрытой грязью, пробирается к руднику.
Она идет и думает о том, как было бы хорошо поставить вместо тракторов насосы на всех гидравликах управления. Один насос заменит двенадцать тракторов-газогенераторов. Одна девушка выполнит работу за четырех трактористов, и нет постоянных поломок и простоев. «Это очень выгодно, здорово нам помогло…»
Кто так говорил? Анна вспомнила десятника-бурята, старика Ковбу, песню в лесу и свои слезы, вызванные ею и неожиданно найденным сочувствием. Она шла и пытливо смотрела на всех, кто попадался ей на пути. Она старалась проникнуть в их мысли, чтобы лучше понять, чем живут не похожие друг на друга люди.
Мальчишка проскакал по отвалам, размахивая рогаткой. Ему хочется запустить камнем в сидящую на проводе ярко-рыжую сойку, но в камне светло блеснула слюда, и он замешкал, рассматривая камень. Он кладет ее в карман и обшаривает отвал со страстью будущего геолога.
Старатель-завальщик с гидровашгерда торопится домой – только что сменился. Застарелый ревматизм и усталось гонят на отдых, но он увидел свежую газетку под мышкой встреченного инвалида-сторожа. Как же не расспросить о новостях? Сторож не спешит: его работа начинается ночью. Оба останавливаются, закуривают, и начинается разговор.
Прошел рослый красавец военный в простой, но опрятной шинели. Это фельдъегерь, который провозит по тайге золото и срочную почту. В мороз и в метель. У него бархатные брови, свежее лицо его горит молодым румянцем. Он избалован взглядами девушек и даже на Анну смотрит победительно-нежно. Но вот мальчик лет пяти идет за матерью, прижимая к груди буханку хлеба обеими ручонками. Он не может перебраться через грязную рытвину, лицо его плаксиво морщится, а руки матери заняты грудным ребенком и корзиной. И фельдъегерь направляется к нему, пачкая грязью свои сверкающие сапоги.
– А ну, держи крепче буханку, – говорит он деловито.
Директор уже далеко, но слышит и понимает все, что творится за ее спиной.
Это такие разные люди, но в каждом из них она узнавала себя. Разве не она перенесла через грязь мальчика с булкой? Ладони ее еще ощущают теплоту и тяжесть его маленького тела. Она тоже остановила бы незнакомого человека со свежей газетой, расспросила о новостях.
Вместе с группой шахтеров Анна привычно вошла в железную клеть, но неожиданное ощущение тошноты возникло у нее сразу при стремительном падении вниз.
Можно ли добровольно ухнуть в пропасть… вот так, совсем… – спрашивала она себя, ощущая нараставший звон в ушах и прижимая руки к груди, чтобы утишить, унять поднимавшуюся тошноту. – Ну разве тебе хочется, чтобы лопнул канат и клеть пошла еще быстрее?
По узкой щели ходка Анна проползла вверх в камеру, освещая путь шахтерской лампой, и поднялась, осматриваясь. Вот она перед ней, ее десятина.
Только что была произведена отпалка, электрические лампы не горели, и углы громадного подземелья тонули во мраке. Багровый в серой пыли свет ручного фонаря, оставленного пальщиком, не разгонял сумрака даже в центре, где угловато изломанные серые глыбы, опускаясь постепенно на всей площади камеры, образовали воронку – адский котел. Хаос камня, мрачные тени, багровый в густой пыли свет невидимого фонаря – все говорило о вечности этого камня, о мгновенном сгорании маленькой человеческой жизни, и сердце сжималось тоской под низко нависшим суровым каменным потолком.
Анна только тогда вернулась к действительности, когда увидела темные фигуры горняков, возникшие из мрака, где скрывался другой ходок.
Люди внесли с собой свет и оживление. Перерыв кончился. Начались обследования забоев, очистка отпаленной породы. Все сразу приняло другой вид: был просто горный цех, откуда начиналось движение золота, какие сильные, смелые люди работали здесь!
Оглушаемая треском перфораторов, Анна подошла к бурильщику Никанору Чернову, который опять дал вчера тысячу процентов нормы, выбеленному, как мельник, пылью, рвущейся из-под его буров, громко заговорила с ним. И в нем она тоже искала и находила свои черты.
Надтреснутая глыба висела над самой головой бурильщика. Анна взяла обушок, постучала по кровле. Звук получился глухой, надежный. Она не хотела обидеть недоверием сменного смотрителя, не собиралась обрушить эту глыбу на себя и на Никанора Чернова, зорко следившего за своими четырьмя станками-телескопами – просто она привыкла проверять даже то, в чем была уверена.
– Не бунит! – весело крикнул Анне Никанор Чернов, покосив глазом на трещину в потолке.
– Нет, не бунит!
– Не обрушится!
– Нет, не обрушится!
Гул перфораторов заглушал их громкие голоса.
Анна представила могучее медленное движение каменной массы под своими ногами, гул моторов, грохот бегунов на фабрике, плавный шелест и шорох транспортных лент, звон воды, идущей по трубам гидравлик. Разве все это не звучало, как героическая трудовая симфония? И разве она, Анна, не владеет радостью такого труда? Здесь, в мрачном подземелье, рождалась песня, зазвучав с новой силой в душе женщины.
Но теперь эта песня-воспоминание взволновала ее по-иному: она почувствовала себя снова гордой, богатой тяготением к жизни и людям.
29
После доклада Анны на совещании и подслушанного нечаянно ее разговора с Ветлугиным Андрей несколько дней ходил точно угорелый. Смутные сожаления давили его, и он был то груб и рассеян с людьми, то как будто стыдился смотреть на них.
– А я так люблю тебя, что мне никого не стыдно, – вызывающе сказала ему Валентина при очередном свидании. – И незачем прятаться. Все равно везде знают. Сколько людей приехало вместе с нами! Отчего ты не стыдился там, на пароходе? – И снова ревность к Анне прорывалась в ней, – слишком непосредственна она была, чтобы скрывать свои чувства.
– Тебе нравится находиться под каблуком своего директора? Тем хуже для тебя! Но ее это тоже характеризует не с лучшей стороны, если ты в самом деле не живешь с нею сейчас, как муж.
– Анна имеет больше прав сердиться… – начал было Андрей, но умолк, вспомнив, что, имея эти права, она отпускает его.
– Если ты признаешь ее права, то зачем же ходишь на свидания с другой женщиной? – спросила, задетая за живое, Валентина скорее надменно, чем зло.
Она совсем забыла, что до сближения с Андреем ничего не искала, кроме его взаимности. Теперь он нужен был ей безраздельно. Задерживаясь в больнице после работы, она занималась для виду чтением книг в комнате отдыха – ждала условного звонка, но так волновалась, сгорая в ожидании, что больные, врачи и сестры старались не смотреть на нее, а если кто взглядывал, то не вдруг отводил глаза: такое чувство освещало ее лицо. Иногда после долгого ожидания это прекрасное лицо бледнело, страдание сказывалось в нем, невольно вызывая сочувствие.
– Ты пойми, как унизительно для меня жить так! Ведь это только говорится, что с милым рай и в шалаше! – страстно упрекала она Андрея, сидя возле него под навесом из еловых ветвей. – То дождь, то – дела – некогда, то семья тебя задерживает, а я одна да одна. Вот сегодня выходной. Я все утро ждала твоего звонка в больнице, потом няня Максимовна мне говорит, грубо так: «Идите уж домой – не майтесь. Ежели позвонит, я приду скажу». – Голос Валентины задрожал – эта женщина осуждает нас, а даже ей жалко стало!
– Не торопи меня…
Валентина вдруг залилась светлым смехом, как в лучшие минуты своей жизни.
– Хорошо, не буду, пусть тебя зима поторопит. Не встречаться же нам в двухметровом снегу!
30
Анна проснулась рано утром и увидела еще полусонная, как деловито перелезала Марина через сетку кроватки на табурет. В полутьме она казалась очень худенькой в своей длинной рубашке, с растрепанными белыми вихрами.
Подойдя к постели матери, девочка постояла в нерешительности, потом осторожно подняла край одеяла и смешно, как котенок, полезла под него. Сначала пригрела бочок, затем повернулась и обвила ручонкой шею Анны. Женщина молчала, только губы ее вздрагивали в улыбке.
– А меня никто не любит, – как будто ни к кому не обращаясь, тихонько сказала Маринка.
Анна опять промолчала.
– И кушать мне не дают, – пропела девочка уже громче, отодвигаясь на подушке и засматривая в лицо матери: – Мы вчера не ужинали, наверно.
– Вы уже кушать захотели? – смеясь, спросила Анна.
– Я не помню, когда мы ужинали…
– Понятно. Ты правда похудела и что-то горячая… Почему ты такая горячая? Наверно, опять босиком бегала? Что сказал доктор?
– Он сказал, чтобы я показала ему язык. Я показала. Раз он сам попросил, это можно.
– Ах ты, дипломат! – усмехнулась Анна укоризненно и сразу вспомнила разговор с Ветлугиным в клубе и то, что Маринка перестала мучить ее разговорами об отце.
Она как будто поняла, что произошел разлад, и даже стесняется шалить, когда они изредка собираются дома вместе. Подумав об этом, Анна впервые почувствовала тягостное недоумение от того, что Андрей медлил с уходом. В самом деле, отчего он медлит, когда вопрос уже решен?
В конторе директора ожидала обычная деловая горячка: разговоры по телефону, срочные бумаги, посетители, – все сразу обрушилось на нее и овладело ею, и она расцвела, разговаривая, распоряжаясь, всех подгоняя. Это она задавала общий тон работе, зная силу и слабость каждого отдельного участка, и сегодня этот тон поднялся на небывалую высоту.
«Да, я удержалась, – сказала она себе, когда выдалась свободная минутка. – Вот моя рука на телефоне, какая хорошая, сильная рука! Вот радиограммы об отпуске дополнительных средств, о представлении смет и проектов на Долгую гору. Как много денег получим мы теперь – и как быстро! Прежде всего нужно распорядиться об отправке полутора тысяч рабочих на Звездный. Умница я, если мне дано решить и этот вопрос, и участь этих людей! За ними потянутся семьи. Целый городок опять строить надо. Счастливая ты, Анна Лаврентьева! И дети у тебя будут такие же. Милые мои ребятишки! – И она рассмеялась. – Вот как нахваливает себя солидный директор!»
Она подняла смеющиеся глаза на вновь вошедших людей, и даже то, что среди них был Андрей Подосенов, не омрачило ее настроения: теперь и он должен чувствовать себя счастливым! Эти люди внесли в кабинет еще большее оживление, особенно когда новый управляющий нового Звездного прииска сразу поставил вопрос об организации яслей.
– Позвольте, – весело запротестовала Анна. – В первую очередь надо отправить рабочих, а семьи потом. Мы не можем обеспечить все сразу!
– И тем не менее придется… Горняк пошел особенный, товарищ директор. Раньше в первую очередь отправляли на новые прииски спирт, а теперь… – Уваров замялся и, смеясь, закончил. – А теперь и спирт, и детские соски.
– Много женщин?
– Все механизмы будут обслуживаться женщинами.
– Чудесно! – Анна легко вздохнула. – Начнем на новом месте, с благословения Уварова, сразу по-настоящему, с яслями и ребятишками. – Она повернулась к Андрею и, спокойно взглянув в его растерянно вспыхнувшие глаза, сказала с улыбкой: – Вы с Чулковым теперь герои дня. Придется с вас по литровке магарыча. Вот сообщение из главка о денежных премиях, а это об отпуске средств на дополнительную разведку и на подготовительные работы. В конце ноября мы уже начнем разработку россыпи на Звездном, а с нового года примемся за Долгую гору. Развернем рудничное строительство, тогда с нас магарыч! – И, довольная тем, что совладала со своими чувствами, Анна повела взглядом по планам и картам, разложенным перед нею.
31
«Да, мои разведчики сейчас герои дня, – думал Андрей, выходя вслед за Уваровым из кабинета Анны. – Но она-то как держится!.. Ведь не может того быть, чтобы совсем успокоилась. А вот улыбается, шутит».
– Теперь мы выберемся из тупика, – весело заговорил Уваров, оборачиваясь на улице к Андрею. – И впредь доводить разведки до такой крайности не позволим.
– Посмотрим, товарищ секретарь парткома.
– Можете не сомневаться, товарищ разведчик!
Научены горьким опытом. В тресте этот горький опыт тоже будет учтен. – Уваров покосился на Андрея, подравниваясь к нему на ходу, и спросил с доброй насмешкой: – Ты что невеселый такой? Ведь ты теперь еще и герой романа!..
– Нашел чем шутить!
Секретарь парткома нахмурился:
– Это ты шутишь-то, а не я.
– Я не шучу, – заволновался Андрей. – К женщинам я всегда, с самой юности, относился серьезно. Бить меня сейчас еще – просто жестоко.
– Мы не бьем, – сказал Илья, настораживаясь. – Хотя за Анну Лаврентьеву следовало бы.
– Поставьте вопрос на бюро! – огрызнулся Подосенов.
– Следовало бы, – сказал Уваров сдержанно, но заметно изменился в лице. – Семья – дело общественное. Разумеется, любить мы не запрещаем. Не можем ведь мы вынести постановление: люби жену свою. А без любви ты ей не нужен: не такой она человек.
– Да, она не такая! – с невольной гордостью вырвалось у Андрея.
Илья зорко посмотрел на него.
– Небось плохим ее не вспомнишь! Эх ты, дурной! А еще говоришь: «На бюро»! Сам ты себя на всю жизнь наказал.
Андрей промолчал, но углы его губ жалобно опустились.
«Ишь ты, какой тонкокорый стал: где ни затронь – болит. Понятно: Анна-то теперь ох как высоко над тобой!»
С этой радующей его мыслью об Анне Илья направился в партком.
– Дяденька Уваров, иди к нам печеные картошки исть! – кричали ему мальчишки, пристроившиеся у костра, дымившегося над серыми отвалами промытой породы. – У нас тут складчина по три штуки!
«Картошки будто яблоки считают. А на будущий год уродится у нас этого добра вволю. Как-то мы сами будем к тому времени», – подумал секретарь парткома.
Сначала ему представлялось, что Андрей переедет к Саенко или она к нему, а Анна выпросит перевод в другое место. Но теперь такая комбинация с отъездом директора управления была уже невозможна.
* * *
Андрей посторонился, пропуская двух девчонок, которые несли большое ведро воды, расплескивая ее на свои босые красные ноги и со смехом подбирая подолы платьев. Он в задумчивости, а они, занятые своей ношей и озорством, едва не столкнулись.
«Должно быть, сестренки», – подумал он, останавливаясь и глядя, как они подходили к сенцам маленького барачка по чисто разметенной перед ним дорожке.
Еще одна девочка, постарше, вывернулась из сеней, повязанная под мышки бумажным платком, и принялась возиться у окна: подтыкала мох, заклеивала стекло. У соседнего барака набрасывали землю на завалину, воткнутая лопата торчала в ожидании хозяйских рук.
День был холодный, не пасмурный, но по-осеннему тусклый, с бледным солнцем, низко прикорнувшим над горами. Зима напоминала о скором прибытии, и люди утепляли свои гнезда. Да, зима всех заставляла торопиться!..
«Хорошо быть маленьким, беззаботным, когда над тобой не тяготеет большее, чем шлепок родной руки, когда все так цельно и ясно!»
С этой мыслью, позавидовав детишкам, Подосенов присел на лавочке у плетня крошечного огорода. За изгородью на вырытой картофельной гряде похаживал, хрюкая, поросенок, забуривался в рыхлую землю так, что падал на коленки, и тогда виден был только его задок да бойко вертевшийся хвостик. Подошла рыжая собачонка, похожая на лису, вежливо обнюхала сапог Андрея и посмотрела на него улыбчиво. Даже у паршивой собачонки было хорошее настроение!
Кажется, дошел! – сказал себе Андрей. – Да, дошел! А ведь я счастлив должен быть! «Герой романа», – вспомнил он слова Уварова.
В это время поросенок, громко хрюкнув, бросил вырытую им яму, галопом, лихо и весело, дал круг по огороду, подбежал к плетню и обнюхался с любопытной собачьей мордочкой. Потом оба, взвизгнув, бросились со всех ног в разные стороны.
Андрей представил, как рассмеялась бы Валентина. Хорошо было бы открыто посидеть с ней вдвоем здесь, на лавочке.
«Кто же тебе мешает?» – спросил он себя, и снова тоска охватила его.
Посмотрев на юных хозяек, все еще по-птичьи хлопотавших у маленького гнездышка, он вспомнил свой летний сон и то, как проснулся, потрясенный стыдом и страхом. Даже во сне нельзя было оскорбить Анну, а как он ударил ее наяву? И Маринку так же жестоко ударил!
32
Утром Марину опять не приняли в детский сад, градусник очень нагрелся, и сама заведующая, покачав головой, тихо сказала:
– Бедная ты, бедная девочка!
Девочка совсем не считала себя бедной, но домой пришлось вернуться. Целое утро она смирно просидела на кухне, наблюдала за суетней Клавдии. Здесь было очень тепло! Рядом на ящике лежала муфта. Если протолкнуть в нее руку, то можно нащупать несколько конфет в бумажках и кучу орехов. Это норка бурундука, которым была сейчас сама заболевшая Маринка. Она все еще играла орехами, привезенными Анной, и искренне верила, что это подарок от бурундуков. Она сама столько раз видела, как эти зверьки вместе с горностаями воровали со стола на террасе печенье и сахар.
Клавдия сидела напротив Маринки и кургузым, обломанным ножом чистила грибы. Грибы, рыжеголовые, плотные, сине-зеленые по срезу, лежали на столе, на коленях Клавдии, в корзине, стоявшей на полу у ее ног. Будто на войне, когда грибы подрались с каким-то царем Горохом. И еще эта Клавдия кромсает их ножом! А они развалились по всей кухне… И кто знает, может быть, встанут опять на свои крепкие ножки и пойдут на гору, в лес… Должно быть, от ожидания у Марины кружилась голова, а по спине бегали холодные мурашки.
– Пойдем в комнату, я тебя в постельку уложу, – сказала Клавдия, зорко посматривая на девочку.
И вот Маринка одна в большой комнате. Можно закрыться с головой. Так теплее, но под одеялом темно и скучно. Лучше всего сделать окошечко и смотреть на открытую дверь. Вот слышно: затопал кто-то. Уж не идут ли сюда большеголовые грибы со своими страшными синяками?.. Маринка быстро поднялась и села. Нет, это дедушка Ковба привез воду. Громко фыркнула водовозка. Чем-то загремели на кухне, и дед Ковба сказал совсем близко:
– Я теперь в лесу вроде завхоза: за всеми покупками меня посылают. А я мимо конюшен никак не пройду. Заходил опять в гости к Хунхузу. А заместитель-то мой попросил воды вам привезти. Известно: одному за троих отвечать трудно, при лошадях особенно. Ну, и не справляется, хоть молодой. А мы в лесу робим подходяво. – И еще он сказал после слов Клавдии, тихих и непонятных: – Жалко Анну Сергеевну.
Клавдия, уже рассерженная, отвечала, на этот раз ясно, тоненьким злым голосом:
– Чего их жалеть, когда они сами себя не жалеют? «Уходи, говорит, немедленно!» А нет того чтобы в права свои взойти! Какие княгини не стеснялись руку к мужниной щеке приложить! Соперницы-то трепетали, в дом не лезли. А теперь все с гордостью: фырк да фырк!
– Самостоятельная женщина, уважительная, – опять, сожалея, сказал Ковба.
– Она бы лучше о своем положении подумала, – возразила Клавдия. – Один ребенок только-только от рук отошел, а тут другой родится. Кому она будет нужна с двумя-то!..
«Это у мамы родится», – догадалась Марина и, вздрогнув от удивления, а заодно и от озноба, потянула одеяло к подбородку.
– Вот как бросит он их, Андрей-то Никитич… Совсем ведь оплела его врачиха… Уйдет он к своей Валентине Ивановне, а тут ребенок спросит: кто, мол, отец-то мой? Грех, да и только! И старшенькая все висла на нем, на отце-то! Избалованная, везде с носом лезет!..
«Я со своим носом…»
Марина сразу устала сидеть, сделала ямку в подушке, легла, повозилась и притихла, свернувшись в комочек. Муфта с подарками лежала в изголовье, одеяло сбилось на одну сторону, пижама завернулась, и на открывшейся спине зябко, жалко встопорщились светлые щетинки… Зато голова была укрыта тепло, и девочка не слыхала, как дед Ковба промолвил укоризненно:
– Пустое, Клавдия Кузминична, зря ты так говоришь!
33
Даже теперь, когда разведка Долгой горы дала богатейшее золото, Андрей не мог забыть жестокой обиды, которую нанесла ему летом Анна, не мог спокойно вспоминать об этом, говоря про себя: «Неверие в твое дело вне дома унижает, а дома – уничтожает.
Я тоже удивился ее смелому проекту, пробовал образумить, однако ведь не препятствовал, не вмешивался так грубо, как она, и не высказывал таких оскорбительных сомнений».
И все-таки его что-то удерживало: то ли привязанность к дочери, то ли не совсем погасшее чувство к жене и жалость к ним обеим.
«Валентина права: нам ни к чему прятаться от людей. Надо идти в открытую, иначе с ума сойдешь, – думал он иногда, но, когда собирался выполнить свое намерение, все в нем холодело, и он отступал, вместо того чтобы сделать последний шаг. – Да как же это я!»
* * *
Странный шорох возле дома остановил Андрея. Но шуршала густо сплетенная завеса высохшей за лето фасоли, колеблемая порывом ветра. Свет из окна, падавший на веранду, желтил мертвые листья, и неровная, сквозная тень их трепетала на дорожке.
Андрей открыл дверь, взглянул мимоходом на вешалку: Анна еще не приходила. Он сбросил пальто и, не снимая кепи – привычка, созданная отчуждением к дому, – пошел прямо к себе.
В квартире было тихо, только Клавдия возилась на кухне: плескалась водой, что-то переставляла.
Проходя мимо спальни, Андрей в щель между косяком и портьерой увидел Маринку. Она в измятой фланелевой пижаме, босиком сидела на своей кровати и тихонько играла – такая забытая в большом доме.
«Как же это она… одна?» – Андрей хотел войти в комнату, но Марина взобралась вдруг на спинку кровати, с ловкостью мальчишки прыгнула и перекувыркнулась на постели. «Вот еще новости! – подумал встревоженный и восхищенный отец. – Так недолго и голову сломать!»
Но смелая шалость Маринки вызвала у него желание поиграть с нею, как в прежние дни. Он опустился на четвереньки, стал подкрадываться из-за двери к дочери…
В это время она снова прыгнула, перевернулась, вскочила на ноги и увидела… И Андрей увидел ее кругленькое, страшно побледневшее лицо, серые глаза, огромные, гневно-испуганные. Он поднялся, выпрямился, шагнул, и она повалилась ничком, молча закрывая руками голову.
– Маринка, это я, Маринка… – растерянно звал он, подбегая к кровати. – Это я, Мариночка. – Ему показалось, что у нее от испуга разорвалось сердце.
Она уже отвыкла от шуток. Она не узнала его, вползавшего в комнату на четвереньках, в кепи…
«Проклятая кепка!» Андрей сорвал ее и швырнул на пол. Руки его дрожали. Он потрогал Маринку, погладил ее плечики, и она забилась в беспомощном, не по-детски горестном плаче, припадая лицом к постели.
Андрей вытащил дочь из кроватки, сел с ней прямо на пол. С трудом оттаскивая от ее лица судорожно прижатые, мокрые от слез ладошки, он целовал ее, сам готовый разрыдаться.
– Ты разлюбила меня, Маринка! – сказал он с отчаянным укором.
Но она зарыдала после этого так, что ему снова стало страшно: она вся дрожала почти в истерическом припадке, маленькая, жестоко оскорбленная женщина.
– Ты сам… Ты сам разлюбил нас… с мамой! – крикнула она, задыхаясь от рыданий. – Ты уйдешь к Валентине Ивановне, а у нас родится, у нас родится еще одна девочка! Кого же она будет называть папой?
– Марина, – Андрей нечаянно сдавил ее. – Что ты говоришь, Марина? Откуда ты знаешь?
– Я знаю… Клавдия дедушке Ковбе… ябедничала. Я все слышала, – бросала Маринка сквозь слезы, только теперь по-настоящему пугаясь отца. – Пусти меня, мне больно! – вскричала она, оборвав плач и делая гневную попытку высвободиться. – Я сама буду играть с сестренкой! Я сама буду беречь ее! Но мне жалко, – слезы снова ручьями полились по щекам Маринки, – мне жалко, что у нее совсем не будет папы. Она ведь спросит…
Теперь девочка уже не вырывалась, а плакала, вся распустившись, потная от слабости и усталости. Андрей молча прижимал ее к себе, гладил ее босые ножки. Ему сразу стали понятны и обморок Анны в клубе, и многое, многое другое… Он совсем забыл о назначенном свидании с Валентиной, а когда вспомнил, то оно показалось ему немыслимым: разве мог он сейчас оставить дочь снова одну?
Птица вдруг ударилась о стекло. Потом другая.
– Кто это, папа?! – крикнула Маринка.
– Какая трусиха ты стала! – Глаза Андрея смотрели с напряженным, суровым вниманием. – Это птицы улетают на юг. Они летят сейчас днем и ночью. Их так много… Свет из окна ослепил их, и они налетели на стекла.
– Они разбились? – всхлипывая, осипшим голосом спросила Маринка.
– Не знаю.
– Иди посмотри.
Андрей послушно пошел и тотчас вернулся.
– Там никого нет, а высоко-высоко летят журавли.
Когда Маринка уснула, еще всхлипывая и вздыхая во сне, он отошел от ее кроватки и стал ходить по комнатам.
Он передумал все и, хорошо зная характер Анны, понял, что она умолчала о своей беременности из гордости: не хотела связывать, понуждать его, раз уже не было между ними любви и дружбы… Но разве она разлюбила его? Андрей бесконечно вспоминал ее слова, сказанные в клубе Ветлугину, все выражение ее лица при этом – выражение счастливой матери: «Для меня лучше то, что есть ребенок». Конечно, не об одной Маринке думала она тогда. Значит, она еще любит его, какая женщина может так гордо носить ребенка от нелюбимого, покинувшего ее человека?
«Она простит меня! – неожиданно радостно подумал Андрей. Должна простить. Я сделаю все, чтобы она забыла… чтобы она была счастлива».
До сих пор он жалел ее, а теперь преклонялся перед нею и вместе с тем ощущал острое сострадание.
Он ходил из угла в угол по своему кабинету, заглядывал к спавшей Маринке, выбегал на крыльцо, прислушиваясь к шагам прохожих, ждал Анну. Но она не приходила, и Андрей снова шагал по комнатам, курил, думал и, промучившись почти до утра, не дождался – уснул на диване усталый, но впервые почти успокоенный.
34
Когда он проснулся, то не нашел жены дома: работа в эти дни заменила ей все, и она отказывала себе в отдыхе. Мысль о том, что придется отложить разговор до вечера, испугала Андрея, и он сразу кинулся в контору. У Анны теснился народ. Поговорить было невозможно, но, сознавая это, Андрей, все-таки вошел к ней.
Накануне он почти уверил себя в том, что она не оттолкнет его. Однако уверенность покинула его, едва он переступил порог ее кабинета. Он боялся взглянуть на нее, но взглянул и поразился: кого же он жалел, кому сострадал! Перед ним сидела женщина с таким светлым и строгим лицом, с таким ярким блеском в глазах, что он растерялся. Движения ее были полны женственно-сдержанной простоты и в то же время энергией. Все, с кем она разговаривала, казалось, хорошели и молодели, как бы облученные этой ее душевной энергией. Минут пять Андрей наблюдал и вышел, как прибитый, прежде чем она успела обратиться к нему, с трудом соображая, куда ему идти и что делать. Жалеть Анну было уже невозможно, но и… радоваться тому, что она не нуждалась в его жалости, он не мог. Предоставленная ему нравственная свобода испугала и принизила его. Он посидел у себя в кабинете и снова вернулся к Анне. У нее были уже другие люди, но и на них она действовала так же неотразимо.
Старый брюзга – инженер с рудника – докладывает о бурении десятины. Анна внимательно глядит на него, делает быстрое движение рукой, повторяя цифру процента, она улыбается одобрительно, и старый инженер весь выпрямляется, расцветает. Они прощаются, словно два заговорщика, и Андрею завидно, что это не с ним так говорила она.
Молодой голенастый практикант из горного техникума подходит к ее столу. Анна посылает его на трудный участок и говорит:
– Работа там предстоит тяжелая, не осрамитесь.
В радостном смущении парень неловко отвечает:
– Как-нибудь, потихоньку…
Все смеются, улыбается и Анна, взгляд ее становится матерински мягким, лучистым, и опять Андрею завидно, что этот взгляд не для него.
– Нет, уж лучше не потихоньку, а так, как мы с вами уговорились, по-настоящему! – говорит она, превращая неловкость в шутку.
* * *
Он застал ее наконец одну поздно вечером. Анна сидела за столом, освещенным настольной лампой, торопливо записывала что-то в блокнот. За день энергия ее уже израсходовалась, но и усталая она была прекрасна.
– Сейчас, – кинула она Андрею.
Он взял стул, но не сел, а, опираясь на его спинку, пытливо всмотрелся в строгие черты Анны.
– Ну что скажешь, товарищ Подосенов?
Андрей молчал, прислушиваясь к тому, как тяжело дышала она, рассматривал пятнышки – примету будущего материнства, которые снова оттенили ее припухшие губы. Он увидел, как похудело ее лицо при цветущей полноте тела.
– Анна… Значит, это правда, Анна? – спросил он робко. – Почему ты мне не сказала о себе?
Ресницы женщины опустились. Конечно, он честный человек и сознание долга привело его теперь к ней. Но разве сна могла принять его, пришедшего только по велению отцовского долга? Жестокая борьба чувств прошла по ее лицу легкой судорогой, но она сделала над собой усилие и ничего не выдала взглядом Андрею: ни упрека, ни злобы не заметил он в ее глазах.








