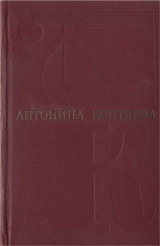
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Обеденный стол сошел бы и за кухонный, диван мог свободно путешествовать по всем комнатам, так же легко можно было переменить любую вещь в обстановке, до буфета включительно. Самая обыкновенная квартира при большом предприятии, где каждый новый жилец устраивался по-своему, однако в комнате было уютно.
«Она сама симпатичная, потому и все вокруг нее кажется радостным, – подумала Валентина, вспоминая смех и грудной голос Анны. Невольно она пристальнее вгляделась в лицо Маринки. – Единственный, любимый ребенок! А каков отец ребенка? У него, наверное, такие же открытые серые глаза, он, конечно, тоже жизнерадостен и любим».
Маленький портрет в коричневой рамке стоял на диванной полке рядом с кристаллом горного хрусталя.
– Это мой папа Андрей Никитич… Подосенов, самый главный геолог, – гордо пояснила Маринка, проследив взгляд гостьи. – У мамы фамилия отдельная, а у нас с папой фамилия вместе. Когда я еще вырасту, меня будут звать Марина Андреевна Подосенова.
15
Тяжелые мысли о затянувшейся разведке на Долгой горе всю дорогу не покидали Андрея. К Ветлугину он обращался неохотно, с невольным оттенком враждебности, а тот был особенно хорош с ним, как будто, высказав порицание работе Андрея, старался загладить это доброю участливостью.
«Стыдно ему, что ли? Ведь он не карьерист, – думал Андрей, провожая взглядом Ветлугина, уходившего большим шагом в сторону своего дома. – Этакая орясина! Но… не трус! Два года назад он и Анна напролом пошли, когда все по-новому перевернули на руднике! Надо с ним еще поговорить. Убедить его надо!»
Андрей вспомнил, как только что на конном дворе суетливо, но без малейшего заискивания помогал ему Ветлугин собирать рассыпанные обломки пород, как он сдувал румяным ртом пыль с наклеек, деловито и ловко завертывая редкие образцы.
«Он не обиделся на меня за резкость, – решил Андрей, уже потеряв из виду Ветлугина, свернувшего в переулок. – Он только тем озабочен, чтобы отвлечь меня от рудной разведки! Не выйдет, товарищ дорогой!»
Геолог глубоко вздохнул, но не тяжелым оказался этот вздох: такой чистый воздух наполнил его грудь – теплый и мягкий весенний воздух нагорья. Собственно, весна-то давно уже прошла, но здесь, где зима властвовала почти девять месяцев в году, все перемещалось во времени. Лето уже не могло мешкать, и если снег падал в июне, то и в снегу, прокалывая его зелеными иглами, продолжала расти трава, распускались цветы и оживали деревья.
Подосенов посмотрел на привезенный им букет не то флоксов, не то левкоев, собранных на каменистом нагорье у Долгой, Стебли их нагрелись в его руке, пышные сиреневые зонтики поникли, но тем сильнее излучали они приятный, чуть горьковатый аромат.
Даже губами ощутил Андрей этот запах и запах еще клейкой тополевой листвы, потянувший со стороны парка, где гуляла молодежь и откуда слышалась музыка.
Духовой оркестр играл любимый приисковый фокстрот – русский мотив, приспособленный для западного танца, «Катя-Катюша».
«Правду говорят: хлебом не корми, только бы погулять, – подумал Андрей. – Или это на радостях?» – вспомнил он о прибытии парохода.
Веселая мелодия навязчиво звучала в ушах, и он невольно начал подсвистывать в тон оркестру.
Андрей с детства любил музыку, но когда впервые, уже взрослым человеком, попал в оперу, то ничего не понял и ушел смущенный, раздосадованный, с головной болью. У него осталось лишь впечатление пестроты, шума, а это была… «Кармен». Потом он начал посещать симфонические концерты и мужественно выслушивал все до конца: искал тогда в музыке смысл и не представлял себе, что она может восприниматься даже просто как свет и тепло.
– Я хочу понять, что передает музыкальная фраза… Между прочим, высокий, полный и плавный звук мне кажется голубым, – говорил Андрей.
Но однажды он слушал вторую сонату Бетховена. В этот день он был очень раздражен и невнимателен. И вдруг какая-то особенная нота ущемила его за сердце, как будто что-то запело в груди. Андрей забыл рассуждать, переводить звуки в зримые образы, целиком отдавшись мелодии, пробудившей в нем ответные чувства, и в этот раз ушел с концерта по-настоящему взволнованным.
16
Через окно, распахнутое на террасу, послышался незнакомый женский голос. Андрей приостановился. Он знал, как любила Анна, чтобы он был, особенно при посторонних, опрятно одетым, а сейчас все на нем загрязнилось и пахло от него лошадиным потом.
Он посмотрел в сторону кухонного крыльца, где недавно скучала Маринка, но, почему-то озоруя, открыл застекленную дверь в столовую.
Большая собака, лежавшая у порога, неожиданно подвернулась ему под ноги.
– Ух, какой ты симпатичный пес! – чуть не упав, сказал Андрей, разглядывая отскочившего Тайона. – Наступил на тебя? Ну, прости, прости, пожалуйста.
Анна встретила его улыбкой, от которой совершенно преображалось ее лицо, но лишь слегка прикоснулась к его плечу.
– Цветов Маринке привез… – сказал он, договаривая Анне взглядом, что эти цветы предназначены и для нее. – Хотел привезти ей рябчика, да пожалел: очень уж маленький он был, напуганный. Ну и отпустил его в траву… Крохотный, весь в пушке, а удирал такими большими шагами.
На диване, в тени абажура, сидела молодая женщина и внимательно следила за Андреем.
– Познакомься, – сказала Анна. – Это наш новый врач, Валентина Ивановна Саенко.
Валентина встала и сама шагнула навстречу. Мягкая ткань платья подчеркивала девичью стройность ее фигуры, блестели спадавшие до плеч завитки волос, светлых, пушистых и тонких. Невольно Андрей засмотрелся на нее, как на красивое деревце, и задержал в своей руке ее руку.
«Конечно, хороша», – подумала Анна, желая оправдать Андрея и в то же время смутно досадуя на него.
Торопливо выйдя на кухню, она налила воды в хрустальную вазу, бережно поставила цветы, не переделывая букета.
– Вот вы какой, – говорила Валентина, рассматривая Андрея с откровенным любопытством. – Я представляла вас еще моложе и проще. Таким мне обрисовала вас Марина… Она очень похожа на вас!
– Вы уже познакомились? – В голосе Андрея прозвучало настороженно ревнивое отцовское чувство. – Она немножко озорная, а в общем ничего…
– Нет, она прелесть! А вот мой питомец. – Валентина положила руку на голову подошедшего Тайона, тонкими пальцами потрепала его острые уши. – Чуд-ненький, правда? Это вся моя семья.
Саенко снова села на диван, стараясь быть серьезной, но в глазах ее так и вспыхивали огоньки, а губы морщились, готовые раскрыться в улыбке. Она опустила взгляд на собаку, обняла ее за шею и опять посмотрела на Андрея.
Он стоял, наклонив голову, и спокойно, даже холодно смотрел на нее; смуглая от загара рука его, опиравшаяся на край стола, резко выделялась на белизне скатерти.
17
– Вы меня извините за то, что я сную по хозяйству, – сказала Анна, ставя цветы на столик в углу; на минуту она скрылась за оконной занавесью и, заправляя в прическу выбившуюся прядь, обратилась к Андрею: – Я тебе приготовила там, в спальне, все чистое.
Она достала из буфета посуду, тарелочки с закуской и принялась умело накрывать стол.
– Вы, наверное, привыкли жить с удобствами? – спросила она Валентину.
– Нет, в Москве я жила в студенческом общежитии, а теперь уже пятый год работаю в провинции, где приходится мириться с любыми условиями. – Валентина откинулась на спинку дивана и, глядя на то, как билась под потолком ночная бабочка, сказала тихонько: – Мне у вас очень нравится! О-очень! То есть вот у вас, дома, и вы оба, и Маринка. Вы счастливы, правда?
– Да, – просто сказала Анна; у нее были узкие, не густые брови, и это при очень черных глазах и таких же ресницах придавало ее яснолобому лицу выражение особенной, спокойной чистоты. – Да, мы счастливы, – повторила она убежденно и доверчиво. – Я даже не думала раньше, что замужем так хорошо. – Анна покраснела и добавила, как бы извиняясь за свое самодовольство: – Мы оба работаем и учимся.
Подосенов, – она впервые назвала так мужа при Валентине – по фамилии, – готовит диссертацию по своей специальности, а я изучаю историю…
– Какую? – несколько удивленно спросила Валентина.
– Всеобщую. А также историю культуры и философии. У нас в горном институте этого не преподавали, а то, что у меня осталось после рабфака, очень смутно. Приходится пополнять пробелы.
– Когда же вы успеваете?
На лице Анны выразилось недоумение: по-видимому, эта мысль редко приходила ей в голову.
– А как успевают работницы на производстве? – ответила она вопросом. – Или возьмите рядовую колхозницу: она в поде работает и дома успевает, а дома у нее целая куча ребятишек, да еще огород и скотина. Где недоспит, где не погостит лишнего. Так и я! Трудновато, конечно. Тем более прииски разбросаны, приходится много ездить по району. – Она села рядом с Валентиной и, разговаривая, все время свертывала и развертывала измятую салфетку, которой вытирала рюмки. – Когда меня впервые назначили директором большого рудника, я испугалась. На золоте нужно быть не только горным инженером, не только хозяйственником, но и, прежде всего, организатором… Ведь мы не имеем своих постоянных кадров. Рабочие, влюбленные в золото, – это главным образом старатели, люди ценные, как разведчики, а для шахт, для рудников нам приходится создавать коллективы из случайных людей. И почти всегда золото связано с самыми суровыми условиями. Мы приходим и создаем все на холодной, как здесь говорят – нежилой, земле. Поэтому-то мало остается времени для работы над собою.
– Анна, что ты там писала насчет Маринки?.. Опять она вольничала? – спросил Андрей, входя в столовую.
Мягкие, крупноволнистые волосы его, зачесанные вверх без пробора, были влажны. Он шел и не спеша поправлял запонку на манжете белой рубашки.
– Они утащили нож у огородника, – сказала Анна. – Я, жалея, не хотела ее наказывать, когда она невинно проговаривалась, но в последнее время она торопится сама все рассказать уже явно с целью… Как будто этим утверждает за собой право проказничать.
– Ты преувеличиваешь, – ласково возразил Андрей. – Она и от других требует того же: нынче я раздавил елочную игрушку, не заметил и сказал, что это не я. Ты бы посмотрела, какая у нас была драма!
«Понятно, почему Маринка гордится тем, что у них „фамилия вместе“, – подумала Валентина, чуть насмешливо наблюдая за Андреем. – Она копия своего папы не только по наружности. Кто же у них тут верховодит? Во всяком случае, им не скучно живется! Да, им очень хорошо живется».
18
Золотистый свет падал через окно на пушистое одеяло, и согретый плюш тепло лоснился. Обнаженная рука, примявшая откинутую простыню, как будто тянулась раскрытой ладонью за солнечными зайцами. – Валентина спала. Но утреннее солнце добралось и до ее лица.
Она нахмурилась, сонные синие глаза нехотя приоткрылись и сразу заблестели осмысленно и ярко.
Комната совсем еще чужая: взгляд открывает вдруг то забеленную цепочку на печной отдушине, то гвоздь, неизвестно кем и для какой надобности вколоченный под самым потолком. Валентина попробовала представить все углы, которые ей пришлось обживать, и с чувством падающего человека, хватающегося при падении за любую опору, оглянула то, что помогало ей осваиваться на новых местах. Все эти коврики, скатерти, драпировки были тем пухом, которым она устилала свои случайные гнезда и который делал их похожим на ее собственное жилье.
– Что же я лежу? – воскликнула она, спохватившись, быстро села в постели и приподняла на ладони крохотные часики, подвешенные к спинке кровати.
Половина седьмого, а работа в больнице начиналась в девять, и Валентина успокоенно вздохнула: она не любила опаздывать. Воспоминание о больнице, о наладившихся сразу отношениях с медицинским персоналом и с больными настроило ее по-хорошему. За окнами, совсем близко, надрываясь, кудахтала курица. Валентина распахнула оконные створки и рассмеялась от удовольствия – благодатное, мягкое тепло хлынуло в комнату.
«Ну, как не кудахтать в такое утро!»
Китаец-огородник протрусил мимо. Со своими корзинами, низко подвешенными на прямом коромысле, он походил на качающиеся весы. В корзинах торчал пучками бело-розовый редис, курчавилась китайская капуста, похожая на кочанный салат.
Валентина посмотрела вслед китайцу и подумала, что весна прошла (вот и редиска успела вырасти), наступило уже настоящее лето, а она и не заметила, как это произошло. Постоянная смена людей и мест в течение двух последних месяцев и захватила и утомила ее. Так всю жизнь: едва привыкнув к новой обстановке, ока летела дальше, точно осеннее перекати-поле.
Выйдя в коридор, где стоял общий умывальник, Валентина услышала, как по кухне торопливо топотала ногами ее молоденькая соседка. У соседки были муж и двое детей, и все свободное от работы время она что-то варила, толкла, застирывала, штопала своему мужу носки. Настороженно прислушавшись к ее беготне, Валентина почти с озлоблением подумала:
«Что за радость вот так бегать, суетиться, прислужничать какой-нибудь самодовольной морде, не имея времени заглянуть в собственную душу! Может быть, даже бояться этого, как боится чахоточный узнать правду о своих разъеденных легких. Да… А как же Анна? Ей ведь тоже приходится заниматься хозяйством, она и с ребенком возится, и за мужем ухаживает».
Валентина представила Анну с салфеткой в руках, вспомнила ее слова: «Я и не думала, что замужем так хорошо!», вспомнила выражение ее лица, когда она обращалась к Андрею… «Да, она счастлива, мелочи быта не тяготят ее».
Валентина любила представить себя в недалеком будущем. Она поселится в прекрасном городе, в удобной квартире, где нудные домашние работы будут делаться незаметно. Главное в том, что все смогут так жить, не забивая чужой жизни своими дырявыми носками и грязным бельем. Вот Валентина идет к дверям, за которыми ее ожидает голубая, быстрая, словно ветер, машина. Она мчится по серебряной ленте асфальта. Вокруг ничего унылого, угрюмого! Самые теплые, самые радостные цвета должны войти в обиход человеческого существования, а прежде всего в больницы и поликлиники, вытесняя холодную белизну.
Валентина оделась и вышла на улицу. Там не оказалось сказочной голубой машины, зато у ступенек сидела почти совсем голубая собака и пышным своим хвостом разметала соринки на песке, что, наверное, означало: «Доброе утро! Очень приятно видеть вас в таком хорошем настроении».
19
Валентина вошла в прохладную с утра столовую, села у открытого окна и в ожидании, когда ей принесут завтрак, засмотрелась на детей, игравших под окнами на куче сухих опилок.
Девочки уговаривали малыша, едва научившегося ходить, отойти в сторону.
– Не то мы тебя затопчем, – рассудительно говорила одна, постарше, повязанная белым ситцевым платком, но босоногая. – А не то затопчем! – повторяла она, нетерпеливо переступая красненькими пятками.
Валентина слушала и улыбалась. Ей вдруг захотелось иметь такую дочку, смешно повязанную, щекастую, толстопятую, и, когда девчонки наконец сговорились и побежали, она с особым сочувствием поглядела им вслед.
Поэтому она не сразу заметила подошедшего к столу Виктора Ветлугина. Главный инженер показался ей франтоватым, чуточку смешным, она улыбнулась ему доброжелательно.
– Вы рано встаете, – сказал он, здороваясь. – Я проходил с шахты в семь утра, у вас уже были открыты окна.
– Я иногда всю ночь сплю с открытыми.
– Не боитесь? – Ветлугин сел напротив, не спросив ее согласия: они каждое утро завтракали за одним столом. – Вдруг обокрадут?
– Говорят, что здесь воров нет. К тому же у меня завелась добровольная охрана… Вчера кто-то поздно ходил под окнами.
Ветлугин густо покраснел. Скрывая смущение, он вытащил из-под шляпы, положенной им на соседнем стуле, коробку шоколадных конфет.
– Сравнительно свежие: доставлены вчера с оказией не через Якутск, а с Алдана. – Он подержал коробку в руках и подал ее Валентине. – Тайон не плохо разбирается в этом. – Видите, я уже рад и тому, чтобы угождать вашей собаке.
– Угождать собаке! Какое неблагодарное занятие! – Валентина отстранилась от стола, на котором девушка расставляла тарелки с горячими пирожками, и добавила: – Я знаю, что настоящие лайки едят только юколу.
– Тайон ее, наверное, не видел, – сказал Ветлугин, готовый пуститься, если угодно, и на поиски юколы.
Он пододвинул к себе стакан, но забыл о нем, снова обратив к Валентине ласковый взгляд выпуклых, мягко светившихся глаз.
– Вы любите Левитана? – неожиданно спросил он.
– Немножко…
– А я очень люблю. Когда я смотрю на его картины, меня охватывает такая хорошая грусть… Вы тоже, как левитановская березка: светлая…
– Кто занимается с утра подобными разговорами? – с недовольной гримаской перебила Валентина. – О лирической грусти надо говорить после веселого обеда или ужина, когда в голове приятный туман и не нужно спешить на работу.
– Зачем вы так? – сказал Ветлугин, огорченный ее нарочито пренебрежительным тоном.
– Что вас задело? Я совсем не хотела обидеть… Вы знаете, я очень хорошо отношусь к вам. Серьезно! По мне кажется, вас больше должен привлекать такой художник, как Рубенс: вы по натуре очень жизнерадостный человек.
– Но я прежде всего русский человек и поэтому не могу пройти равнодушно мимо Левитана.
– Какой же вы русский? – поддразнила Валентина. – Вы сибиряк, да еще дальневосточник… Что вам до русского пейзажа? Вы и знаете-то его, наверное, только по Левитану.
– Чувство родины не обусловлено местом рождения, – возразил Ветлугин, нервным движением стискивая свои сплетенные пальцы. – Белорусские леса и берега Волги мне так же дороги, как наши сопки.
Он почти отвернулся от Валентины, но, не глядя на ее лицо, не мог не видеть ее рук, которыми она брала то пирожок, то сахар или чашку, и эти руки, с легкими ямочками, с черной браслеткой часов над гибким запястьем, снова вызвали в нем восторженную нежность.
– Как вам нравятся Лаврентьева и Подосенов? – спросила Валентина.
– Очень хорошая пара. Особенно Анна Сергеевна.
– А Подосенов?
– Он немножко суховат. Пожалуй, излишне самолюбив, упрям.
– Не похоже на него! – промолвила Валентина с живостью. – Мне он показался очень сердечным.
– Да? Возможно… Но работать с ним трудно: он поставил себе задачей раскрыть тайны Долгой горы и все остальное готов принести в жертву своей сомнительной идее. Раскрывать-то нечего! Так почему должно страдать все дело ради его любопытства исследователя?
– Какое любопытство? Ведь он не мечется от одного объекта к другому.
– Этого еще не хватало! – возразил Ветлугин с негодованием на самую возможность такого предположения. – Представьте что-либо подобное в вашей собственной практике! Метаться? Это значит утром прописать больному пиявки, потом переливание крови, а к вечеру кровопускание.
– Бывает и так, – сказала Валентина с усмешечкой. – Не переливание и кровопускание, конечно, но иногда приходится прибегать к самым неожиданным комбинациям. При трофической язве через каждые три дня иная процедура, а тяжелые случаи рожистых воспалений с температурой до сорока, когда больной и так весь горит, мы лечим ожогами кварца – облучение выше всякой нормы, – что в ином случае – уголовное дело. Другими словами, льем масло в огонь, и помогает, приводит к затуханию болезни.
– У вас, возможно, бывает и так. Для медиков это не значит метаться: вы имеете дело с живым человеком – самая изменчивая материя. А у нас о чем речь? Гора! Она и сегодня, и завтра, и через тысячу лет все та же, ячего в ней не было заложено, не образуется вдруг.
– А вдруг образуется? – весело спросила Валентина.
– Вам просто хочется позлить меня, – догадался Ветлугин. – Погодите, вот я скоро опять уеду в тайгу… недели на две… – Он нарочно удлинил срок.
Валентина выслушала равнодушно, и он договорил с горечью:
– Я думаю, вы все-таки вспомните обо мне… когда у вас будет плохое настроение.
20
– Уборщица заболела, а я уже привык к ней. Не люблю, когда приходят разные: каждая убирает по-своему, и потом ничего не найдешь на привычном месте – все перепутают. – С этими словами Ветлугин расправил ковер у дивана, вынес в переднюю веник и минуты две плескался на кухне, гремя гвоздем умывальника.
Андрей ходил по кабинету, курил и ожидал терпеливо. Окно было открыто, и ветер относил, надувая парусом, легкие шторы из белого шелка, спадавшие до самого пола. В квартире было свежо, светло и свободно. Две хорошие картины в богатых рамах висели в кабинете, в спальне узкая и, видимо, жесткая постель с двумя подушками в наволочках ослепительной белизны, и два ружья, повешенные на азиатском пестром паласе.
«Всего по паре, только сам один», – подумал Андрей и невольно покосился на тумбочку у кровати, где давно приметил портрет молодой женщины, должно быть, жгучей брюнетки. Но его там уже не было.
«Эге, тут дело непросто, – подумал Андрей, зная о прошлом увлечении Ветлугина. – Кажется, опять заело молодчика! Дай-то бог, как говорится. И книг у него прибавилось. Ну-ка, чем он интересуется? Герцен: „Письма об изучении природы“… Надо будет позаимствовать – еще раз перечитать! А вот Плеханов… „Изложение Фейербаха“».
– С пометками читает… – промолвил Андрей вслух, перелистывая книгу.
– А вы полагаете, я только пустыми разговорчиками занимаюсь, – сказал Ветлугин, входя в комнату и энергично вытирая на ходу лицо и шею мохнатым полотенцем. – Нет, голубчик, Андрей Никитич, я скоро Уварова за пояс заткну по части философии.
– За пояс вы его не заткнете, а помощью его, видимо, пользуетесь. Где Герцена достали?
– У него, – ответил Ветлугин, причесываясь перед зеркалом в простенке.
– Прочитали?
– Нет еще… То есть начал! Знаете ведь, как…
– Да-а, – многозначительно протянул Андрей. – Я вижу, вам теперь некогда.
– Что вы видите?
– Да так…
– Нет, вы скажите, – настаивал Ветлугин, останавливаясь перед Андреем с гребенкой в руке.
С подвернутыми рукавами, с очень белой в открытом воротнике шеей, он так и дышал здоровьем, силой, молодостью.
– Скажите! – просил он, радуясь чему-то про себя.
– Что говорить! Портрет-то исчез?
– Исчез… верно… – Ветлугин замолчал, надевая пиджак, расправил его движением плеч. – Пойдемте, я покажу вам хозяйство холостого человека…
Он подхватил Андрея под локоть и потащил на кухню.
– Родители прислали из Владивостока, – сказал он, делая широкий жест.
На гвоздях, вбитых в бревенчатой стене, и над окном красовались копченая грудинка, связка колбас и небольшой окорок ветчины.
– Прямо как в магазине, – шутливо похвастался Ветлугин. – Для одного человека бессовестно много, но положение… маменькиного сынка обязывает! Минуточку терпения, и я устрою роскошную закуску. Я все умею сам делать.
– Давайте посидим здесь, на кухне, – предложил Андрей, оглядываясь на просторный стол под белой клеенкой. – У вас чистота, как в аптеке.
– И в то же время мерзость запустения, – отозвался Ветлугин, позвякивая то примусом, то сковородкой. – Сейчас угощу вас такой ветчиной… пальчики оближете! Хотите с бобами? По-американски? Откройте, пожалуйства, банку, консервный нож на полке. Вы, разведчики, тоже хозяйственный народ. Вообще дико представить нашего инженера под опекой Захара или Петрушки. А ведь раньше какой-нибудь титулярный советник без лакея шагу не ступал, хотя бы обоим жилось впроголодь. До чего дешевы люди были! – С последними словами Ветлугин достал из шкафчика бутылку таинственного вида и цвета. – Хотите по маленькой? Эту настойку отец сделал. Пишет, что от прострелов хороша, но я пока не страдаю.
– За что выпьем? – спросил Андрей.
– За счастье!..
– Счастье? Дар чувствовать себя счастливым не всем дается, – сказал Андрей, тепло подумав о своей семье.
– Вы, должно быть, счастливы, – заметил Ветлугин, осторожно подкладывая на тарелку Андрея бело-розовый ломоть ветчины. – А мне отчего-то не везет в личной жизни.
За короткие, считанные дни Валентина вошла в него, как болезнь: что бы он ни делал, о чем бы ни думал, все время и больно и радостно напоминало ему о себе ощущение неразрывной связанности с нею.
– В семье счастлив, да, – твердо ответил Андрей, – но с работой не клеится, и все настроение падает.
– С работой… – повторил Ветлугин, стряхивая минутное забытье. – Андрей Никитич, бросьте вы эту разведку, право. Ведь вы поймите, какой у нас зарез получается…
– Мне кажется, вы просто не хотите понять, – горячо заговорил Андрей. – Я для вас и хлопочу – для производства. Знаю, золото на Долгой горе будет: все проверено, рассчитано. Дело только во времени и в деньгах. Может быть, еще месяц какой продержаться, а вы говорите – бросить! Я от вас другого жду, Виктор Павлович! Поддержите меня! Ну, что вам стоит?!
– Мне-то ничего не стоит, я о себе не беспокоюсь, а заваливать предприятие не могу, не имею права. Лично для вас на все готов! Хотите, выброшу за окно это копченое свинство, хотите, сам выпрыгну. Тут высоко, не меньше чем со второго этажа…
– У меня вся душа изболела, а вы с шуточками, – сказал Андрей, порывисто вставая.
Он быстро прошелся по кухне и, подавив раздражение, снова сел на свое место.
«Говори не говори, как о стенку горохом – не берет. Разве можно доказывать, если человек предубежден до равнодушия», – подумал он почти с озлоблением, но произнес неожиданно мягко:
– Я ведь не меньше вашего болею за выполнение программы, хотя смотрю дальше… Какой подъем сулит нам открытие рудного золота!
– Вы нас доведете до того, что мы вас… повесим за такое заманивание, – с дружественной бесцеремонностью перебил его Ветлугин. – Не искушайте меня, пожалуйста.
21
Ветлугин стоял, склонив голову, и слушал… Толпа приискателей окружила его жарким полукругом, напирая к прилавку, где на новеньком патефоне мерцал черный круг пластинки. Горняки тоже слушали и обсуждали преимущества баяна перед скрипкой.
– Скрипка – самая тонкая музыка, – говорил с увлечением Никанор Чернов, работавший теперь бурильщиком на руднике. – Отец мой сказывал, что у нас на Украине скрипач на селе – почетнейший человек. Но, конечно, скрипка всегда требует аккомпанемента. Чтобы, значит, за компанию другой инструмент был.
– Эх ты, украинец! – весело укорил Никанора черный, как цыган, рабочий, по прозвищу Расейский. – Забыл ты совсем, что твой отец путал! Не скрипач на Украине первое лицо, а бандурист. Для нас же, для расейских, нет лучше баяна. Скрипке нужно то да се, а баян один себе и развеселит, и в тоску вгонит. – И Расейский, торжествуя, осмотрелся.
Но он скорее походил на артиста-скрипача со своими сильными, тонкими, нервными руками, как походил на сердцееда-баяниста, чубатый светлоглазый Никанор Чернов, поклонник скрипки.
– Еще бы, – подхватил вызов Расейского по-мальчишески ломкий тенор. – На баяне одних пуговок сотни полторы, и каждая значение имеет.
Раздался одобрительный смех; большинство явно склонялось в пользу баяна.
Чернов презрительно вздохнул:
– Э-эх, вы-ы! Ладов не знаете, а спорить – собаку съели!
Ветлугин уплатил деньги, взял завернутые пластинки и вышел на улицу. Был выходной день. Веселый, праздничный гомон стоял над поселком. Даже милиционер, одиноко отдыхавший на завалине, в галошах на босу ногу, сосредоточенно и угрюмо бренчал на балалайке. Женщины сидели стайками у сеней бараков, подмигивали вслед Ветлугину, задорно посмеивались. А Клавдия, стоявшая на улице с миской в руках, громко сказала своей товарке:
– Красивый наш инженер, как ангел! Румянцы у него в лице такие сочные, просто прозрачные…
Ветлугин невольно прислушался. Слова старухи рассмешили его, и в то же время он почувствовал себя польщенным. Что ответила другая, он не разобрал, но отчетливый голос Клавдии донесся еще раз издали:
– Ну, прямо прозрачные!.. Как кисель брусничный!
– Какую чепуху придумала! – прошептал Ветлугин с усмешкой, ускоряя шаги. – Прозрачный румянец…
Он провел ладонью по щеке: кожа была гладкая, упругая.
– Сочный! – повторил он, уже издеваясь над собою и злясь на Клавдию. – При чем тут кисель? Не дай бог, ляпнет она этакое при Валентине.
Ветлугин только что вернулся из тайги, где срочно строилась подвесная дорога для лесоспуска. Машинам растущей электростанции нужно было топливо. Новые моторы на шахтах и на руднике, мощные драги, работающие и подготовляемые к пуску, – все требовало электроэнергии, а источник энергии – стволы деревьев (золотые и лучистые в разрубе, как солнце, отдавшее им эту энергию), теперь просто бревна, лежали «у пня», на заросших, старых болотах или в камнях на россыпи. Солнечная энергия, заключенная в миллионах кубов горючего, ждала своего сказочного перевоплощения. Но как буднично готовилось это перевоплощение!
– Мотор? – откликнулась Анна на запрос Ветлугина. – Да пожалуйста! Возьмите хотя бы тот, что из старого оборудования, заброшенного с Лены.
– Этакое старье! – возмутился тогда Ветлугин.
– Ничего, отремонтируете, – сухо сказала Анна, упорно не желавшая понять, как испортит этот мотор всю поэзию трудного дела дровозаготовщиков.
Он походил на разбитого параличом больного, много лет пролежавшего на грязной постели, и Ветлугин, – почти с отвращением осмотрев его и приказав немедленно лечить – сам наблюдал за лечением, чтобы только доказать Анне всю зряшность ее затеи.
Ветлугин любил свою работу горного инженера, был он и хорошим механиком, и теперь, когда далекое таежное предприятие обрастало сложными машинами, работал с особенным увлечением. Но он с предубеждением относился к техническому старью – это была его слабая струнка.
Наблюдая за движением первого груза на подвесной, он почти желал, чтобы где-нибудь заело. Но отремонтированный мотор действовал исправно, точно стремился вознаградить себя за время вынужденного бездействия, и Ветлугин, побежденный и тронутый, сказал:
– Прекрасно, старина!
22
Ветлугин вернулся из тайги рано утром, успел помыться в просторной приисковой бане, еще пустой, с чистыми, сухими после ночной уборки полами и лавками, и его лицо так и горело крепким румянцем. Все время, пока он жил в тайге, среди зелено шумящего и сваленного на землю леса, среди разъятых на части древесных туш и сказочно огромных поленьев, чувство приподнято-радостного, иногда томительного ожидания не покидало его. Это была тоска о «ней» и ожидание встречи с «нею».
Он посмотрел на окна Валентининой комнаты, и все мысли разом вылетели из его головы. Окна были открыты. На одном, припав к подоконнику, выставив круглые лопатки, лежала черная кошка. Она плотоядно глядела на синиц, копошившихся на елке у стены дома, и даже сладострастно мурлыкала.
При всей своей самоуверенности Ветлугин не имел никакого основания думать, что о нем скучали. Шаги его сразу стали грузными. Взбежав всего на шесть ступенек, он задохнулся, точно поднялся на шахтовую вышку. Он понимал, что просто ужасно явиться перед Валентиной таким вот – искательным, растерянным, неловким от избытка сил и чувства, но желание видеть ее немедленно, сейчас же, превозмогло колебания.




































