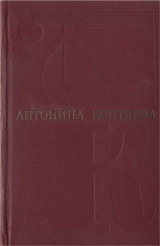
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
Она сказала это почти спокойно, и Андрей ответил:
– Да, мы посмеялись немножко.
– О чем вы говорили?
– Обо всем.
Губы Анны задрожали:
– Разве можно говорить обо всем с такой пустой и самовлюбленной особой?
– Нет, она вовсе не пустая, – возразил Андрей, как будто не замечая едва сдерживаемого волнения жены.
– Ты находишь? – вырвалось у Анны. – Тебе, конечно, виднее, – добавила она торопливо, пугаясь своей гневной ненависти.
31
Анна нерешительно перебирала платья – которое надеть: свое любимое, коричневое, или любимое Андрея, синее? Она колебалась недолго и сняла с вешалки синее, из тяжелого файдешина. Сидя перед зеркалом, поправила крылышки кружевной вставки, надушила виски и руки и сама залюбовалась собой, хотя смутная тревога все время покалывала ее, зажигая на щеках неровный румянец.
Такой и застал ее Андрей: с чуть приподнятой бровью, с вытянутой круглой шеей, смуглевшей над тонким узором кружев. С минуту он глядел на жену, не замеченный ею, потом вошел в комнату и спросил ласково:
– Кокетничаешь?
– Немножко.
– Для кого принарядилась?
Она с упреком взглянула на него: еще он спрашивает!
Андрей, тронутый, наклонился, чтобы поцеловать ее, но она слегка отстранилась.
– Ты любишь меня, Андрюша?
– Очень!
– Ты так спокойно говоришь это! – сказала она и пытливо посмотрела на него. – У тебя такие далекие, равнодушные глаза.
– Я думаю о своей рудной разведке, просто извелся за последнее время. Я не жалуюсь, – добавил он, чутко уловив промелькнувшее по лицу жены выражение грустной отчужденности. – Но ты пойми: ведь мне одному приходится тащить эту глыбу, а вам она или безразлична, или… досадна!
– Только не безразлична!
– Но и не интересна. Я точно в темном лесу… Иду к своей цели, срываюсь, падаю – и все один. – Говоря это, Андрей невольно вспомнил слова Валентины о том, как она ночью шла по тайге к больной женщине.
– Ты знаешь, как я переживаю за тебя, – возразила Анна, смело встречая и выдерживая его взгляд.
– Моя работа и я – одно и то же.
– Я чувствую так же, – сказала Анна. – Тот, кто любит свою работу, не боится никаких трудностей. И надо иметь мужество признать провалы в ней.
– Я не могу признать черным то, что мне кажется белым, кто бы ни старался внушить мне обратное, – запальчиво сказал Андрей.
Оба долго молчали.
– Ну, что же… Пойдем мы в клуб или нет? – сухо спросил он.
– Конечно, пойдем, – ответила Анна, почти бессознательно подчиняясь его желанию загладить новое столкновение. Но слишком горько было у нее на душе, и она сказала: – Обо мне ты уже не думаешь? То, что я переживаю, тебя не волнует? Ты всегда был спокоен по отношению ко мне.
– Не понимаю, что значит «спокоен», – возразил Андрей с легким оттенком досады. – Разве тебе хочется, чтобы я ревновал, когда ты уезжаешь в тайгу с Уваровым или со своими инженерами? Я думал, ты дорожишь моим уважением и доверием…
– Да, да, ты прав, – прошептала Анна, понимая, что обидела его. – Не думай обо мне плохо.
– Ой, какая ты нарядная! – восхищенно сказала Маринка, вбежав в комнату, умытая, в ночной рубашечке. Она обошла вокруг матери, потрогала кружево на ее груди. – Какая ты нарядная! – повторяла она. – Какая у тебя гуля!
Анна посадила девочку в кроватку, поправила ей подушку, укутала одеялом; вдруг не захотелось уходить из дому, но Андрей уже вышел и ожидал на террасе.
– Похоже на то, что опять дождь будет, – сказал он. – Я захватил твой плащ.
– Спасибо, дорогой, – ответила она, особенно тронутая в этот раз его заботливостью.
32
В вестибюле клуба уже никого не было, но тусклая пелена табачного дыма еще голубела в нем, постепенно редея и рассеиваясь.
– Опоздали, – сказала Анна, прислушиваясь к тому, что происходило в зрительном зале.
Стоило постучать, и им открыли бы, но Анна не спешила войти, взглянула на Андрея, и он опустил руку. Медленно они прошли в дальний угол фойе.
Подосенов поглядел на жену и выжидательно улыбнулся.
– Помнишь, как мы с тобой в первый раз были в театре? – спросила она. – Ты пригласил меня в буфет, а потом у нас не хватило пятидесяти копеек. Помнишь? Ты бегал, разыскивал наших студентов, а я сидела за столиком и умирала от стыда: мне тогда казалось, что все знают, почему я сижу так долго.
– Зато теперь ты можешь выбрасывать по пятьдесят тысяч на сумасбродные затеи своего мужа, – с язвительной колкостью сказал Андрей.
– Зачем подковырка? У меня совсем другое на сердце, – проговорила Анна стеснительно. – Знаешь… Я очень хочу… Подари мне что-нибудь.
– Чего же тебе хотелось бы?
– Коробку конфет, духи…
– Обязательно подарю, – пообещал Андрей, немножко озадаченный ее внезапной прихотью.
Книжный киоск привлек случайно его внимание пестротой выставленных обложек.
– Знаешь, что я подарю тебе?
– Что? – спросила Анна, по-девичьи оживляясь.
– Я куплю тебе сейчас записную книжку. Здесь были очень приличные.
– Хорошо, – промолвила она с тем же оживлением, но уже принужденным.
33
Приезжие поэты не понравились ей: она столько читала и слышала похожего.
Но, несмотря на это и даже именно поэтому, Анна заставила себя выслушать все, что говорилось со сцены, и хлопала в ладоши так же долго, как все сидевшие вокруг нее.
«Возможно, стихи были лучше, чем показались мне», – подумала она, не доверяя своему рассеянному вниманию.
Она встала с места и, сразу оттесненная от Андрея, нерешительно остановилась в людской толчее, образовавшейся двумя течениями: одни устремились в буфет, другие – поближе к сцене, где стояло новое пианино.
– Пока соберутся музыканты, я сыграю, – услышала Анна голос Валентины и, обернувшись, увидела, как села та перед инструментом, и приподняв край платья, протянула узкие ножки, нащупывая ими педали.
Один из поэтов, высокий, костлявый и нервный, торопливо листал перед нею ноты, тихо переговаривался с ней. Его очень большие руки подчеркивали нескладность всей его фигуры, и Валентина рядом с ним казалась еще стройнее.
– Я сыграю «Каприз» Рубинштейна, – сказала она после некоторого колебания и, оглянувшись через плечо, поискала взглядом кого-то в толпе.
«Почему „Каприз“?» – подумала Анна, незнакомая с этим произведением композитора, почти испуганно замечая, что Валентина еще более похорошела за последнее время, глаза ее искрились, пышно, царственно лежали над открытыми висками и лбом крупные завитки волос, подобранные заколками с боков и блестящей волной спадавшие сзади на полуоткрытые плечи.
Пальцы Валентины коснулись клавишей. У нее были маленькие руки, ей трудно было играть, но мелодия все разрасталась и разрасталась и вдруг все рассыпалось под мощным ударом перезвоном хрустальных колокольчиков.
«Она выбрала то, что выражает ее настроение!» – думала Анна, мучаясь от своего бессилия перед обаянием этой женщины.
Андрей стоял неподалеку в толпе. Вещь, исполняемая Валентиной, захватила его. Именно такой музыки он хотел и ждал. Он был взволнован.
Поведя взглядом, Анна увидела его и поразилась: он точно хотел, но не мог понять, что с ним происходило, да так и забылся мучительно-напряженный, ей показалось, что он не слушал музыку, а неотрывно, не моргая, – как прошлый раз Ветлугин, – смотрел на Валентину, всю ее обнимал одним взглядом и ничего, кроме этих быстрых, сильных и гибких рук, кроме этих сияющих, залитых светом волос, не существовало для него, – так показалось Анне, и она закрыла глаза, потрясенная страхом и страданием.
«Я уйду, не могу, не в силах находиться здесь дольше».
Она отвернулась и медленно, никого не различая, пошла сквозь молчаливо расступавшуюся перед ней толпу.
34
Мрак охватил ее за дверями, Анна постояла на ступеньках и почти бессознательно ступила на песок, где тихо шептал невидимый дождь. Он обрызгал ее лицо, смочил плечи, но она не почувствовала ничего, так горело и ныло у нее в груди. Мокрая ветка зацепилась за платье, женщина рванулась и почти побежала по дорожке, спотыкаясь, слабо вскрикивая и заслоняясь руками, точно боялась в этом смутном мраке удариться о гудевшие вблизи провода.
Она быстро прошла мимо удивленной Клавдии, открывшей ей дверь, сердито отмахнулась от ее предложения выпить чего-нибудь согревающего. Заболеть? Меньше всего она думала о болезнях.
Маринка спала. Взглянув на дочь, Анна сняла намокшие туфли, стянула платье и с горькой усмешкой посмотрела на «красивую гулю». Сырое белье противно холодило тело, и Анна сбрасывала его, обрывая от нетерпения петли и пуговицы. Надев ночную рубашку, она ковриком, чтобы не обращаться к любопытной Клавдии, подтерла пол и, постепенно успокаиваясь, стала заплетать косу.
«Зря ушла домой, – сказал в ее душе ясный, холодный голос. – Ведь хорошо было… приисковый клуб – и такая музыка, и чуткое внимание рабочих, шахтеров, а она, вместо того чтобы радоваться, сорвалась и убежала, как девчонка…»
Анна попробовала даже улыбнуться, но улыбки не вышло. Она легла на спину, выпростала поверх одеяла руки, посмотрела на них. Они были смугловаты, сильны, крупны. Анна вспомнила огромные руки приезжего поэта, неуклюжие рядом с прекрасными руками Валентины.
«И я сама помогаю ей во всем! – подумала она с новым взрывом отчаяния. – Зачем нужно было спешить с перевозкой пианино?»
Анна вспомнила, как Андрей однажды пристрастился к танцам, и как ей было приятно тогда, что он, интересный, хорошо танцующий мужчина, не делал различия между красивыми и дурнушками, а перебирал их будто по необходимости.
Она взглянула на платье, небрежно брошенное ею на спинку стула… Любимое платье мужа.
Ей стало стыдно. Она поднялась с кровати, устроила платье на вешалке, расправила его и унесла за шкаф, чтобы не увидел Андрей, потом она взяла книгу, снова легла, но читать не смогла.
Она ждала и, когда муж пришел, с замиранием прислушивалась к его твердым шагам.
– Почему ты ушла? – спросил он, входя в комнату.
– Меня вызвали на рудник, – сказала Анна с героическим спокойствием, но глаза ее умоляли его не верить этой лжи.
– Я так и подумал, что тебя вызвали куда-нибудь, – беспечно сказал Подосенов. – Но ты не взяла плащ…
– Мне дали дождевик. Дождь шел…
– Да, дождь… Он все еще идет. – Андрей отдернул занавеску, открыл окно. Ему не хотелось ложиться в постель. С минуту он стоял, опираясь ладонями в края рамы, смотрел в прохладный мрак, где неумолчно, радостно плескались дождевые струи. – Вот в такую ночь хорошо спать на свежем сене, на сеновале, – сказал он, не оборачиваясь. – Я очень люблю спать, когда дождь стучит по крыше. – Голос его звучал негромко, но возбужденно и бодро; похоже, Андрей улыбался…
Анна наблюдала за ним подавленная, со странным, холодным любопытством. Все в ней опало вдруг. Она понимала, что Андрею должно быть весело сейчас потому, что еще не о чем было сожалеть, не в чем раскаиваться. Но, понимая, она не могла ни примириться со своим неизбежно надвигавшимся несчастьем, ни предупредить его.
– Танцевали? – тихо спросила она.
– Да, там еще танцуют. Я тоже два раза покружил… С Валентиной Ивановной.
Пытаясь справиться с нервным удушьем, перехватившим ей горло, Анна промолвила:
– Она играла хорошо.
– Да, она играла чудесно. – И, точно оправдываясь, Андрей добавил: – Мы шли домой с Уваровым. Он очень доволен вечером.
35
На участке деляны чувствовалась особенная праздничность, хотя все работали. Общее внимание привлекал только что сгруженный с тракторной площадки мотор водоотлива.
– Ловкий моторчик! Аккуратный, – приговаривал старик Савушкин, любовно оглаживая и осматривая его. – Сколько на нем загогулинок, и все к месту, все надобное. Исхитрился человек придумать такое! Вот она, наука! Какое замещение рукам! Попробуй-ка откачать ее, воду-то, из ямы… из шахты тем паче! А мотор день и ночь справляется со своим делом. Ни хвори ему, ни устали!
– Будет тебе там разглагольствовать! Поторапливайся! – ревниво и весело кричали Савушкину старатели, плотничавшие на возведении эстакады.
Савушкин хватался за топор и лез на эстакаду, пока его не отвлекали привезенная вагонетка, сизые усы рельсов, торчавшие за трактором или массивные закругления насоса, черного и грузного.
– Обзаводимся хозяйством! – гордо закричал Савушкин Анне и Уварову, увидя их на участке. – Механизируемся! Технически!
Анна понимающе улыбнулась, интересуясь всем не меньше старика.
– Славно-то как! – говорила она Уварову. – Теплынь стоит, чудо! Даже не верится, что находишься на севере. Солнышка-то сколько! Я сегодня полдня провела на руднике… Пока там ходила, забыла, что лето и зелень, а вышла на свет и ахнула: до чего тут изумительно красиво! Под землей только то и отрадно, что есть живые люди.
– А золото? – напомнил Уваров не без хитрости.
– Золото? Но ведь еще и уголь есть и руды, да мертвое все это, – серьезно сказала Анна. – Я иногда думаю, в любой работе найдется какая-нибудь романтика, возьми ты металлургов-литейщиков, моряков, железнодорожников, а у шахтера красота труда заключена в самом себе. Подземелье – каменный мешок, без света, без солнышка. Кругом твердая порода, немая, сплошная, тяжкая… Надо особенную, смелую душу иметь для такой работы. Вот бурильщики… Ведь они первые подвергаются риску, а они лучше всех отнеслись к введению десятины.
– Так и зовут десятиной?
– С легкой руки Ветлугина привилось. Она действительно будет громадна! И, понимаешь, относятся не со слепым доверием, а сами рассчитывают, соревнуются за право начать бурение, – снова увлекаясь, продолжала Анна. – Первую камеру подготовим для работы к концу августа. Ты знаешь, Илья, она мне даже сниться стала. Честное слово! Уже определилось, что она будет в триста девяносто квадратных метров. Это только представить надо! В ней мы оставим метровый целик: пусть Ветлугин убедится на опыте…
– Он еще сомневается?
– Нет, он теперь искренне заинтересован десятиной. Может быть, он даже доволен, что десятина оставила в тени его проект: ему не пришлось признавать свою неудачу открыто. Но, надо сказать, он легко примирился с этой неудачей. При всей его работоспособности он не страдает особым самолюбием.
Анна помолчала, глядя, как старатели по указаниям механика устанавливали мотор водоотлива над широкой ямой открытого забоя. Механик, молодой, худощавый, темноволосый, работал наравне со всеми: разбираться в чинах было некогда.
– Отличный работник, – сказала о нем Анна. – Я рада, что его жена согласилась сюда приехать.
– Он прямо сто сот стоит, – согласился Уваров.
– А твои мальчишки… пишут?
– Обижаются, что третий год не еду к ним. Грозятся бросить писать.
– Сюда взять не собираешься?
– Августа не отдаст. Она совсем завладела ими.
Дружная работа стариков старателей, сразу точно помолодевших в своем воодушевлении, казалась со стороны легкой. Они весело стучали топорами и молотками, звенели лопатами, подготавливая забой, тащили, будто муравьи, рельсы, доски, гидравлические трубы. Впервые старики столкнулись с механизмами. Они готовились облегчить свой тяжкий, первобытно-простой труд, и руки их, покрытые черствой коркой мозолей, почерневшие и потрескавшиеся, как сама земля, особенно бережно принимали и поддерживали переносимое оборудование.
– Они, должно быть, дружно живут, – добавила Анна, продолжая думать о механике и его жене. – Он расцвел за последнее время, и работа у него так и спорится.
– У хорошего человека всегда спорится, – негромко сказал Уваров.
– Нет, не всегда! Если на душе неспокойно, то это очень сказывается.
Уваров вопросительно посмотрел на нее.
Лицо Анны выразило печальную растерянность.
– Ты не понял меня. Я вообще… Хотя нет, не вообще. Поведение Андрея меня тревожит и в нашей личной жизни, – созналась она, снова обращая на своего друга открытый, но смущенный взгляд. – Ты пойми, Илья, как это мучительно: догадываюсь, хочу узнать, верно ли, и боюсь узнать. Я не спокойна, а мне хочется, чтобы… чтобы Андрей не заметил этого, не подумал бы, что я мелочная… ревную его. – Анна положила руку на горячую от солнца гидравлическую трубу, подведенную к эстакаде, потрогала язвочку ржавчины, желтевшую на железе. – Ревность разъедает чувство вот так. Нет, я не хочу! – сказала она с таким волнением, что у Ильи Уварова сжалось сердце, а широкие брови совсем наползли на переносье, придавая ему угрюмый, даже суровый вид.
То, о чем неожиданно заговорила с ним Анна, не было для него внезапностью, и тем не менее ему было нелегко слушать ее признание.
– Я верю в постоянную силу любви, осмысленную духовной близостью, – продолжала Анна торопливо и нервно. – Если эта уверенность обманет меня… Неужели я буду неправа? Не может быть! Значит, и не было настоящей любви, настоящей близости… Значит, просто сжились двое, не поняв до конца друг друга!.. Но ты знаешь, – она тяжело перевела дыхание, – нет, ты даже не представляешь, Илья, как мне будет больно, если я ошибусь.
Уваров не успел как-либо откликнуться на ее печаль: так же неожиданно, как начала, Анна умолкла и направилась в сторону, но ее сдержанное волнение расстроило его сильнее всяких жалоб.
«Ты не хочешь быть мелочной, – с горечью размышлял он, провожая взглядом уходившую Анну. – Ты допускаешь ее… – Он не сомневался, что речь шла о Саенко. – Ты допускаешь эту красавицу к себе в дом, разрешаешь ей играть с твоим ребенком и потихоньку испытывать прочность вашей семьи… Эх, Аннушка, я бы на твоем месте…»
Он не закончил мысли, не зная, что же он сам предпринял бы в данном случае.
36
Уваров повернулся и медленно зашагал в другую сторону. Он шел, твердо ступая по каменистой дорожке, но если кто-нибудь остановил бы его и спросил, куда он идет, то он не сразу нашелся бы, что ответить. Его остановила вода, над которой вдруг оборвалась дорожка. Мостков не было. Уваров огляделся и увидел, что зашел далеко.
Гибкие кусты молодого лозняка шелестели над мутной водой речонки; сквозь их листву, негустую, бледно-зеленую, виднелась просторная долина, огороженная горами. Вдали, среди островерхих серых валов песка и камня, тяжело ворочалась, лязгала, скрипела в своем котловане землечерпалка-драга. Поднятая с глубины и промытая ею золотоносная земля зубчатым следом тянулась по долине. Людей не было видно, и казалось, что гигантская машина-судно сама выполняла свою работу. Ее пронзительные стоны еще более одушевляли ее: как будто она искала что-то и жаловалась на трудную необходимость этих поисков наплаву.
Секретарь парткома рассеянно огляделся по сторонам и сел на прибрежную травку.
В камнях, вынутых из заброшенной старателями ямы, тоненько посвистывала мышь-каменушка. Нервно пошевеливая острым усатым рыльцем, она уже хотела выбежать из дремучих для нее зарослей петушьего проса, но увидела человека и попятилась. Вместе с нею подался в траву выводок рыжих веселых мышат.
Уваров не интересовался тем, что происходило за его спиной: мышь ли это пела или птица – не все ли равно! Он думал о горячей исповеди Анны, и самые противоречивые чувства теснились в его сердце. Она была для него товарищем по работе, он сдружился с нею, врос в ее радости и печали, воспринимая теперь ее тревогу, как собственную. Ему вспомнилась первая встреча с Маринкой два года назад, когда они познакомились. Андрей сидел тогда у стола, держал ее на коленях и рисовал для нее на большом картоне голову лошади. Получилось хорошо, но Маринка спросила:
– А где еще глазик?
И не отступилась до тех пор, пока отец не испортил рисунок, нарисовав на профиле лошади второй глаз. А нынче она этого уже не потребует, потому что стала понимать больше, чем ей следовало. Недавно она даже заявила ему, Илье Уварову:
– Ты совсем не изячный. Толстый какой!
Илья посмотрел на свои большие руки, смирно лежавшие на коленях, и несколько раз сжал и разжал кулаки.
«Да, не изячный, но добрый кряж! У Леньки моего такие же ручищи будут». И Уваров ярко представил свой первый приезд к сестре под Рязань; дом, окруженный яблонями, и кучу детей, барахтавшихся в саду на траве.
«Теперь там добавилась Наташка, – с доброй завистью думал он. – Бабушка какая-то приехала. Совсем хорошее житье пошло!»
«И какого еще рожна надо Подосенову? – с неприязнью переметнулся он мыслями к Андрею. – Обладает таким счастьем и потянулся на сторону! Нет, быть этого не может, – внезапно заключил он. – Анна просто ошибается».
Голоса приближавшихся людей вывели его из раздумья. Он поднял голову и посмотрел в ту сторону. По берегу медленно шли Валентина и Ветлугин. Тайон нехотя тащился за ними. Уварову стало неудобно, что его увидят сидящим на берегу, вроде тоскующей Аленушки. Он хотел подняться, но мысленно махнул рукой и остался на месте, внешне спокойный, даже вялый.
– Вас тоже выманила хорошая погода? – крикнул Ветлугин, останавливаясь. – Правда, вечер особенный!
– Пойдемте с нами! – предложила Валентина с ласковой улыбкой. – Виктор Павлович нашел неподалеку очень интересные отложения известняков. Там сохранились остатки древних растений и разных малявок.
– Как это вас заинтересовало? Ведь вы не любите ничего, что наводит на воспоминания о прошлом, – спросил Уваров, досадуя оттого, что помимо воли почувствовал себя подкупленным ее приветливостью. Он хотел быть суровым к ней за… Анну.
«И что за охота у нее кружить всем головы? Теперь она с Ветлугиным!» – заметил он про себя.
– Я говорила в более узком смысле, – возразила Валентина и нахмурилась, сразу став старше. – Иногда я говорю даже совсем не то, что чувствую. Интересно проверять свои мысли в споре. Это точно свежий ветер.
– Вернее, сквозняк в голове, – пробормотал Уваров, поднимаясь.
– Вы находите меня легкомысленной? – без обиды спросила Саенко. – Что дало вам повод так думать обо мне?.
– Ваши же собственные слова, – сказал Уваров и пошел рядом с ней, несколько озадаченный ее простотой. – Попусту спорить – воду в ступе толочь. Это может быть и от молодого задора, и от пристрастия к красивой фразе.
– Для пустословия я слишком нетерпелива… Правда, правда! – вскричала Валентина, заметив усмешку на лице Уварова. – Вы уже готовы обвинить меня в легкомыслии и еще бог знает в чем, а я просто далека от условностей. Во всяком случае, искренна.
– Да ведь вы сейчас заявили, что можете говорить не то, что чувствуете, – упрямо сказал Уваров, не глядя на нее, чтобы не поддаваться обаянию ее женственной прелести. – Замуж вам надо выйти! – сказал он неожиданно и нахмурился, опять недовольный собой. – Тогда постепенно у вас все войдет в норму.
– Не хочу я в норму! И вы не можете желать мне того, чего избегаете сами, – не без колкости сказала Валентина, не заметив при этом подавленного вздоха Ветлугина. – До сих пор мне не особенно верилось в возможность семейного счастья, – промолвила она после небольшого молчания.
– А теперь? – Ветлугин, едва заметным движением прижал к себе ее локоть.
– Теперь я старше стала, – уклончиво ответила Валентина. – Трудно устраивать жизнь заново, когда тебе уже не восемнадцать лет, когда на жизнь смотришь трезво и требования к человеку совсем иные… Чему вы так язвительно усмехаетесь? – вспылила она, взглянув на Ветлугина, который и не думал усмехаться.
– Мне кажется, чувства всегда одинаковы и даже с годами становятся безрассуднее, – сказал Виктор. – Безрассуднее именно потому, что во всем остальном смотришь на жизнь трезво.
Валентина рассмеялась.
– Товарищ Уваров может обвинить вас в противоречии с большим успехом, чем меня. Впрочем, вы можете ответить ему словами Уитмена: «Разве я недостаточно велик, чтобы вместить в себе противоречия?» А я соглашаюсь с вами при условии существенной поправки: безрассуднее потому, что любишь сознательно… Во всяком случае, можешь определить, какое значение это имеет в твоей жизни.
37
– Ничего похожего на известь, которой у нас белят стены! – сказала Валентина, глядя на розовато-серые скалы. – И какие формы причудливые: зубцы, башни, языки изогнутые.
– Это доломит, – пояснил Ветлугин, поднимая обломок.
– Известняк, богатый солью магния, – добавил Уваров хмуро. – Чтобы сделать из него известь для побелки, его надо обжечь. Действительно, вид здесь фантастический.
– Небольшая копия доломитовых Альп в Южном Тироле, – самодовольно похвалился Ветлугин. – А это мергель, тоже известняк. – Он потрогал отшлифованный изгиб камня и взглянул на Валентину.
Она стояла на скале, вся в белом, с золотой гривой развевавшихся волос. На нее, ярко освещенную солнцем, глазам больно было смотреть.
– В Америке и Швейцарии плитами мергеля мостят улицы, – громче, чем следовало, продолжал Ветлугин.
– А у нас? – спросила Валентина, рассматривая впаянные в стене известнякового утеса ракушки: какие-то зубчатые крючки, палочки.
– У нас из него делают цемент, – ответил Уваров, легко подтягиваясь на руках между двумя глыбами и усаживаясь повыше. – Когда здесь будут строить каменные города, вон тот мраморовидный доломит пойдет на облицовку зданий. Представляете, какие ступени получатся из такого розового известняка?
– Подумать только, что все это остатки микроскопических амеб! – искренне восхищаясь, воскликнул Ветлугин. – Но корненожка, вырастившая целые горы, была не простейшей голой амебой, а имела раковину и даже скелет – пылинку углекислого кальция! Какие мощные залежи такой пыли отложились на дне морей! Во время последнего горообразования эта плоть древнего мира, окаменевшая в морских глубинах, была поднята к самому небу. Из нее построены вершины Альп и нашего Крыма, и Эвереста в Гималаях. Эверест поднял ее на высоту почти девяти километров на границе Тибета и Индии, где теперь сплошной материк! Все это молодые горы… самые молодые: им около пятидесяти миллионов лет.
– А Кавказ?
– Кавказ тоже молод, и Памир, и Кордильеры в Америке. Урал старше их примерно на триста миллионов лет, он и представляет собою уже невысокие каменные развалины…
– Это звучит как пересказ из энциклопедии, – неожиданно насмешливо сказала Валентина. – Вы не заглянули в нее, часом, перед прогулкой? Нет, я шучу, не сердитесь, пожалуйста. Сколько же лет роду человеческому?
– Около миллиона.
– Опять «около»! Все миллионы да миллионы. А мне двадцать девять лет! Если сравнить, то получится корненожка!
– Учтите, что человек начал тонкую обработку камня всего семь тысяч лет назад, – сказал Уваров. Он сидел на облюбованной им светлой скале-башне и, вслушиваясь в разговор, смотрел сверху в гористые дали. – Семь тысяч лет назад в жизни человека, просуществовавшего на земле миллион лет, прикрепление к палке отшлифованного каменного топора было настоящим событием, – продолжал он. – А вы через семь тысяч лет плюс двадцать девять располагаете лучами рентгена и радия! Если вы корненожка, то корненожка гигантская.
– А Ветлугин радуется находке известняков. Тоже событие!.. Может, мы вымостим ими улицы приискового поселка!.. Нет, если быть корненожкой, то такой, которая обладает хоть пылинкой настоящего вещества, – заговорила Валентина, снова мгновенно меняясь: выражение уныния исчезло с ее лица. – Я не хочу быть голой амебой, которая только питается и множится. Скажите, – обратилась она к Ветлугину, стоявшему в печальной растерянности, – на что еще годятся ваши скалы?
– Доломит обогащен солью магния…
– Мы уже слышали это.
– Магний – металл, который намного легче алюминия. При горении он дает ослепительный свет, вы видели его у фотографов. Если будет война, мы увидим этот свет в ракетах…
– Пусть лучше не будет войны. Может быть, тут есть писчий мел?
– Нет, мел, или мягкий известняк, – отложение других корненожек. Вот мраморы произошли из настоящих, прочных известняков…
– Значит, Венера Милосская…
– Создана греческим скульптором и корненожкой.
– Любопытно!..
– Паросский мрамор славился прозрачностью излома и особым желтовато-розовым оттенком телесного цвета. Может быть, это качество придавало такое дыхание жизни созданиям античных художников, – снова оживленно заговорил Ветлугин. – Мрамор тоже плоть существ древнего мира. Недаром он применяется в виде пыли как удобрение в сельском хозяйстве.
– Любопытно! – повторила Валентина, подставляя течению ветра лицо, вдруг разгоревшееся жарким румянцем. – Но какое отношение ваша находка имеет к нам, приисковым жителям? К золоту?
– Это очень узкий, деляческий подход, – запротестовал Ветлугин. – Я не объявлял, что сделал важное открытие. Просто ехал мимо и обратил внимание…
– Отчего же Андрей Никитич не обратил внимание?..
– Как геолог, он еще скорее бы заинтересовался.
– Но он не стал бы с таким увлечением толковать о них. Вы думаете, он не видел эти скалы? Наверное, видел и спокойно прошел мимо, потому, что он целеустремленный человек, а не разбрасывается, как вы, тоже горный инженер.
В голосе Валентины прозвучала такая досада, что Уваров подумал: «Она не даст мужу почить на лаврах! Но что у нее: только ли упрек женщины, лично заинтересованной в успехах избранника?»
38
Через несколько дней Уваров, Анна и Ветлугин отправились на деляну стариков старателей, где был назначен пуск гидровашгерда. Все трое были в приподнятом настроении: крупные механизированные работы устанавливались на старательском участке впервые. Нужно было провести их как можно лучше, чтобы заинтересовать старателей района и оправдать доверие самих стариков, ожидавших себе тысячу благ от этой установки.
– Интересное дело, – басил Уваров, – теперь я хорошо представляю, что значит, когда почва уходит из-под ног. Бурильщики наших камер на руднике похожи на людей, идущих против движения конвейера. Правда! Шахтеры – все-таки отчаянный народ. Силенкой и характером они напоминают мне моряков. В молодости я служил на Тихоокеанском флоте… Как же! С Урала многих туда отправляют.
На деляне стариков-старателей Ветлугин и Анна пошли к насосной будке, а Уваров свернул к яме открытого забоя, в которую скатывалась по канату с высокой эстакады новенькая вагонетка. Человек семь забойщиков, покуривая, ожидали в яме. Старик Савушкин в празднично-новой рубахе при широком ремне похаживал у эстакады, по-хозяйски посматривая кругом. Все было начеку.
– Ишь, как ты подтянулся, – настоящий красноармеец! – сказал Уваров старателю, шутливо ухватив его под ремень. – Здорово, товарищи! Что-то вы плохо поправляетесь на молочке?
– Мы его уже не пьем, – сказал Савушкин. – Это питье нам не по вкусу пришлось.
Уваров прищурился:
– Почему?
– Да так уж… – неопределенно ответил Савушкин. – Оно тоже не совсем полезно, это самое молоко. С непривычки особенно. Бруцеллез еще какой-то в нем имеется…
– Ну?
– Ну вот, я и говорю: не полезно!
– Полезней спирта ничего нет, – ввернул свое слово старик завальщик, стоявший наверху эстакады, сложив на животе костлявые тяжелые руки и с хитрой, по-ребячьи озорной усмешкой смотревший на Уварова. – Молоко, оно иной раз скисается, а спирт сроду нет!
Раздался взрыв такого смеха, что Уваров не выдержал и тоже рассмеялся.




































