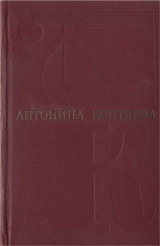
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
– Ведь это старо, то, что вы говорите, – снова заговорила Анна. – И просто дико звучит теперь: у нас чувства и отношения совсем иные.
Ветлугин посмотрел на нее внимательно и сказал:
– Да, это старо… но потому-то и страшно въедливо. Многое можно изменить в жизни: и в отношениях человека к человеку, и отдельной личности к обществу… Но в области отношений между мужчиной и женщиной на первом месте… простите… физиология…
– Опять!.. – произнесла Анна и даже подняла руку, будто хотела защититься от его слов, звучавших для нее оскорбительно. – Вы не правы! Возможность изменений даже в этой области огромна. Любовь без взаимного уважения, основанная на одних иллюзиях, как и чисто физиологическая любовь, просто невозможна для высокоморального, развитого человека. Женственное кокетство, нежная беспомощность… Ох! А духовный облик, а общественное значение женщины? Я не верю, что вы говорите искренне.
Ветлугин замялся.
– Я высказываю то, что наблюдал не раз в жизни, – промолвил он, заметно волнуясь. – То, что происходит в действительности, далеко не всегда отвечает нашим пожеланиям и рассуждениям. Впрочем… Возможно, это не совсем так…
Анна, не дав ему закончить, сбила разговор на деловую тему.
Часть вторая
1
Богатая земля у Кирика Кирикова! Ах, какая богатая бескрайняя земля, такая гористая, что края ее сходятся с небом, точно шов сказочной мастерицы. И каких только трав и мхов нет в лесистых низинах, где пасутся великаны лоси! Ах, лось! Рога у него – крылья: не они ли несут его через кусты и гнилые болота? Как могучий лесной дух, летит он по крутому склону, и горные травы поднимаются за ним, выпрямляемые ветром от его полета.
Богатая ты, богатая и щедрая земля! Ягоды свои и цветы, живое серебро рек и сизые шумящие леса – все отдаешь ты человеку, только были бы у него глаза ястреба и ноги оленя. Но если человек заболел, что делать ему в тайге? И разве плохо иметь на случай болезни и старости постоянный угол?
Кирик стоял на краю поля. Широкое поле… кусок тайги, с которого сняли косматый зеленый мех, а обугленную кожу разодрали железным клыком плуга. Кирик видел, как терзали его землю, и ощущал почти физическую боль. Но веселые девушки его рода нарыли на грядах ямки и закопали в них удивительные круглые корни с белыми глазками ростков. В других местах разбросали тоже незнакомые семена: одни с ресничками, плоские и легкие, другие – словно глаза землеройки, или самая мелкая дробь.
Кирик за всем наблюдал с тяжелым недоверием: земля сама знает, где какие семена посадить, и каждая травка знает свое место.
– Толку не будет, – упрямо твердил охотник.
Сейчас он работал на сенокосных лугах артели. Иногда он заходил в длинные хлева, построенные для поджидаемого скота, осматривал пустые ясли, в которых шмыгали тонкие, грязно-желтые, злые горностаи, и задумчиво качал головой.
«Выйдет толк или нет?..» – гадал Кирик, хотя давно уже слыхал, что у якутов и кое-где на русских заимках по берегам Маи есть целые стада коней и коров. Говорили, что такой конь-олень один может увезти больше, чем четыре эвенкийских оленя. Наслушавшись об этом, Кирик совсем не удивился, когда увидел впервые на Светлом прииске странное животное, толстое, будто медведь, но на высоких ногах, с круглыми, словно березовый нарост копытами, и длинными волосами на хвосте и шее.
– На таком большом можно и десять нарт увезти, – сказал Кирик на русском языке старику Ковбе, допустившему его на конный двор.
Лицо Кирика только раз вытянулось от удивления, когда один конь-олень, серый, как облако, задрал свою безрогую морду и закричал таким пронзительным голосом, что у Кирика задребезжало в ушах. Он даже попробовал схватить гостя за меховой рукав своими большими зубами, но Ковба треснул его по шее и пригрозил:
– Я-я тебя, баловень!
Испуганный Кирик вынул изо рта погасшую трубочку (курить в конюшне старик не разрешил) и произнес давно слышанное, не совсем понятное и потому поглянувшееся ему ругательство.
– Прямо сущая сатана.
А сейчас Кирик стоял, широко расставив ноги, на краю картофельного поля, и выражение недоверия на его лице постепенно сменялось довольной улыбкой: новая трава росла темно-зеленая, сильная. Дальше зеленела светлая полоса чего-то другого. Кирик не узнавал места, еще недавно такого обезображенного. Он поцокал языком, качнулся, медленно пошел по узким тропочкам.
Мелко рассеченная мягкая ботва моркови привлекла его внимание. Он выдернул сразу целую горсть, подивился на желтые корешки-хвостики, отряхнул с них землю о свои заношенные штаны, сшитые из грубо выделанной оленьей замши. Вкус незрелой моркови ему не понравился, он пожевал ее листья, выплюнул и пошел дальше. Он ничего не оставил без внимания; лиловатые черенки свеклы, пахучий укроп, редьку, капусту, еще не завитую в кочаны, матово-сизую, с каплями росы в кудряво-вогнутых листьях. Так Кирик обошел почти половину поля, на зубах его скрипел песок, а на лице застыло недоумение.
Но самое удивительное ожидало его впереди: опустившись в низинку, он увидел председателя артели эвенка Патрикеева. Старик сидел на корточках. Маленькое под меховой шапкой лицо его было опущено к земле. В руке он держал вялые листики редиски и, поглядывая на них, осторожно выщипывал с грядки всю зелень, не похожую на ту, что служила ему образчиком.
2
– Чем ты занимаешься? – воскликнул Кирик. – Разве ты забыл, что сказал шаман о тех, кто пробует рыться в земле?
Старик поднялся, не сразу выпрямляя усталую поясницу, сморщенный, хрупкий и тощий, как пучок ягеля в сухое лето.
– Я проверяю работу женщин, – ответил он и, помаргивая, искоса взглянул на высокого Кирика. – Они плохо вычистили эту грядку. Сейчас они ушли пить чай, а я проверяю и сторожу. Наши ребятишки потоптали вчера две гряды. Ничего еще не понимают. – Патрикеев повертел в пальцах стебелек, взятый им для образчика, и добавил. – Шаман болтал разное, но только слова у него кривые: смотри – трава растет.
– А земля сердится, – упрямо сказал Кирик. – Вчера я спал в вершине Уряха и слышал ночью, как вся она задрожала. С берега в ручей посыпалась земля, а под скалой злой дух два раза ударил в ладоши.
– Это бабьи сказки, – возразил Патрикеев. – Да и девки из нашей артели не все поверят этому. Они больше говорят сейчас о новых платьях да о деревянных домах, где собираются жить и летом и зимой. Даже их неугомонные языки не успевают перемалывать за день то, что видят глаза и слышат уши. Где уж им думать о злых духах? Вчера говорили, что шаман сам не прочь вступить в артель охотников.
– Я тоже зимой пойду охотиться, – негромко, но твердо сказал Кирик. – Только летом можно заниматься разными пустяками, новая трава растет плохая.
– Откуда ты знаешь?
– Я вырывал ее из каждой полосы и, пока дошел до тебя, съел столько, что можно было бы накормить оленя. Нет, я шучу, – поспешил добавить Кирик, заметив испуг на лице Патрикеева, – просто я попробовал немножко, а остальное бросал.
– Теперь ты будешь наказан, – важно объявил Патрикеев и выпрямился под своей большой шапкой. – Ты потоптал гряды… Ты вырвал это… А оно еще не совсем готово.
Кирик готов был рассердиться, но услышал приближавшиеся шаги, глянул через плечо и смутился. К ним шла, играя хлыстиком, русская женщина. Эвенк сразу признал в ней главного приискового начальника Анну Лаврентьеву: он видел, как ездила она на том сером коне, который когда-то хотел укусить его, и относился к ней с большим почтением.
– Он испортил гряды, – тоненьким, противным Кирику голосом сообщил Патрикеев Анне, ткнув пальцем в грудь Кирика. – Он таскал… – И, не найдя подходящего русского слова, Патрикеев так широко развел руками, точно Кирик обошел и вытоптал все поле.
– Он не видел! Он врет! – заорал Кирик, возмущенный ябедой сородича, в нем он еще не привык видеть начальника. – Если я пробовал паршивую траву… эту новую траву, так разве мы работаем у чужих? Разве огород артели не мой огород?!
– Где ты сам работаешь? – спросила Анна, с интересом наблюдая расходившегося Кирика.
– Расчищаю покосы, – сказал он угрюмо, но быстро добавил, желая показать ей, какой он дельный человек, и вместе с тем подчеркнуть ничтожество Патрикеева: – Я получил нынче премию. Самую первую. Сатин и ситец и сто рублей денег.
Анна улыбнулась торопливой похвальбе Кирика, решив, что он испугался и немножко заискивает.
– А если бы Патрикеев пришел к тебе на покос, развел там костер и сжег сено, которое ты накосил… что бы ты сделал? – спросила она, переводя взгляд на морщинистое, безбородое лицо старика председателя.
– Я бы взял его и сбросил вниз головой в речку, – запальчиво, не раздумывая, заявил Кирик. – Пусть бы он пускал пузыри, пока не всплыл, как дохлый таймень.
– Он может сделать с тобой то же за потоптанные гряды…
Кирик опешил, однако быстро нашелся и сказал, путая русские и эвенкийские слова:
– Я не топтал. Я только рвал и пробовал. Пусть старик придет на покос и набьет себя сеном хоть до самого горла. Или унесет сколько может. Сжигать – другое дело. Это злое дело!
Анна всмотрелась в обиженное лицо Кирика, и ей стало весело: перед ней стоял человек, перешедший прямо из патриархального родового коллектива в ее большую трудовую семью.
– Ты должен беречь огород, как и свой покос. Если работа огородников не принесет артели дохода, ты получишь меньше на трудовой день. И каждый член артели получит меньше.
– Я могу посадить все корни обратно, – с угрюмым снисхождением предложил Кирик, начиная понимать, что поступил неладно, и только из упрямства не сознаваясь в этом.
Патрикеев устало переступил с ноги на ногу.
– Оно все равно не будет жить. Женщины садили вчера то, что выдергивали по ошибке. Однако это зря. Оно сварилось на солнце. Ты совсем еще молодой и глупый, Кирик!
Тогда «молодой» Кирик, которому едва перевалило за пятьдесят, неожиданно развеселился и, показывая в усмешке черные от табака зубы, сказал Патрикееву:
– А ты старый ворон! И, видно, ты одряхлел, если твои глаза не отличают нужную траву от лишней. В другой раз не берись сторожить поле. Слепой сторож – это ружье без дроби.
Очень довольный своей остротой и тем, что отомстил старику Патрикееву, Кирик снова пошел вдоль гряд, тонконогий и стройный, как лесная сушина.
3
Успехи эвенкийской артели вызывали у Анны чувство гордости. Радовало ее и хорошее любопытство кочевых охотников, каждый день приезжавших посмотреть на оседлое хозяйство. Ей хотелось втянуть в работу всех их, праздно болтавшихся сейчас в тайге. В самом деле, кому, как не охотникам, проводить лето на огородах!
Поднимаясь на террасу своего дома, Анна вспомнила волнение Патрикеева, бранившего Кирика за потраву, и Кирика, который считал себя полным собственником артельного добра во всем, что ему потребуется, и сама снова по-хорошему взволновалась. Семья Кирика заняла половину новой избы, но он, придя домой с покоса, не лег спать в этой избе, а устроил себе в кустах, рядом с избой, чум-шалашик.
«Ах, чудак! Милый, смешной чудак!»
Анна присела на пороге открытой двери и подумала: «Теперь надо заняться постройкой овощехранилищ. Для капусты можно устроить засольные ямы-чаны прямо в земле, зацементировать их, устроить над ними навесы. Сегодня же дам распоряжение».
Она представила тысячи нитей, связавших сельскохозяйственную артель с предприятием, а подумав о предприятии вообще, остановилась мыслями на руднике. Она очень тревожилась за участь своего проекта. «Вдруг он не будет принят, а примут Ветлугинский! Разумеется, несостоятельность того проекта скажется сразу на практике. Но ведь придется опровергать, доказывать, затягивать время и выполнение программы… Может быть и хуже: обвал в руднике, гибель рабочих…»
Директора залихорадило от волнения.
– Нет, – сказала она, отгоняя страшные мысли. – Мы ведь все объяснили почти наглядно.
Она стянула сапожки, отбросила их и насторожилась, услышав голос возвращавшейся из садика Маринки.
– Закрой глаза и открой рот, – говорил Юрка.
– Не закрою и не открою, – почему-то сердито ответила Маринка. – У тебя руки грязные, да еще: «Рот открой!» Дай я сама возьму.
– Все бы ты сама! Да уж ладно, бери. Придешь играть?
– Приду, – шепелявя занятыми губами, обещала Маринка. – Мне теперь можно. Папа сказал: можно. Папа мой сознательный.
– А мать?
– Она? – Девочка помедлила с ответом. – Она везде сознательная, а мне так говорит: «Запру тебя на замок».
Маринка подошла к ступенькам веранды, взглянула вверх, вздрогнула, заулыбалась и, сразу позабыв о Юрке, побежала к матери.
Анна обняла ее, любуясь, слегка отстранила от себя: выражением лица, особенно глазами и постановом светлой головки она повторяла Андрея, только по-детски, по-девичьи нежнее. Маринка смотрела вопросительно и все улыбалась, довольная встречей и тем, что мать попросту, как маленькая, сидела на пороге.
– Ты сегодня никуда не пойдешь?
– Пока нет. Вечером пойду в контору, а сейчас мы с тобой можем отдохнуть немножко.
– Пойдем на гору, погуляем…
Анне совсем не хотелось гулять сразу после поездки. Да и ночь она опять провела за рабочим столом, еще раз проверяя детали своего проекта. Веки ее припухли. Она могла бы вздремнуть, сидя даже вот здесь, на пороге, но дочка смотрела на нее так просительно, что невозможно было отказаться.
– Если тебе очень хочется, пойдем!
– С мальчишками?
– Хорошо, возьмем и мальчишек. Видишь, я тоже немножко сознательная.
– Ты подслушивала! Ты подслушивала! – закричала Маринка весело, но вся покраснела. – Вот ты какая!
– Вы громко разговаривали, а я не глухая! – с этими словами Анна поднялась и повернула голову на шорох шагов по дорожке.
4
Голубое платье мелькнуло сквозь зеленые листья, и по лицу Анны прошла тень. Она обняла дочь за крепкие плечики, прижала к себе, точно хотела спрятать, но Маринка, шаля, откинулась на ее ладони, посмотрела снизу на Валентину, поднимавшуюся по ступенькам, и, смеясь, перегнулась так, что светлые ее волосенки, отлетев со лба, запрокинулись вместе с нею. Анна, перехватывая руками, наклонилась тоже, пока Маринка не взглянула в ее лицо совсем близко: на нем было незнакомое выражение стыда и страдания. Девочка притихла, перестала шалить. Затем обе выпрямились и посмотрели на гостью.
Валентина стояла, опустив руки, губы ее слабо шевелились, пытаясь сложиться в улыбку, но улыбка не выходила. Анне эта улыбка показалась виноватой, а Маринке вдруг стало жалко Валентину Ивановну, потому что она одна: никого у нее нет, кроме Тайона, и тот – собака, да еще такая собака, которая никогда не сидит дома.
Желая развлечь доктора, Маринка прильнула к ней, едва они прошли в столовую, и шепнула:
– Пойдем, я покажу тебе своих мальчишек!
– Вот звереныш! – Анна так рассмеялась, что холодок встречи сразу растаял. – Ты думаешь, Валентине Ивановне интересно смотреть на твоих чумазых мальчишек?
– Они вовсе не чумазые! Юрка – он просто такой черный и никогда не отмывается. Он подарил мне вчера телефон. – С этими словами Маринка вихрем сорвалась с места и вытащила из-под дивана спичечную коробку, за которой на длинной нитке выкатилась пустая катушка. – Прижми коробок к уху, – попросила она Валентину. – Я буду говорить.
Она завертела катушку, поглядывая то на мать, то на гостью.
– Что-то не получается…
Но в комнате послышалось бойкое постукивание дятла, и по лицу Маринки разлилось сияние: крохотный деревянный молоточек стучал в спичечной коробке, Валентина притиснула ее к уху, и тогда там, глухо вибрируя, загудела еще медная струна. Похоже, дятел и оса устроили концерт.
Анна исподлобья смотрела на Валентину. Та слушала сначала серьезно, с полуоткрытым ртом, а потом заулыбалась удивленно и радостно. Анна вспомнила, что она сама вчера, в ожидании чего-то, возможно и подвоха ребяческого, открывала рот, и так же, наверное, моргала и удивленно улыбалась. И Андрей улыбался, пока в коробке не застучало слишком громко, – тогда он нахмурил брови, но весело сказал Маринке:
– Говорите, пожалуйста, потише, а то я могу оглохнуть. – И девочка от этих слов была в полном восторге.
– Ты пойдешь с нами гулять? – спросила она Валентину, продолжая крутить катушку. – Мы с мамой пойдем вместе с мальчишками.
Когда они втроем вышли из дому, Маринка сразу побежала вперед, остановилась на углу, придерживаясь за выступ террасы, и, оглядываясь, не без гордости сказала:
– Вот они!
«Они» сидели рядком на разрытой завалине: черный жучок Юрка и Ваня – белоголовый крепыш с добрыми, круглыми глазами.
«Она будет кокетка», – решила Валентина, любуясь самодовольным личиком Марины.
«Нехорошо, что она распоряжается этими мальчишками, – подумала Анна. – Мы все-таки очень балуем ее. Надо иначе…»
Но как «иначе» – она не нашлась и перевела взгляд на Саенко.
Валентина шла, осматриваясь по сторонам, и вдруг пронзительно засвистела, словно сорванец. Ребятишки закричали, радостно замахали руками: на гору во всю собачью прыть мчался Тайон, колыхая мохнатым кольцом хвоста. Ярко чернела на светло-серой морде тюпка носа, розовый язык вываливался из белозубой пасти.
– Красивый он, правда?
– Хорош! – сказала Анна. – Сейчас мы поднимемся к осиновой рощице, – продолжала она, стараясь преодолеть чувство внутреннего напряжения. – Мне всегда не нравился осинник, а прошлой осенью поднялись туда с Маринкой и не могли налюбоваться. Не хотелось уходить из него… Особенно когда нашли гриб. Большой, рыжеголовый, на редкость крепкий подосиновик на толстой ножке.
– Вы изжарили этот гриб?
– Конечно. – Анна задумчиво улыбнулась. Строгие черты ее точно осветились и, снова став серьезными, сохранили тепло улыбки в прищуре глаз и углубленных уголках рта. – Очень люблю ходить по лесу. Идти одной, чтобы рядом никто не шуршал и не мешал думать.
– И собирать грибы…
– Нет, я тогда совсем забываю о них. Если только случайно набредешь, спохватишься… Посмотришь, как сидят они во мху, дружные, прикрытые желтыми травинками, и так уютно покажется в лесу. А кругом тихо… В каждой веточке важность такая… Посмотришь, вслушаешься и почувствуешь всю красоту человеческого сознания, благодарность какую-то к самому себе за то, что живешь. Ночью вот еще на озере… Вы бывали ночью у воды… так, чтобы одной?
– Нет. Я боюсь темноты и ни за что не осталась бы одна в пустынном месте. Я люблю, когда шумно и весело. Музыку обожаю. Когда я слушаю Моцарта, например, или Чайковского, у меня все дрожит внутри, и мне хочется сделать что-нибудь необыкновенное.
5
Осиновая роща росла в небольшой лощинке на южном склоне горы. Вся она, от верхушек до нижних ветвей переливала сизым блеском: плотные круглые листья, свободно болтаясь на слабых черенках, точно рвались улететь с неподвижных деревьев. Жидкие тени их текли по голубым стволам, по высокой траве, редкой и ровной. Из травы торчали кое-где угловато-обломанные камни, покрытые зеленой плесенью мха.
– Грустно здесь! – сказала Валентина. – Ваш лес напоминает мне покойника, у которого еще растут ногти и борода.
Анна удивленно повела взглядом:
– Вы бы посмотрели, как горит и сверкает эта роща осенью!
Они сели на опушке, откуда виднелись грузные шахтовые копры, окруженные сетью желобов и канав.
– Я очень интересуюсь проектом вашей новой системы на руднике, – сказала Валентина. – Это будет страшно, да?
– Нет, мы постараемся, чтобы было нестрашно, – сухо возразила Анна. И ей сразу представилось, с каким ожесточением говорит о ее проекте Ветлугин. – Все построено на строгом расчете.
Теперь она стала скрытнее, сдержаннее и не могла делиться с Валентиной тем, что так волновало ее; развал в работе, взыскание по партийной линии, мерещившиеся в трудные минуты, были бы для нее тяжким приговором.
Левой, правой!
Левой, правой!
Барабан уже дырявый… —
кричала Маринка, бегая со своими приятелями вокруг трухлявого пня. Потом Юрка сказал что-то о букашках, и все трое стали раскапывать пень.
– Моему сыну уже исполнилось бы шесть лет. Он рос славный, смуглый, румяненький. – Валентина помолчала и с тоской добавила: – У него были такие большие руки! – Она опять умолкла, глядя на игравших детей, потом тихо заговорила, оживленно и лихорадочно светя глазами: – Вы знаете, однажды в детстве я отказалась петь на елке. Мать пошла за мной в другую комнату. Отчим тоже пришел – грузный, красивый, пьяный. Он стал издеваться над нами обеими, и тогда мать (я никогда не забуду этого!)… она заплакала, ударила меня, схватила одной рукой за рот и щеки, другой стала душить. – Яркие краски в лице Валентины поблекли, омраченные воспоминанием синие глаза погасли и сузились. – С тех пор у меня осталась только отчужденность к матери. Но когда родился ребенок, я смягчилась и многое простила ей. Ведь нас у нее было двое от первого брака… Мой муж тоже не любил детей… маленьких особенно, но даже он гордился сыном. Правда! Это был такой славный ребенок!
– Вы… разошлись?
– Да. Он ужасно грубо и пошло ревновал, а сам позволял себе все, требовал, чтобы я бросила работу, оскорблял меня на каждом шагу. Я слишком остро все переживала, и мы расстались.
– А ребенок? – напомнила Анна, проникаясь живым участием.
– Умер от скарлатины.
– Бедная, – прошептала Анна, кладя руку на ее плечо. Я тоже схоронила первого ребенка, знаю, как это тяжело. А у вас вся семья развалилась… С ума сойти можно!
– Нет! – сказала Валентина со странной улыбкой. – Нам только кажется, что мы с ума сойдем, а приходит горе, и все переносишь. Только остается в душе провал… пустота, в которую боишься потом заглянуть, как в заброшенный колодец.
6
Барак Чулкова стоял среди мелколистных кустов березового ерника. Раскиданное по кустам, сохло на ветру белье рабочих, застиранное до серости.
– В тайге и так случается, что безо всякой стирки с плеч сползет, – сказал по этому поводу разведчик у костра за бараком.
И пошел разговор о трудных переходах по тайге, об открытиях и временах золотых лихорадок. Чем тяжелее были испытания, тем с большей приятностью вспоминали о них.
Разведчик Моряк, придерживая подбородком задранную рубаху, показывал сизые рубцы, стянувшие кожу на груди. В сумерках, при неровном свете костра, выпуклая грудь его казалась татуированной.
– Что это у тебя? – спросил подошедший с Чуйковым Андрей.
– На пороге садануло, когда я возвращался с Учурской экспедиции в горах Бонах на реке Альгаме. Разбился плотик, и так водой меня шарахнуло, как из пушки. Наглотался вволю. Выловили ниже порога красивого: кожа и рубаха лохмотьями висели, и вето чушку себе расквасил. Носом-то уж об другой камень хлобыстнуло.
– А со мной такой был случай…. – перебил колоритную речь Моряка другой разведчик, скрытый белыми клубами дыма, отгонявшими полчища комаров.
– Теперь начнут вспоминать! – сказал Чулков Андрею, тоже примащиваясь к костру: идти в барак засветло не хотелось. – В Бонах я сам бывал, когда ходил с поисковой партией. Богатейшие места – что пушнины, что руды! Да приступу нет. Мраморные скалы – глаз не оторвешь. Козы – за каждым камнем. Горные бараны пуда по четыре весом, одни рожищи фунтов на пятнадцать… Такая туша тяжелая, а ведь на полном скаку замрет над обрывом. Только бы самую малость зацепиться копытцами. Постоит, прицелится, да как махнет вниз, на ту сторону ущелья. И пошел сигать со скалы на скалу. Остановится, оглянется – и опять летит! Завидно даже. Ну куда я против него: чуть оступись, и готов…
– На скалах, правда, завидно, – сказал Андрей, улыбаясь, – особенно когда повиснешь между небом и землей.
– Так-эдак! – нескладно, но горячо подхватил Чулков и, в свою очередь, подогретый воспоминаниями, засучил рукав, показывая сбитый когда-то локоть. – Повисишь, да и сорвешься… Вот, сажен десять проехал на локтях и коленках, да с вывихнутой ногой…
Андрей сам мог рассказать немало, но он был задумчив и молча присматривался к своим людям. Каждого из них отметила дикая природа, с которой они сталкивались в течение долгих лет. Давний спор между ними и ею продолжался, не ослабевая, а ожесточаясь с годами. Пустынная земля как будто сознательно выживала пришельцев, пугала их зверями, засыпала им путь двухметровыми сугробами, превращавшимися по весне в жидкую кашу, изматывала бездорожьем, а они все переносили: тонули и выплывали, плутали среди гор, вязли в болотах, голодали, но, едва отдохнув, принимались за то же. И они еще любили ее – эту суровую землю!
Рассеянно слушая чей-то рассказ об открытии золота на Алдане, когда старательская вольница совершала сорокадневные голодные и холодные переходы по тайге, Подосенов припоминал события прошедшего дня.
Его вызвал со Светлого Чулков, обрадованный рудной жилкой, вскрытой в одной из канав. Жилка вправду оказалась интересной. И хотя Долгая гора уже не раз обманывала ожидания Чулкова и Андрея, открытие обнадежило их. Чтобы дополнительно разведать жилу на глубине, на канаве, как и прежде в таких случаях, заложили шурф.
– В третий раз будем пробивать, – со вздохом обратился Андрей к Чулкову, прерывая его новый рассказ, тоже из алданской эпопеи.
– В этот раз не ошибемся, – ответил Чулков, сразу проникаясь тревогой главного геолога.
– Послезавтра картина станет ясной, – сказал Андрей, представляя себе сеть земляных работ на горе.
– Не раньше, Андрей Никитич, а может, и затянется дело: скала ведь сплошная – подрывать придется.
– Дольше ждали…
– У меня предложеньице есть, – тихо заговорил Чулков, придвигаясь поближе, – я не хотел все сразу… Объявился здесь один из бывалых старателей-золотничков, говорит, что амбарчик знает. Верст за тридцать.
– Километров, товарищ Чулков! – весело поправил Андрей. – Когда я вас отучу от старинки? Значит, амбарчик открыт!.. И надежный человек?
– Кремень!
– Ну-ка, давай его сюда.
«Кремень» оказался мужчиной лет сорока восьми, с шершавой бородкой, с русыми патлами, торчавшими из-под войлочной шляпы. Сбористые шаровары его, спадавшие пузырями на коричневые краги, были сшиты не из темного трико или молескина, именуемого таежниками то ли за крепость, то ли за черный лоск чертовой кожей, а из светлой бумазеи с мелкими букетами синих и красных цветов. Поверх распоясанной рубахи накинута старая, чудом державшаяся на одном плече вытертая до плешин меховая дошка.
Он был крепко навеселе, но глубоко посаженные глазки его горели бойко и ярко, как у медвежонка.
– Права на вольную разведку имеет, – шепнул Чулков Андрею и ободряюще кивнул своему гостю.
Но тот совсем не нуждался в ободрении: даже в таком шутовском наряде он сумел внушить разведчикам если не уважение к себе, то сочувствие и живой интерес.
7
– Закурил!.. Четвертый день уже, – заговорил он, подходя к Андрею. – Вылетел из тайги бос и наг. Вот оперился по мере возможности. – Он оглянул себя не без удовольствия, и в то же время озорные искорки блеснули в его глазах. – Позвольте представиться – мещанин Мышкин, как теперь принято выражаться, из прочих, вроде бы вольный кустарь-одиночка. Отец мой был препровожден в сибирские края царским этапом за фальшивые деньги. А я, став на возрасте, решил посвятить себя благородному металлу. Дело трудное, но завлекательное и до святости чистое. – Он исподлобья взглянул на Андрея и неожиданно серьезно сказал: – Вы не обращайте своего внимания, что я много треплюсь, – намолчался. Три месяца в тайге в молчанку играл.
– Вы не из нашего района отправились? – спросил Андрей.
– Нет, я оторвался в пути от поисковой партии, но туда, – подчеркнул он последнее слово, – направлялся специально. Я раньше в Верхне-Амурской компании служил разведчиком, и мы в эти места тоже заглядывали. Решил кое-что проверить.
– Ну и как?
– Все в порядке. Посмотреть и вам не мешало бы, товарищ инженер…
– Андрей Никитич, – подсказал Чулков.
– Я помню, что Андрей Никитич. Богатства особого не обещаю, но не прогадаете. Тем паче не дальше сорока километров. И старая ороченская тропа есть.
– Пойдем – пятьдесят окажется, – пошутил Андрей.
– А кто их тут мерял! Якуты за двести верст в гости чай пить ездят.
«Надо побывать, – решил Андрей. – Возьму шурфовщика да промывальщика, продуктов, чтобы в случае надобности оставить им на неделю. Когда вернусь, Чулков уже проведет дополнительную разведку на жиле…»
Мысль о том, что они приближаются к значительным открытиям на Долгой горе, все время волновала Андрея.
– Поезжайте, а мы за это время выясним, – сказал ему Чулков после ужина. – Зачем вам здесь томиться: проведем сами, как полагается. Может, и вправду амбарчик-то у Мышкина богатенький. Двух рабочих смогу вам дать. Эх, жалко, Егорыч болеет, вот бы его туда!.. Грамотой не силен, но для самостоятельного задания по россыпной разведке лучше не сыскать. Честный, работяга, лоток у него в руках так и играет. Убежденный разведчик. – Чулков обдал Андрея крепким махорочным дымком – прикуривал от его папиросы, – потом сказал с недоумением: – Такой здоровяк был – и свалился. Неужто и вправду от водки с горчицей? Перцу я ему не особенно много сыпанул: только что зацепил на ноже. Врачи – они любят добрых людей в сомнение вводить. На вот, мол, тебе, терзайся. А там, где самим слабо, помалкивают. Почему бы, к примеру, не сказать человеку: дескать, жить тебе осталось крайний срок – неделя?
– Ему тогда тяжелее будет, – возразил Андрей, устраиваясь на нарах в углу, рядом с Чулковым.
– Это уж мое дело: тяжелее или легче мне будет, зато я свои последние денечки проведу с толком.
– С каким толком?
– Таким… что я бы велел вынести себя на самый шум, где народу полно, на волю, и все бы глядел да слушал, дышал бы так, чтобы про боль забыть. А может, и умереть забыл бы. – В бараке, набитом людьми, раздался смех, Чулков всмотрелся в темные углы и добавил: – Ведь если доктора молчат, я и пролежу один и проохаю, пока онаменя не придушит.
– Нет, лучше не знать, – сказал молодой голос.
– Как хочешь, – серьезно согласился Чулков. – Помирай в одиночку.
В бараке снова раздался смех, хотя многие из рабочих, находившихся в нем, не раз уже глядели в лицо смерти и яростно сопротивлялись ей.
Смеялся и Андрей. Он очень любил жизнь и землю, но смерти не боялся и не задумывался о возможности небытия. Он признавал эту неизбежную необходимость в будущем – признавал довольно спокойно, – а пока жил, дыша полной грудью, стараясь сделать содержательным каждый день своей жизни.
– Растревожился я тогда очень, – говорил рядом Чулков. – Ну-ка, думал, умрет Егорыч, с какой бараньей совестью я жить останусь? А потом встретил Валентину Ивановну в больнице, и сразу отлегло на душе. Ка-ак она меня успокоила в этот раз! Будет, мол, жить ваш приятель. Руку мне подала так, будто сроду мы с ней знакомы были.
– Красивая она… – явно стесняясь, сказал за спиной Андрея молодой разведчик Мирский.
– Митек наш прямо влюбился!.. – откликнулся другой рабочий.








