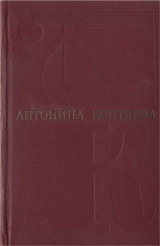
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Но тут она услышала протяжный, задыхающийся, захлебывающийся вой, раздавшийся из ближнего барака.
22
Придерживая скользкую клеенчатую сумку, Валентина побежала. Она не знала, что у нее еще найдутся силы бежать.
– Воды горячей! Руки! – говорила она женщине, которая засуетилась около нее, бросив возню у печи под навесом.
«Как будто успела», – думала Валентина, на ходу стягивая жакет.
Она сбросила сапоги и чулки, отжала и повязала косынкой волосы.
Роженица лежала на нарах, на сенном тюфяке, запрокинув потное, заострившееся лицо, и глухо стонала.
– Успокойтесь, мамаша, все будет в порядке, – громко сказала Валентина, подавляя тревогу: два существа трепетали перед нею, может быть, в последнем дыхании. – Сердце вот… неважно! – «И даже хуже, чем неважно», – отметила она про себя, одним прикосновением определяя пульс. – Сейчас я вас подбодрю, – уже увереннее говорила она, радуясь уцелевшему шприцу и лекарствам и тому, что женщина жива и можно бороться за ее жизнь.
Остановившийся взгляд роженицы стал осмысленнее.
– Доктор! – сказала она, цепко хватаясь за руку Валентины. – Помираю я…
– Погоди, рано еще. Тут мальчишка или девчонка на белый свет просится.
– Мальчишка! Господи, разродиться бы! – И снова приступ тянущей, разрывающей боли исказил лицо женщины.
– Кричи! Ничего, кричи! Не стесняйся! – раздавался над нею голос, звучавший где-то на краю черной ямы, в которую словно проваливалось все ее измученное тело.
Этот зовущий голос тормошил, будил гаснувшее сознание; выталкивал роженицу из темных провалов, возвращал ей остроту боли, и страх, и желание избавиться от этой боли.
Время шло. Валентина не отходила ни на минуту, помогая и матери и ребенку. Забыв про усталость, она следила за общим состоянием рожавшей женщины, поддерживая его, ловя каждое западание пульса. Ее руки умелого акушера были чутки, подвижны, сильны, и, когда они подхватили наконец выпроставшееся посиневшее тельце ребенка, в них оказались новые силы. Они быстро освободили его шейку от петли короткой пуповины, нажимали, массировали слабую грудку, откачивали, пошлепывали, чтобы растормошить остановленное дыхание.
И вот в избе, освещенной керосиновой лампой, которую держала еще безыменная помощница врача, раздался крик новорожденного.
– Ага, сознался! – сказала Валентина, награждая ребенка добавочными шлепками, и вдруг села на скамью, словно подкошенная, блаженно улыбаясь, ощущая на ладонях живую тяжесть, трепетание, теплоту введенного ею в мир человеческого существа.
– Как будто я сама тебя родила! – говорила она, обмывая и пеленая его в простынку из старенького, мягкого ситца. – Ишь ты, какой ловкий, сразу решил пойти ножками!!
Она положила ребенка возле матери, уже тянувшейся взглянуть на него, и, сразу усталая, притихшая, продолжала свое дело акушера.
– Теперь чайку? – сказала весело помощница, сожительница по бараку, когда все было приведено в порядок.
– Давайте чайку!
– Сначала ужинать и водочки для согрева?
– Можно и водочки.
Валентина подошла к полуоткрытой двери барака (е нем жарко топилась железная печь) и выглянула в темноту ночи. Дождь продолжал идти, и, разглядев зубчатую стену черной тайги на горах, Саенко зябко повела плечами: могла бы все еще плутать там.
– Где мой провожатый?
– Он у печки, под навесом, – сказала Анисья – так звали помощницу. – Семка я его позову. У нас все мужики разбежались ст такого случая.
– Моего-то мужика позовите, – попросила родильница, услышав разговор.
– Смилостивилась наконец! – Анисья рассмеялась. – А какими словами ты его ругала? Говорила: не подпустишь больше. Ох, все мы бабы такие. Крута горка, да забывчива!
Она шагнула было за порог, но Валентина схватила ее за локоть и, подаваясь за нею под дождь, сказала шепотом:
– Там не муж ее, это другой!
Анисья остановилась в изумлении.
– То-то он и промолчал, когда я его на бегу проздравила! А где ж ее-то мужик?
– Да он… на Светлый вернулся. Забыл там что-то. А я одна немножко заблудилась, – солгала Валентина, с облегчением вспоминая, что ничего не успела рассказать Дементию.
23
Утром молодого врача разбудил плач ребенка.
– Аа-а! – напевала, шикала над ним Анисья. – Вишь, горластый какой! Певун барахольный! – И еще что-то наборматывала она нежно и невнятно.
Чувствовалась в ее мягком голосе ласка женщины, испытавшей материнство. Потом она заговорила с родильницей, и обе тихо смеялись.
– Взял? – спрашивала Анисья.
– Взял… Сссе-ет!
– Ишь ты!
Валентина слушала, смежив веки, и улыбалась про себя, затаенно. Тело ее было точно связано усталостью. Ногами она боялась шевельнуть. Кто-то маленький, легкий, пушистый пристроился у нее на подушке: она осторожно повернула голову и увидела у своей щеки дремлющего серого котенка с гладкой шерсткой и розовым носиком. Потревоженный ее движением, он тоже приоткрыл глаза и начал петь – урчать – и даже потрогал лапкой ее лицо, может быть, нечаянно, потягиваясь. Но Валентина приняла это за ласку.
Она вспомнила, как ночью котенок, играя, влез под одеяло и начал цапать ее за подошвы, а у нее недостало сил сбросить его с постели. Анисья сама поймала озорника и унесла к себе.
– Проснулась? – спросила она, подходя к нарам, где устроила на ночлег врача. – Брысь ты, паршивый! – крикнула она на котенка. – Вот привадила спать с собой – он и лезет.
– Он мне не мешает. Я люблю кошек, – сказала Валентина.
– Так… животное! – неопределенно промолвила Анисья и добавила весело. – Одежу твою я просушила и утюжком погладила, а парню рубахи вальком катала – как лубок, высохли. Рано ушел. Славный какой парнюга!
– Дождь идет? – спросила Валентина и, сняв чужую рубашку, взяла свою из стопки одежды, сложенной на чистом фартуке Анисьи.
В окна, по обычаю таежных новостроек затянутые ситцем, ничего не было видно.
– На улке солнышко. Теплынь. Опять парит, – говорила Анисья, собирая на стол и с любопытством посматривая на то, как одевалась Валентина. – Ишь ты, куколка беленькая! – заметила она с простодушным восхищением. – А муж у тебя есть?
– Нет, – сказала Валентина, невольно краснея.
– Что же так?
– Умер…
– Жалко. Ну, ничего, молодая. Другого найдешь. Мой-то мужик пришел утром – порадовался на чужую прибыль. Все, которые здесь живут, приходили уже. Иду-у-ут поодиночке! Хоронить думали Марфу, ан тут новый человек объявился.
Валентина оделась, но босиком (надеть сапоги она не решилась), осторожно ступая по земляному полу, пошла на улицу умываться.
Там и вправду парило: воздух, как в теплице. А лес распушился от влаги, а сочные травы так и клонились к мокрой земле. Все живое нежилось, расправляясь под горячими лучами солнца.
– Серы я натопила, – говорит неугомонная Анисья и тоже босиком, легко ступая, подходит от печи с железным листом – жаровней – в руках. – Печка у нас богатая, да вот опять мужики по-своему, по-приисковому, не в жилье поставили. И в дождь и в мороз тащись с булками на улицу. Печники-то липовые – в избе боятся ставить.
В жаровне налита вода, сверху решеткой лучины, на лучинах куски лиственничной коры, пахнущей смолкой.
– Хорошая сера. Вот попробуй! – Анисья сбрасывает кору, лучинки и обрывает от натопившейся в воду массы кусок светло-желтой тянучки.
Валентина «пробует» серу: она жуется, как мягкая резинка, липнет немножко к зубам, но вкус и запах удивительные.
– То-то! – говорит довольная Анисья.
– Где вы ее взяли?
– С листвянок, какие покорявее. Вот Марфин мужик притащил. – Анисья кивает на кучу сырых после дождя дров, сваленных у барака. – Куда он сам-то запропастился? Чего забыл на Светлом? Должно, загулял с горя: все равно, мол, помрет баба. Шибко он жалеет ее.
«Действительно, куда он запропастился?» – с щемящей тревогой подумала Валентина. Это было единственное, что беспокоило ее сейчас.
Она взглянула в ту сторону, откуда пришла с Дементием, и обрадовалась: легкий на помине, с горы спускался вчерашний старатель, таща в поводу ее лошадь, сильно хромавшую.
Он тоже был изумлен при виде врача, а когда взглянул на сына, то забыл кряхтеть и охать, а только морщился, пока Валентина вправляла ему вывихнутую руку.
– Медведь… Должно быть, спал у тропы, за корягой. Ка-ак рявкнет – да бежать. Ну, и кони схватились, – рассказывал он, поглядывая то на своих женщин, то на доктора. – Когда меня из седла вышибло, не помню. Сначала вроде вдарило чем-то… Память отшибло, а потом я в кусты уполз и под дождем до свету лежал. Утром одыбался – поднялся. Ни коней, ни доктора. Пошел было на Светлый, дошел до косарей. «Нет, говорят, никто обратно не был ни вечером, ни ночью». Я и повернул к себе на Утинку… Твою хромушу у речки поймал, на ней переехал по броду, а наш Гнедко, должно быть, на утинские покосы удрал.
– Платок мой на развилке видели? – спросила Валентина. – Я ведь заблудилась… Потом шла по той же дороге, но снять забыла.
– Нет, не видал. Такая буря ночью была – на тропе целые завалы: листу набило и веток, и какие выворотни лежат!
24
Андрей оторвался от книги и рассеянно взглянул на дочь. Ее круглая спинка с переложенными накрест лямочками передника, и пухленькая шея задержали его взгляд.
«Уже большая она!» – подумал Андрей, глядя, как ползала Марина по полу, поднимая то книжку, то исчерканный лист бумаги и все бормоча что-то озабоченно.
Один из каблуков ее туфель был стоптан, и это особенно тронуло отца.
«Ботинки стала изнашивать!» – сказал он мысленно с гордостью и живо представил себе, как нянчил ее, спеленатую и красненькую, как она корчилась у него в руках и вертела головкой, требовательно плача, когда хотела есть.
Уговаривая ее, он наклонял к ней лицо, и она торопливо хватала его за щеки беззубым ищущим ротиком.
«Тогда я брился прежде всего для нее», – вспомнил Андрей и улыбнулся.
– Ты что смеешься? – спросила Маринка, поднимаясь с полу. Она подошла к отцу, положила руку на его колено, другой, с резинкой, зажатой в кулаке, обняла его локоть. – Я тебе не мешаю, правда?
– Правда.
– Мы с тобой вместе работаем.
– Да, да, – произнес он уже снова рассеянно и, не обращая внимания на ее деловую возню, уткнулся в книгу.
Потом он взял ручку, стал что-то записывать. Маринка бросила рисовать, долго молча наблюдала, как под его пером возникали на бумаге рваные цепочки. Если закрыть глаза, то похоже, будто кто-то совсем маленький суетливо бегает по столу, нарочно шаркает подошвами.
Девочка тихонько приоткрыла один глаз, потом другой, широко открыла оба. На столе уже тихо, и вечная ручка лежит смирно, уткнувшись в свой неровный след.
– Что это вас не видно и не слышно? Вы забыли, что сегодня выходной день? – спросила Анна, появляясь на пороге.
Она недавно вернулась с рудника. Густые, еще влажные ресницы ее были особенно черны, и лицо молодо румянилось после ванны: под землей приходилось путешествовать и в подъемной клети, и ползком, на четвереньках.
– Может быть, мы совсем отменим выходные дни? – пошутила Анна, входя в комнату.
Маринка быстро взглянула на отца, но, видя, что он улыбается, сообщила радостно:
– Он исписал сто листов. Я ему совсем не мешала.
– Валентина Ивановна сейчас заходила… – Анна положила руки на плечи Андрея, тихонько поцеловала его в густые волосы. – У нее сегодня день рождения. Звала на пирог и на чай со свежим вареньем из жимолости.
– И я… И меня?
– О тебе особого разговора не было. Ты знаешь, я не люблю, когда маленькие ходят за взрослыми по пятам и лезут со своим носом в серьезные разговоры.
– Я не буду лезть с носом, – пообещала Маринка с таким видом, точно отказ от участия в серьезных разговорах был для нее большим огорчением. – Я буду сидеть и молчать целый день.
– Ну, это положим!.. Вряд ли ты усидишь на месте хотя бы с полчаса.
– Папа! – Маринка мигом перебралась со своего стула на колени отца. – Милый папа! – Она обхватила обеими руками его голову, прижимала ее к своему лицу, ерошила его крупные мягкие кудри и повторяла умоляюще. – Папа, ну пожалуйста! Папа!
– Просто не знаю, взять ее с собой или не стоит? – сказал Андрей совсем серьезно, высвобождая голову из цепких детских ручонок.
– Какой ты недобрый! Я тебе не мешала и туфли принесла, и… я плакать буду.
– Поплачь немножко, – разрешил Андрей, смеясь.
– Нет, я много буду плакать! – И глаза Маринки заволоклись слезами.
Андрей просительно взглянул на жену.
– Хорошо, возьмем, – сказала Анна и, чтобы оправдать свою уступчивость, добавила – Клавдия тоже хотела идти в гости. Надо отпустить ее, а дверь закроем на замок.
25
Выйдя из дому, они увидели Уварова. Он шел в русской рубашке, опоясанной крученым поясом, и издали улыбался, покачивая головой.
– Вот и навещай их после этого! Кое-как выбрал время, а они всей семьей сбежали.
– Идем вместе, – предложила Анна. – Мы к Валентине Ивановне.
– Неудобно, – возразил Уваров, сдержанно здороваясь с Андреем. – Знаешь, ведь незваный гость… Да еще хозяюшка такая… щепетильная – шик-блеск!
Анна вспомнила разговор в осиновой роще о семейной драме Валентины и сказала с неожиданной горячностью:
– Нет, Илья, ты ее совсем не понял. Она не мелочная.
Уваров немного смутился, наклонился к Маринке:
– Как ты думаешь? Идти мне с вами или нет?
– Пойдем! Валентина Ивановна сварила варенье из жимо… жимолости. А что мы подарим ей? – вдруг заволновалась Маринка. – У нее ведь рожденье.
– Правда, нужно купить что-нибудь, – сказала Анна, удивляясь, как это ей самой не пришло в голову.
– Зайдем в магазин, – предложил Андрей.
– Мы купим ей конфеты, – суетилась Маринка, перебегая на его сторону, – с такими серебряными бумажками. Или чашку, как у мамы.
В магазине они долго ходили от прилавка к прилавку: конфеты были только дешевые, а купить туфли или блузку всем, кроме Маринки, показалось неудобным.
– Я знаю что! – крикнула она, припоминая. – Мы купим ей в ларьке… прибор. Красивый прибор с мылом, пудрой и духами.
В ларьке действительно нашлись такие коробки.
Пока Андрей расплачивался, пока продавщица завертывала в бумагу красную коробку с видом Кремля, настроение Анны угасало, и только суетня Маринки, озабоченной и торжествующей, поддерживала улыбку на ее лице.
Она сделалась угрюмой за последнее время, все чаще просыпаясь по ночам, Андрей видел свет, слабым отблеском лежавший на полу у двери ее кабинета, – это означало, что она дома, но занята. После ссоры из-за ее проекта, а потом из-за денег на разведку он уже не мог с прежней свободой заходить к ней в любое время, заметив еще, что она стала менее откровенной и даже торопливо спрятала однажды какую-то исчерканную бумагу.
Андрей сам утратил простоту и доверчивость в отношениях с женой после того, как она вступила в деловой блок против него с Ветлугиным и Уваровым, и не мог отделаться от оскорбительной мысли, что она предложила ему их личные деньги только потому, что не верила в успех его предприятия.
Иногда, просыпаясь, он не находил Анны дома, вставал, зажигал свет и работал или просто ходил из угла в угол, с тоской думая о наступившем разладе.
У нее появилась еще рассеянность, раньше ей несвойственная: она входила в комнату, не замечая мужа, вдруг останавливалась, подносила руку ко лбу и, растерянно оглянувшись, выходила обратно. Исчезла и ее милая заботливость о нем, ее шутливые нотации.
«В личном она тоже отошла от меня!» – думал Андрей, невольно обижаясь на такое невнимание к себе.
Вот и сейчас, входя в дом, она пропустила вперед Уварова и Маринку и чуть не захлопнула дверь перед ним; правда, сразу спохватилась и, опустив руку, виновато взглянула на него через плечо, но он даже представить не мог, как больно резнуло это ее самое.
«Как я могла бы обидеть его!» – подумала она с чувством острого раскаяния, но внимание ее снова было отвлечено.
Анна не была избалована подарками и не думала о них, но, когда Маринка забрала коробку из рук отца и сияя подала ее Валентине, которая тоже расцвела в улыбке, ей стало досадно смотреть на них, и только тогда она поняла, что завидует сердечному отношению, которое было вложено ее близкими людьми в этот подарок.
– Так тебе подходит, – сказала Маринка, трогая крохотный бантик ленты в волосах именинницы, когда та поцеловала ее. – Я тоже буду носить такой.
– Ах вы, щеголихи! – с ласковой укоризной сказала Анна, подавляя неприятное чувство.
26
Валентина чувствовала настороженность Анны, но счастливое оживление все равно неудержимо пробивалось в ее лице, когда она обращалась к Подосенову.
Как будто стремясь развлечь всех, она легко облокотилась на стол и предложила, беспечно улыбаясь:
– Попросите меня спеть.
– Вы давно обещали доставить нам удовольствие – послушать вас! – обрадованно сказал Ветлугин, который то хозяйничал вместо Валентины, то, забывшись, неотрывно смотрел на нее. – Я совершенно уверен в том, что вы хорошо поете.
– Сегодня у меня особенный день, последний день молодости. Поэтому мне все дозволено, а завтра я уже начинаю стареть, – ответила она.
Слишком беззаботно было сказано это, чтобы ответить ей обычным разуверением: и тон ее, и вид показывали, что счет годам для нее пока не имеет значения и особенность дня заключается в чем-то совсем другом.
Анна заметила все, но сама чисто по-женски посмеялась над Уваровым, который, желая услужить ей, опрокинул бутылку розового муската, разбив тарелку и залив скатерть.
– Какой ты медведь, Илья, – сказала она, посыпая солью пятно на скатерти.
– Мне простительно. Я-то уже давно старею, неловкий стал, – отшутился Уваров. – Раздаюсь с годами в ширину, вот места мне и не хватает. Зато каждый посмотрит и скажет: прочно утвердился на земле человек.
– Прочного ничего нет, – сказала Валентина, отчего-то обрадованная беспорядком на столе. – И очень хорошо: все старинное вызывает чувство тоски.
– У дедушки-водовоза очень прочная гармошка, – неожиданно сообщила Маринка, забыв свое обещание не вмешиваться в разговоры. – Он нам показывал, и мы ее уронили. А она хоть бы что!
– Тогда надо попросить ее, – сказал Уваров, вставая. – Да я и сыграю с вашего разрешения. Такие «жигули» разведу!.. – он засмеялся и быстро вышел из комнаты.
– Так вы споете? – напомнила Анна Валентине и сразу представила ее маленькой, страшно одинокой девочкой, рыдающей после елки.
27
Высокий, грудной голос Валентины прозвенел с такой ликующей страстностью, что Анна вся выпрямилась. Как больно дрогнула ее душа!
Дождались мы светлого дня,
И дышится так легко… —
пела Валентина, и как будто чище становился самый воздух, в котором звучал этот радующийся своему обаянию голос.
«Неужели можно было задушить такое?» – удивленно подумала Анна и посмотрела на Ветлугина.
Он стоял неподвижно, на руке его, стиснувшей спинку стула, резко обозначились побелевшие суставы.
«Что он чувствует?» – спросила себя Анна, избегая взглянуть на Андрея.
– А вот и гармошка, – объявил Уваров, вваливаясь в комнату, когда Валентина, разрумяненная, сияющая, усаживалась на свое место. – Гармошка прочная, слов нет. Играть-то можно? – дурашливо, глубоким басом спросил он и сел возле Маринки. – Ну, чалдонка, что вы тут без меня делали?
– Мы пели, – сказала Маринка, глядя на свои пальцы, липкие и розовые от варенья.
– Теперь послушайте Илью Уварова. Гармошке я у одного священника научился. Лихой был поп!.. Бывало, сидит в подряснике нога на ногу, а гармонь у него так и дышит, так и вьется. Добрый был поп и музыкальный, а я у него вроде дворника работал. – Уваров взглянул на Валентину и спросил тем же шутливым тоном: – Может, вы споете еще под гармонь, если не обиделись на мое исчезновение? Знаете, есть такая хорошая песня… У Гурилева это романс, а в народе просто песня, ну, и мотив немножко другой. Вот… слушайте. – Он развел мехи и тихонько заиграл, глядя в напряженно-внимательное лицо Валентины, и, когда оно дрогнуло блеском глаз и улыбки, он, не дожидаясь согласия, подвинулся к ней со стулом.
Валентина выждала еще немного и уверенно вплела в окрепший голос гармони задушевные слова:
Отчего, скажи, мой любимый серп,
Почернел ты весь, как коса моя?..
Она никогда не певала под гармонь, и оттого, что получилось неожиданно так хорошо, пела, сначала улыбаясь от удовольствия, но затем грусть песни захватила и ее.
Зелена трава давно скошена,
На селе косцы давно женятся, —
пела она, слегка подавшись вперед, нервно сжимая рукой узкий поясок платья.
Только нет его, ясна сокола…
Не к добру тоска давит белу грудь,
Нет, не к радости плакать хочется.
От глухой сердечной боли, смягчившей серебряный тембр ее голоса, слезы выступили на глаза Анны, и мрачное предчувствие снова овладело ею.
– Прекрасно, – сказал Ветлугин с гордым восхищением.
– Вот как мы! – сияя, пробасил Уваров.
Андрей ничего не сказал, но, когда Валентина искоса быстро глянула на него, его глаза ответили ей таким ярким блеском, что она вся вспыхнула.
– А вы играете на чем-нибудь? – обратилась к ней в это время Анна, с усилием освобождаясь от своего оцепенения.
– Да… – ответила Валентина и, не сразу понимая, о чем ее спрашивают, виновато и счастливо улыбнулась. – Да, я играю, – добавила она, мгновенным напряжением памяти восстанавливая обращенный к ней вопрос. – Если бы у нас в клубе было пианино, я могла бы иногда выступать… – Она неопределенно развела руками и снова взглянула на Андрея.
Оттого, что тот сразу ответил ей взглядом и улыбкой, у Анны зазвенело в ушах, но она обернулась к Уварову и сказала глухо:
– Надо будет перевезти с базы пианино. Не обязательно ждать, когда закончим шоссе. Можно трактором на площадке… Это хорошо, когда в клубе пианино.
28
Пианино действительно привезли трактором. Увидев издали большой, сбитый из толстых досок ящик, Андрей еще раз подивился, как быстро выполняла Анна свои намерения.
Ребятишки, словно стая воробьев, облепили тракторную площадку, пока рабочие подтаскивали и устанавливали доски для мостков, и так же, как воробьи, ссыпались разом на землю, когда ящик с пианино стал съезжать по доскам, бережно подхватываемый сильными мужскими руками.
Андрей подождал, пока и пианино, и грузчики, и ребятишки протиснулись в двери клуба, и вошел следом. Там было полутемно. Огромная пустота стояла над раздвинутыми рядами скамей с высокими спинками, между которыми медленно продвигалась, стуча ногами, сомкнутая группа рабочих. Серый ящик покачивался среди людей, как гроб, в мрачном, гулком сумраке.
В библиотеке клуба Андрей долго рылся в каталоге технической литературы, потом сам просматривал то, что стояло на полках. Возвращаясь через пустой зал, он увидел Валентину. Она стояла у рампы, освещенная снизу красноватым светом, и наблюдала за суетней, происходившей в глубине открытой сцены.
Подосенов замедлил.
Угловатое, блестящее черной полировкой тело инструмента, высвобождаемое рабочими из ящика-гроба, точно вздыхало облегченно, вырастая в колебаниях света и теней. Но оно еще дремало, ожидая прикосновения умелых рук, легких и чутких.
Андрей опять посмотрел на Валентину. Она стояла далеко от него, но он хорошо видел своими дальнозоркими глазами ее полуобернутый, чуть улыбающийся профиль.
«Ей весело», – подумал Андрей, вспомнив, как давно не было весело ему самому. Правда, он шутил и даже смеялся, но что-то было утрачено им в последнее время, угасла светлая искорка, всегда тлевшая в его душе.
«Может быть, сказывается усталость», – размышлял он, вспоминая передряги последних дней: бурные, даже злые разговоры в парткоме, в кабинетах управления, зияющие щели канав, идущих по пустоте, угрюмые лица разведчиков, ожидающие, сочувственные (отталкивающие его этим сочувствием) взгляды Анны…
Тоска с новой силой охватила Андрея. Он опустился на край скамьи, сгорбился, облокотясь на книги, лежавшие у него на коленях. Тишина в зале вдруг удивила его, и он понял, что сидел здесь не просто так, не просто потому, что устал, а потому, что ему хотелось музыки, смутное представление которой возникло у него при виде мрачного, торжественного шествия инструмента и таинственного освобождения его и при появлении женщины, освещенной, как отблеском пожара, красноватым огнем рампы.
Вздохнув, Андрей сунул под мышку свои книги и неторопливо направился к выходу, но, не дойдя до середины зала, оглянулся и опять увидел Валентину. Она шла по сцене и через весь зал смотрела на него, остановившегося в нерешительности.
29
– Я так давно не играла, что мне даже страшновато начинать, – сказала Валентина, подходя к Андрею. – А завтра у нас вечер, будут выступать приезжие поэты. Вы придете?
– Конечно, – сказал Андрей.
Он не взял ее под руку, когда они вышли из клуба; почти не смотрел на нее, но чувствовал каждое ее движение, и ему было приятно, что она идет около него просто, без кокетливых ужимок и дерзостей.
– Вы очень изменились за последнее время, – сказала она, прерывая легкое для обоих молчание. – Вы стали каким-то неземным.
– Просто ангел во плоти! – подтрунил над ее словами Андрей и тихо рассмеялся.
Он шел упругим шагом, подлаживаясь к походке Валентины, по-мальчишески сдвинув на затылок кепи, сдержанно помахивал на ходу свободной рукой. Уголок его крупного, хорошо очерченного рта еще кривила усмешка, но общее выражение, несмотря на поднятый козырек и приподнятый прямой нос, было невеселое.
– Почему же неземной? – мягко спросил он.
– Да та-ак, – протянула Валентина, очень серьезно, искоса посматривая на него и покусывая листик, сорванный ею с куста. Ее особенно привлекало в Андрее это иногда проявляющееся в нем сочетание мужественности с задушевной, почти нежной мягкостью. – Вы как будто свалились с другой планеты… С Марса, может быть. У вас какой-то далекий взгляд. Правда! Будто все кажутся вам бесплотными тенями, как во сне, как в лесу в лунную мглистую ночь.
– Почти правда, – сказал Андрей уже весело. – Смотрю на вас… но даже тени вашей не вижу: где ваша тень, Валентина Ивановна?
– Моя? Ах, да! Мы с Ветлугиным поссорились немножко, – сказала она. – Из-за вас поссорились.
Андрей вспыхнул:
– Из-за меня?
– Да. Из-за вас. Вернее, из-за вашей работы. Я видела вас в тайге, на горах, среди ваших людей (какой там народ чудесный!) и сразу поняла… У вас в одну какую-нибудь яму вложено больше мечты, чем у Ветлугина во всю его деятельность. Если бы он действительно умел мечтать, как он часто говорит, то никогда не пошел бы… не согласился бы на прекращение такой увлекательной работы, а дал бы вам возможность довести ее до конца!
– Решение этого вопроса зависит не от него… – медленно, с запинкой произнес Подосенов с чувством благодарности и грусти: она, единственный человек здесь, на Светлом, поддержавший его, ничего не понимала в горных работах.
Но это наивное одобрение, эти слова сочувствия, исполненного не жалости, как у Анны, а негодования и веры в него, тронули геолога.
– Мечта, конечно, необходима, – продолжал он после короткого молчания. – Но я не просто фантазирую, а ищу на основании науки и опыта. Оттого-то и обидно и тяжело! Мне не верят потому, что я много затратил на разведку этой горы и все еще ничего не нашел. Черт возьми! – вскричал он с увлечением. – Если бы вы знали, какие огромные средства отпускались страной на наши разведочные поиски. Вся беда в том, что нашлись идиоты, вообразившие и сумевшие убедить других, что наше предприятие обеспечено разведанными запасами. На десятки лет будто бы обеспечено. Они поднимали шум вокруг старательских поисков. Любовались стариками-старателями и потихоньку душили нас, кадровых разведчиков, сокращая из года в год плановые разведки.
– Почему же это не исправят теперь?
– Такие дела скоро не делаются, и есть среди наших работников трусливые, нерешительные люди, а мы все еще деликатничаем там, где не нужно.
– Мне кажется, вы лично деликатностью вообще не страдаете! – заметила Валентина к слову.
– Вы находите? – серьезно спросил Андрей и остановился, впервые за время разговора взглянув ей в глаза.
– А вы нет, не находите? – невинно спросила она, в свою очередь, и оба неожиданно рассмеялись.
30
Они стояли, очень довольные друг другом, и смеялись от души, как два сорванца.
– Однако вы тоже не страдаете этим самым, – сказал Андрей, отправляясь дальше, но все еще продолжая улыбаться.
– Да, я иногда грублю. Это от жизни, – добавила Валентина с неожиданной горечью. – Хотя мне хочется только хорошего и себе и другим… Я недавно ездила к роженице в тайгу, и дорогой лошадь сбросила меня – испугалась медведя. Проводник тоже слетел и чуть не убился. Вот бы вы посмотрели, как я мчалась и… как упала. Когда поднялась, то не знала, что делать… идти обратно было ближе. Однако я пошла в тайгу. Одна, без проводника: больная-то могла умереть! Но как я боялась! А потом ваш разведчик с амбарчика – Дементий – вел меня на буксире. У меня уж сил не было идти, – пояснила Валентина, заметив удивление Андрея. – Я держалась за его кушак. Дождь лил ужасающий – я даже не представляла раньше ничего подобного. Он полоскал нас, пока мы не пришли в поселочек в горах! Там я приняла очень трудные роды и после всего прямо свалилась на скамью. Но… если бы вы знали, какое счастье – держать в руках спасенного тобой ребенка! Он бился, как рыбка, а ведь я приняла его без дыхания, синюшного! А потом было утро… знаете, солнечное утро после дождя, когда все распускается пышно-пышно и… так хочется жить… Вы поглядите, – сказала Валентина, неожиданно прерывая свой рассказ и осматриваясь по сторонам. – Так может только присниться, правда?
– Да, – согласился Андрей, и ему показалось, что он действительно видел во сне такой вечер с черными нагромождениями туч над круто изломанной линией высоко поднятого горизонта, с синим сумраком, зримо опускавшимся над грудами дикого камня, над крышами потемневших домов и остатками изуродованных деревьев, жалких и страшных на изрытой земле.
– Будет гроза, – произнесла Валентина голосом, полным затаенной радости.
– Может и не быть, – так же беспричинно радостно ответил Андрей. – Вы чувствуете движение воздуха, как он плывет волнами, очень холодных, свежий, но где-то идет разрядка…
– На Раздольном гремит вовсю. Пробило кабель, – сообщила Анна, поджидавшая их на развилине дорожки. Она издали приметила их, дружно шагавших вдвоем, а потом остановившихся и громко смеявшихся над чем-то. Она давно не видела Андрея таким веселым и поздоровалась с Валентиной холодновато. – Пробило кабель, – повторила она, точно хотела подчеркнуть, что ей некогда шататься по прииску. – Один высоковольтный мотор вышел из строя. Пустили резервный, но что там творится сейчас, неизвестно: телефонная линия выключена.
«Он тоже выключился», – заметила про себя Валентина, взглянув на сразу отвердевшее лицо Андрея.
– Я, кажется, помешала вам, – сказала Анна мужу, когда они вдвоем подходили к своему дому. – Вам было очень весело!








