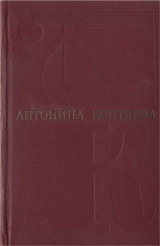
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
Часть вторая
1
Черепанов шел на лыжах, осыпая с кустов, с еловых лап хрупкие иголочки изморози. День был тусклый, слегка порошило, и солнце сквозь эту снежную пыль проглядывало мутно-золотистым пятном. На дне лощины, где выступала меж сугробов ржавая вода наледей, где, как пучки белых перьев, торчали обросшие пышным инеем кусты тальника, Черепанов увидел глубокий олений след, проломивший снежную целину. Олень оказался поблизости. Он объедал седые космы мха с нижних ветвей елки, привставая на дыбки, звякал боталом. Рядом, в снегу, темнела выбитая им до земли яма. «Должно быть, отбился от табора, – подумал Черепанов, глядя на оленя. – Ишь, накопытил сколько!»
Из лощины Черепанов поднялся на перевал. Просторы открытого нагорья опахнули его смуглое лицо ледяным ветром. Он прошел еще немного, остановился, крепко упираясь палками в твердый выветренный снег, и посмотрел вниз. Левее, по долине, раскинулись постройки нового Орочена. Острые глаза Черепанова разглядели даже крохотные флажки, бившиеся над аркой у въезда в поселок. Осенью ороченцы принимали там грузовые машины, шедшие с Невера на Незаметный по едва достроенному шоссе, уже широко известному под названием АЯМ [12]12
АЯМ – Амуро-Якутская магистраль.
[Закрыть]. Дрожа, словно от усталости, пятитонные «бюсинги» останавливались у нарядной арки. Их встречали музыкой. С волнением припоминали старожилы и первооткрыватели Алдана трудности пеших переходов по бездорожной тайге.
Позднее, взрывая гусеницами глубокий снег, заваливший и тайгу и шоссе, пришли тракторы.
Преодолев горные перевалы, они приволокли чудовищные глыбы локомобилей и оборудование для шахт. Лица трактористов были багровы от морозов. Трактористы рассказывали о снежных заносах на Яблоновом хребте, на вьюжных высотах Эваты, о том, как удалось им дотащить до приисков эти громадины в ящиках из неотесанных досок. Позднее приискатели следили за распаковкой. Все было блестящее, тяжеленное, мощное даже в своей неподвижности.
«Ну вот, дожили до серьезных событий!» – думал Черепанов, глядя на ряд столбов, убегавших по просеке: через весь район протянулись поющие на ветру провода, стянутые в узел в долине реки Селигдара, где недавно задымили высокие трубы электрической станции. «Здорово это получается – электричество, машины… Какой-нибудь дрянной барачишко, а его прямо распирает от света. Шоссе на семьсот километров… А ведь главное-то еще впереди!»
Черепанов окинул взглядом голый склон, редкий лесок на изгибе. Черные глаза его весело заблестели. Он глубже надвинул шапку, слегка пригнулся…
Ударила в лицо остро режущая стремительная струя ветра, засвистела в ушах. Долина как будто выгнулась навстречу. Встряхнуло на сугробе. Вниз! Лесистый изгиб, поворот в сторону, ветка хлестнула по локтю. Мимо… И вот гора вырвалась из-под лыж, и Черепанов летит стремглав в пустоту, в снежную пыль, задыхается на миг от быстроты, от озорной радости и снова после упругого толчка находит скользящую опору. Вниз! Вниз! На пологий увал! В мягкие сугробы, в кусты, опушенные блестящей изморозью…
За кустами, ближе к дороге, желтеют отвалы старательских делянок. Старатели моют золото по-прежнему, но и у них не без перемен.
2
…Артель «Труд» на Пролетарке закончила подготовительные работы, давно приступила к промывке, но золото на делянке оказалось слабое.
– Ровно заколодило наше счастье, – огорченно говорил Зуев, сбрасывая гребком обмытые на бутаре камни. – В артели Свердлова какое богатство было, а у нас ничего похожего.
– У них ортосалинская россыпь вышла, а не с Пролетарки, – сказал Рыжков и, опрокинув нагруженную тачку на грохот, пристукнул ею, вытряхивая прилипшую глину. – Обмануло нас золото! Спасибо, хоть долги скостили.
Для зимней промывки бутара поставлена внизу, возле одной из боковых просечек. Работало сразу несколько забоев, и старатели то и дело сновали по штреку с тачками и крепежником.
Егор в этот день кайлил в забое. Он возмужал. Старый ватник готов был треснуть по швам на его широко развернутых плечах, черты лица стали резче, суше, а в выражении сквозило несвойственное ему дерзкое ухарство.
После выпивки у Катерины Егор пропьянствовал еще целую неделю, не смея показаться в своем бараке. За прогул его могли исключить из артели, но, когда он явился, охрипший и опухший с тяжелого похмелья, и сразу полез в забой, старатели пожалели его, и никто не попрекнул за пропущенные дни. Что-то словно надломилось в нем, и, постепенно, махнув рукой на прежнее стремление к хорошей жизни, он превратился в обыкновенного забулдыгу: при первой возможности старался напиться, проигрывался до нитки в очко…
Но душная скука томила его. Он часто думал о потерянной навсегда Марусе, и на душе его делалось пусто и печально.
Встречаясь с девушкой, он отворачивался, и ему казалось, что он ненавидит ее. Она, осведомленная приисковой молвой о его гулянке с Катериной, тоже сердилась и, насколько возможно, избегала общения с диковатым парнем. Далекие и как будто равнодушные друг к другу, жили они под одной крышей.
Недавно Егор подружился с Никитиным, который поступил все-таки на хозяйские и работал откатчиком в первой шахте. Егор заинтересовался молодым старателем с того дня, когда услышал от Фетистова о Мишкином великодушии, но, впервые сойдясь за полбутылкой, они крепко поспорили и чуть не подрались. Это, однако, не помешало им сдружиться. Теперь в свободное время Егор первым долгом отправлялся к Никитину. Тот жил в новом, еще сыром бараке. На сплошных нарах помещалось несколько десятков недавних старателей и вербованных из Иркутска, из Канска. У огромных чадящих плит, тесно уставленных множеством котелков и кастрюль, ругались женщины, кричали ребятишки. Люди спали на нарах, на полу между нарами, подкладывая в изголовья котомки, бесконечно курили, материли начальство и вербовщиков, насуливших золотые горы. В бараках было шумно, тесно, и в этой тесноте, бродившей, как дрожжи, чувствовалось ожидание чего-то очень важного.
Необычными казались и высокие копры шахт, выросшие среди долины, и гул моторов на подъемных лебедках.
Приятели подолгу толковали о житейских делах. Однажды Егор рассказал Никитину о Зуеве, убившем купца в ссоре из-за собаки, но Мишке рассказ не понравился, и он резко осудил старика.
– Разве можно ради животного убить человека? – сказал он и сердито потер лоб. – Я вообще ненавижу убийц. Ну, дай ты кому следует в морду, ну, наподдавай ему как следует, а чтобы убить… Я этого не понимаю. Какое право я имею лишить человека жизни?
– А на войне?
– На войне? Там совсем другое дело. Там если я убью кого, так ведь не из-за своего интереса. Если, скажем, за Советскую власть… посылай меня, куда хочешь! Я вперед всех полезу, тут уж ничего не жалко. За каждого убитого врага тысячи народу в тылу останутся в сохранности. А то за собаку – и порезать человека! – Светлые глаза Никитина горели, но, уже остывая, он добавил тихо: – Личная ссора для общества – пустяки. Но через такие пустяки, к примеру через пьянку, я от комсомола отстал. Вот и нехорошо получается, когда мы с собой совладать не умеем.
Мишка помолчал, потом сказал веселее:
– Нынче Черепанова опять встретил… Это он ведь надоумил меня пойти на шахты. Расспрашивал, чем живу да какие у меня намерения. А какие у меня намерения?! Так, глупость одна! Просил заходить в партком… А с чем я туда пойду?
Часто они бродили вдвоем по прииску. Никитин, более общительный, подмигивал бабенкам, заговаривал с девчатами, тащил Егора в недавно отстроенный клуб. Он со всеми зубоскалил, острое словцо всегда висело на его языке. Егор охотно подчинялся причудам товарища, таскаясь за ним, как медведь за вожаком. Эта неожиданная дружба явилась для него настоящей отрадой, но он упорно не поддавался Мишкиным уговорам и не переходил из своей артели на хозяйские работы и в хозяйский барак.
– Покурим, ударнички! – сказал шутливо Егор и, отложив кайло, присел на бревно. – Говорят, нынче норму для старателей прибавили. Теперь будет семьдесят пять сотых кубометра.
– Не выполним, – возразил Зуев, – где это видано, чтобы старатели работали по норме? Не всяк прут по закону гнут!
– Выполнить можно, – в раздумье заговорил Егор и умолк, прикуривая.
Махорка отсырела, и цигарка потухла, обгорев по краям. Он зажег вторую спичку, но бумажка разлепилась, а табак высыпался на его крепкий небритый подбородок.
– Шлеп хороший, а куру нет! – со смехом сказал Зуев, глядя на остаток бумажки, прилипшей к Егоровой губе.
Егор молча вытерся рукавом и начал свертывать новую цигарку. Руки у него слегка вздрагивали.
– Надоело! – неожиданно со злостью сказал он. – Кажется, горы бы своротил, а не знаешь, которой стороной себя к жизни приспособить. Вот спросили бы: какие у тебя намерения? И не сообразишь, как ответить, потому что ничего нет – глупость одна! А все что-то делают и довольны.
– Кто это – все? – насторожился Рыжков, удивленный и даже уязвленный словами Егора.
– Да вообще… народ.
Рыжков перевернул пустую тачку, сел на нее, широко расставив ноги в огромных ичигах.
– А мы-то разве не делом занимаемся? Вон сколько трудов вложили!
– Это верно, – подтвердил Зуев. – Проку только мало от наших трудов: кубажу-то мы дивно вынули, а содержание не больно веселит. Не доводилось еще мне на такой бедности работать. Конечно, льготы теперь. Помогла старателю власть, но только насчет нормы… я, например, не согласный. – Он посмотрел, ища сочувствия, на горняков, подошедших из соседнего забоя, и продолжал оживленно: – Мы же работаем без подразделений. Сегодня забойщик опытный, а завтра новичок. И опять же с промывкой… Нет, нам такая петрушка не подойдет!
– А может, подойдет? – неожиданно возразил Рыжков. – Насчет золота у нас слабовато. Стало быть, придется на кубаж нажимать. Золотоскупные магазины не зря ведь открыли: при дешевом товаре очень даже можно слабые пески работать. Похищничали, пора и совесть знать.
– Хищничали, да не все, – заметил с хитрой усмешкой Точильщиков, частенько-таки наведывавшийся на деляну. – Небось у твоего Титова старатели без нормы работали!
Рыжков поднялся, похлопал рукавицами одна об другую, не спеша надел их.
– С чего он моим-то стал?
– С того, что ты с этим Титовым уши нам прожужжал, как вы с ним из пушки палили. Теперь на любой ороченской шахте не меньше снимают, а без всякой пальбы обходятся.
Синие глаза Афанасия Лаврентьевича сердито блеснули, но он только крякнул и отвернулся.
– Будет рассиживать-то, не на именины пришли! – крикнул он от забоя, подхватывая лопатой комья сырой породы.
– Заело! Правда, она глаза колет! – сказал, посмеиваясь, Точильщиков.
Рыжков взялся было за нагруженную тачку, но, услышав ехидные слова, гневно выпрямился, стукнулся головой о низкие под палями огнива и совсем осердился.
– Мне глаза колоть нечего! – в голосе его прозвучала сдержанная ярость. – Разве я считал Титова своим? Просто признавал его как бывший факт! Ежели у нас теперь Советская власть, то, значит, хозяев раньше не было? Так, что ли? Дурость какая, спасу нет! Много их было, и все они большое отношение имели к нашему брату. А теперь я в новые порядки вникаю и вижу: конец приходит хищничеству. Льготам-то мы небось рады, а нормы опасаемся! – Рыжков толкнул тачку на выкат и, тяжело ступая, гордо покатил ее мимо старателей, в темноту штрека.
3
Надежда в пальто, в сером пуховом платке, на который выбивались мягкие кольца светлых волос, стояла на ступеньке крыльца и смотрела на Егора.
– Стареть начинаешь, Надюша! – шутливо сказал он, оглядывая ее крепкую фигуру. – Толстеешь!
Надежда заметно огорчилась, но, как девушка, легко сбежала вниз.
– Старею, сыночек! Старею, милый! Тридцать восьмой годок пошел.
Егор невольно залюбовался ею: располнела, кожа на висках и под глазами тронута морщинками, но и постаревшая – хороша.
Она оправила шаль на груди, тяжело вздохнула.
– Что так? – спросил Егор.
– Ничего, все о том же.
– О чем?
Надежда рассеянно глянула по сторонам и снова подняла на Егора синие задумчивые глаза.
– Старушью роль разучиваю. Матерей мне дают да бабушек. Хорошо у меня матери получаются? – спросила она горделиво, заранее уверенная в ответе.
– Хорошо!..
– Я ведь стараюсь… О тебе думаю, когда на сцену выхожу. – Щеки Надежды ярко зарделись, и она торопливо и застенчиво договорила: – Других детей у меня ведь не было, одного сыночка жалела…
Егор тепло улыбнулся.
– Я к тебе тоже привык, будто о родной вспоминаю. Сколько раз хотел в гости зайти, да все стесняюсь.
– Чего же?
– Ну, знаешь, одна ты, мало ли какие разговоры пойдут…
Надежда опять покраснела.
– Меня оберегаешь или сам боишься? Я ведь старуха против тебя.
– Это значения не имеет. Такое сплетут досужие кумушки, что и не возрадуешься!
– Небось к Катерине не боялся заходить! – не сумев скрыть раздражения, сказала Надежда.
Егор смущенно отвел глаза.
– К той уж по пути!
– Убил бобра! Лучше-то не нашел?
Егор помедлил, не зная, как отнестись к упреку.
– Чего ты-то злишься? Мне эта Катерина совсем ни к чему. У меня душа о ней не болит.
– Зато у кого другого болит… Маруся до сих пор забыть не может. Вечор ходили мы в баню… И Катерина там была. Маруся так и вспыхнула, а Катька нарочно поближе подсела, дрянь этакая!
– А Марусе не все равно? – На мужественном лице Егора отразилось смешанное чувство радости и стыда.
– Стало быть, не все равно, если сердится! – уже примиренно сказала Надежда. – Эх вы, несмышленыши!
Мягкий снежок падал с серенького неба, ложился на дорожку, на высокие сугробы, таял в волосах Надежды. Она запрокидывала румяное лицо, ловила губами летящие пушинки. Два ворона кружились над товарным складом, сталкивали друг друга с фонарного столба, негромко покаркивали, тяжело махая угольно-черными в снегопаде крыльями.
Надежда помолчала, следя за игрой неуклюжих птиц, потом взглянула на Егора, просияла и почти со слезами на глазах воскликнула:
– До чего легкая жизнь у меня становится! Раньше бывало – увижу ворона, такой он угрюмый, и сразу сердце заноет! А теперь вот гляжу: какие смешные птицы… Сами черные, носы огромные, каждой, может, лет по сто, а играют, словно воробушки. Нет у меня на душе тревоги. Подумаю: господи, что же я сделала хорошего? Ничего-то еще не успела! Только на ноги встала, а все ко мне с уважением: «Надежда Прохоровна», «Товарищ Жигалова», будто это и не я восемнадцать лет из стервы не выходила. Недавно Луша книжку мне дала. Потихоньку одолела я эту книжку. Большевик один написал о каторге своей… Люди жизней не щадили, а мы на готовенькое явились и то не сразу оценить его можем. Ну, вот я… чего ради загубила свою молодость?! – В голосе Надежды прозвучала горечь, и Егор снова удивился перемене в ее лице, уже серьезном. – Не гляжусь в зеркало по целым дням, не хочу вспоминать, что старею. Мне теперь во всех общественных делах помогать охота, только грамоты не хватает.
– Ты и так активная стала. А насчет молодости зря жалеешь, я ведь нарочно сказал… о старости-то. Вовсе ты и не старая! Замуж хоть сегодня выдавай. – Егор виновато, немножко даже заискивающе заглянул в глаза Надежде. Он не понимал, что с ней творилось: или ей действительно было весело, или мучилась она… То смеется, то чуть не плачет. – На свадьбу-то позовешь? – спросил он с грубоватой лаской.
Надежда не ответила, вдруг, играя, толкнула Егора плечом, дала ему подножку и, не оглядываясь, как барахтался он в сугробе, побежала в сторону. Он догнал ее у шоссе, отряхнул с полушубка снег и с удивлением сказал:
– Сильна!
– А ты жидковат! Чуток толкнула – и на ногах не устоял.
– Против трактора разве устоишь!
– Эх, Егорка, милый! Силы у меня сейчас и вправду много, прямо поднимает она меня от земли! Неужто еще расту?
4
Маруся стояла у полки с игрушками, наблюдая, как старательно маршировала по комнате младшая группа с пожилой воспитательницей во главе.
– Марья Афанасьевна, – тихонько позвала повариха.
Маруся пошла к ней, с порога обернулась, оглянула чистую нарядную комнату и притворила за собой дверь.
– Материалы принесли, – добродушно улыбаясь, сказала толстуха Ивановна.
В прихожей толпились ребята из пионеротряда – краснощекие, пахнувшие морозом, с инеем на воротниках и ресницах.
– Замерзли? – спросила Маруся, пропуская их в просторный чулан. – Давайте сюда, поближе к печке, тут тепло-о!
Из карманов и узелков ребята высыпали на стол еловые шишки, мелкие камешки, собранные на новых отвалах.
– За шишками к лесозаготовщикам ходили. Аж к Лебединой горе, – сообщила рыжая Ленка, шмыгая вздернутым носом. – Заходили погреться в столярку к Фетистову. Он приготовил много кубиков, гладких, хорошеньких. Только он сам хочет их принести.
– Ленка – юла, а из-за нее Фетистов нам не доверяет. – И ребята с веселым шумом двинулись к выходу.
Проводив их, Маруся прошла в комнату средней группы.
Здесь дети сидели за низенькими столами. Перед каждым на фанерной дощечке размятые куски белой глины.
– Поглядите, какие у меня калачики!
– А у меня лошадь! – кричал Мироша Ли.
– Вот ох-анник, – сообщил басом его сосед Павлик. – Вот ужье, а это шлем и звездочка. – Все было выполнено в отдельности, и звездочка, превосходящая размерами шлем охранника, лежала на пухлой ладошке Павлика.
Застенчивая Танюшка показывает свою лепку молча, приподняв худенькое плечико, смотрит из-под черных ресниц пытливо и тревожно.
Маруся хочет быть одинаковой со всеми, но Танюшка невольно вызывает у нее особенную нежность: девочка в детском саду недавно и еще дичится, пугливая, как мышка.
Надо зайти и на кухню. Щеголиха Ивановна, в батистовой косынке и белом халате, расторопно хлопотала у плиты, мелькая розовыми от жара локтями.
– Ты прямо как доктор! – одобрительно сказала Маруся и одним глазом, чтобы повариха не заметила, заглянула за шкаф. Продукты, привезенные утром, были уже размещены в выскобленных добела ларях и в холодной кладовке. Посуда на полках сверкала, занавески так и топорщились. Кухонное хозяйство находилось в образцовом порядке.
Уборщица Татьяна, она по совместительству и сторожиха, принесла охапку дров, положив их на пол, посмотрела, улыбаясь, на молоденькую заведующую.
– Сегодня я двух клопов поймала на койках. Такие тощие да проворные, насилу изловила проклятущих, – сообщила она и, заметив испуг Маруси, добавила: – Вы не беспокойтесь! Я все пересмотрела, больше не видать, должно быть, из дому занесли.
В чуланчике, где стояли шкафы с бельем, пахло оттаявшими еловыми шишками. В углу на брезентовой подстилке составлены раскладные кроватки. Рядом, в комнатке с одним окном, жила Татьяна, «изменившая» Луше ради возможности спокойно пожить отдельно.
– Не сердится Луша, что ты ушла? – спросила Маруся.
– Чего сердиться: она умненькая – понимает. Нынче сами перебрались на другую квартиру, тесно стало на старой, когда второй ребенок родился.
– Девочка тоже вылитая в Сергея, – весело сказала Маруся.
– Выходит, кровь у восточных людей сильнее, – важно заметила Татьяна. – Сколько я знаю, всегда в ихнюю природу детишки угадывают.
Маруся недоверчиво улыбнулась, оглядела кроватки, заглянула и в уютную комнату Татьяны.
– Нет, и не думайте! – приговаривала та, идя следом. – Видно сразу, что пришлые. Я теперь одежонку ребячью тоже буду смотреть.
– Пожалуйста, Марья Афанасьевна, пробуйте обед, – сказала повариха, появляясь в дверях. Она величала Марусю главным образом для того, чтобы придать солидность своему учреждению.
– Чище нашего-то поискать! – похвасталась Татьяна и прислонилась к косяку, сложив под грудью жилистые рабочие руки. – А вот в садике на Еловом вчера была комиссия, так грязное белье на кухне за ларем нашли. А уж паутины да сору – ужас сколько! Говорят, заведующую сменят.
– И следует! – строго сказала повариха. – У каждой матери за своего ребенка сердце болит. Теперь кругом механизация начинается, бабы так и прут на производство, наше дело – успевай разворачивайся!
Выйдя на улицу после работы, Маруся удивилась тому, как изменился ясный с утра день. Солнце утонуло в снежных тучах, и по долине мчался обжигающий морозом ветер. Маруся шагала по дороге, прятала руки, как маленькая девочка, в меховые манжеты пальто: перчатки после спора со снабженцами забыла в конторе золотопродснаба. Она все еще жила с родителями на Пролетарке. Ей не раз предлагали комнату в общежитии, но мать расстраивалась даже при напоминании об этом, и Маруся решила пока не переселяться. Конечно, отец мог бы перейти на одну из ороченских шахт, но он продолжал упрямо цепляться за старание в погоне за ускользающим фартом.
Ветер дул навстречу с такой силой, что у девушки слезились глаза. Однако она, прижмурясь и опустив голову, с таежным упорством шла ему навстречу.
– Великая нужда идти в такой буран! Обморозишься, – услышала она знакомый голос и остановилась.
Егор… Лицо его под драной шапчонкой показалось ей похудевшим, и стоял он такой печальный, точно побитый.
– Ветер может бушевать долго, а мне домой надо, – сказала Маруся, вытирая платком глаза и красные от холода щеки.
– А мне подумалось, – ты уже застываешь на ходу, – съежилась, как воробушек. Только вышел из больницы, гляжу, идешь…
– Пойдем вместе, – ласково позвала Маруся, и они пошли рядом. – Кого ты там навещал?
– Нет, на перевязку ходил. – Он вынул из-за пазухи руку и показал ей обмотанную марлей ладонь. – Пьяный на днях о печку обжег, – тихо пояснил он, радуясь выражению испуга на ее лице.
– Эх ты-ы, прогульщик! – упрекнула она и опять стала отчужденно-гордой. – Болезнь? Какая же это болезнь – по пьянству? И как только не стыдно?
– Сама виновата, – глухо ответил Егор, пряча больную руку.
– Еще лучше! Я-то при чем? Я тебя на печку не толкала.
– На печку – это бы ничего. Ты меня в петлю чуть не затолкала! – Поглядывая исподлобья на растерянное лицо Маруси, запинаясь от волнения, Егор говорил торопливо и горестно: – Ты от меня, как от волка, бегала, а что я тебе плохого сделал? Ведь не нахальничал, силой не набивался, а с тобой Черепанов… Да не обидно было бы, кабы он оценил такое счастье, а то поиграл да бросил, и опять ты с ним помирилась.
– Ты уже совсем одурел от пьянки, – грустно сказала Маруся. Приисковая среда приучила ее к подобным разговорам, и она даже не подумала обидеться на Егора. – Интересное дело!.. Стыдно, товарищ Нестеров, собирать бабьи сплетни!
– А то нет? – как-то глупо возразил он, но сразу поверил, убежденный не словами, а голосом и всем видом Маруси. – Тоска меня заела, – прошептал он взволнованно и попытался взять девушку под руку.
Она вспомнила Катерину, отвернулась. «Говорил, говорил про любовь да полез к первой встречной бабе. Что она ему? Целовала, наверно, его своими губищами!» Чувство смутной вражды шевельнулось в душе Маруси.
– Не знаю, какая такая тоска!.. У меня для нее Бремени не хватает. Сколько работать нужно, чтобы настоящим человеком сделаться!
– А ты разве не настоящая?
– Ну, нам с тобой еще много тянуться надо!
То, что она сказала «нам», приближая этим его к себе, обрадовало Егора. Будто и не было долгого периода отчуждения и даже враждебности. И Марусе вдруг стало весело. Они шли теперь рядом, и девушка, жмурясь от бившей в лицо пурги и уже не чувствуя холода, слушала сбивчивые рассказы Егора о его дружке Никитине.
5
– Зина! Зина! – напевал Сергей Ли, любуясь круглой головкой дочери, черневшей среди кружев пододеяльника. Крохотный капор Ли держал в руке, играя им перед личиком плачущего ребенка. Куда же запропала Луша? Прибежала с работы, сунула мужу плотненький живой сверток и скрылась. – Зина! Зи-ина! – напевал Ли, тщетно стараясь сосредоточиться на страницах исписанной им бумаги, разложенной на столе: он готовился к докладу.
Это был очень серьезный доклад, и Сергей затормошил Черепанова при составлении тезисов. Они вместе подбирали нужную литературу, обсуждали узловые вопросы. И вот теперь, когда все уже готово, когда докладчик еще раз перевернул страницы своих тезисов, еще раз перечитал доклад на пленуме ЦК об итогах первой пятилетки, еще раз продумал то, что нужно было высказать, возникло неожиданное затруднение: нельзя было выйти из дому.
«Что подумает Мирон Черепанов? Что скажут товарищи, собравшиеся в клубе?»
Ли точно матери родной обрадовался Татьяне, которая, как обычно, привела из садика озябшего Мирошку. Но Татьяна тоже спешила: у нее делегатское собрание на Пролетарке. Татьяна – первый помощник приискового женорганизатора.
Ли, не выпуская из рук Зину, стащил с сынишки шубку, снял шарф и шапочку. Мирон старался всячески облегчить отцу эту задачу, сердясь, сопя, ревнуя к сестренке.
– Да положи ты ее, – серьезно посоветовал он. – Пусть поплачет. Подумаешь!
Такой выпад рассмешил Сергея, но дочь развоевалась не на шутку, гневные вопли ее встревожили даже братишку.
– Может, она мокрая, – сообразил Мирошка, с которым совсем недавно случались такие оказии.
Вдвоем они распеленали маленькое сокровище, которое начало брыкаться и кричать еще пуще. Пеленки в самом деле требовалось переменить. За это время хлопотливый Мирошка успел с полного хода растянуться на полу и набил себе преизрядный рог на выпуклом смуглом лобике. Теперь дети плакали взапуски, а Ли в крайнем расстройстве сидел у стола, держа по детенышу на каждом колене и с безнадежным выражением покачивая их, посматривал на часы. От досады и нетерпения у него самого навертывались на глазах слезы. Если бы его помыслы не были прикованы к предстоящему собранию, он, наверно, проявил бы больше инициативы и внимания по отношению к своему потомству. Но сейчас он чувствовал себя на острие ножа. Разве можно опоздать на собрание! Но как быть с этими крикунами?
Он так обрадовался приходу жены, что даже забыл упрекнуть ее за свои душевные терзания: собрал бумаги и умчался.
В здании клуба народу уже битком. Вдыхая запах свежих еловых гирлянд, Ли прошел за сцену, то и дело здороваясь со знакомыми рабочими, сияя светлозубой улыбкой. Сердце его сильно билось от быстрой ходьбы, от волнения, и, даже вдохнув знакомый пыльновато-сухой воздух кулис и увидев Черепанова, Марусю Рыжкову и других приисковых активистов, он не мог успокоиться.
– Где ты пропадал? Уже хотели посылать за тобой, – сказал Черепанов.
Сергей Ли только рукой махнул.
«Вот он перед каждым собранием тоже волнуется, – подумал Сергей о Черепанове. – Не может привыкнуть выступать перед народом. Хотя, кажется, говорит спокойно, убежденно. Я тоже убежден, но почему-то бьет лихорадка, даже в животе дрожит».
– Начинаем? – спросил Черепанов.
Ли кивнул и все с той же внутренней дрожью, но внешне взбодренный и собранный вышел на сцену. Предстоял большой разговор об овладении техникой, о сокращении прогулов и простоев, о соцсоревновании и ударничестве…
Доклад Ли слушали с большим вниманием: председатель приискома пользовался среди горняков симпатией, его уважали за чистосердечность, за твердость слова. Чуткий к нуждам рабочих, он никогда не давал пустых обещаний, яростно восставая против бюрократов и волокитчиков.
Сейчас он говорил о могучем росте советского хозяйства, о выполнении первой пятилетки в четыре года, о таких ее детищах, как Днепрострой и Сталинградский тракторный. Лучившаяся из него гордая радость передавалась слушателям.
– В самом деле, что натворили, а? – весело сказал Афанасий Рыжков, сидевший в группе старателей неподалеку от сцены. – Конечно, буржуям не по душе, что мы без них управляемся!
«Лишнего забирает», – тревожно думал Черепанов, сидевший в президиуме, вслушиваясь в данные по сельскому хозяйству. В тезисах этого не было. Но захваченная горячей искренностью докладчика аудитория с интересом слушала и о колхозах.
Маруся Рыжкова написала крохотную записочку и осторожным движением руки подкинула ее Черепанову.
«Что это у него столько слов непонятных сегодня?» – прочитал Черепанов и насторожил ухо к трибуне.
Сергей уже перешел к делам приискового масштаба, лицо его сразу стало серьезнее, озабоченнее: в голосе то и дело проскальзывала горечь, даже обида…
– Сломали подъемник на третьей шахте… Простой вышел безобразный… Техническое руководство безусловно повинно, но если бы все по-настоящему, сознательно относились к делу, то разве требовались бы нянюшки на каждом шагу? – Тут Ли почему-то вспомнил Зину, но усилием воли погасил эту мысль. – Мы, рабочие, должны стать совестью производства. Беречь каждую гайку, каждый винтик, ведь только машины помогут нам выполнить новую пятилетку по металлу…
Черепанов искоса взглянул на Марусю, недоуменно пожал плечом, но тут его так и стегнуло словечко «субординация», потом «субъективно», затем «де-юре» и «де-факто» и, наконец, «трансформация» и даже «трансцендентный». Некоторое время Черепанов сидел не шевелясь, затем исподлобья, но зорко посмотрел в зал. Там была все та же настороженная, чуткая тишина. «Да ведь это я ему говорил: работай над языком, обогащай его, – вспомнил Черепанов, – а он за словарь иностранных слов уцепился!»
– Поступать по трафарету, – с особенной четкостью выговорил Ли.
– Ах, чтоб тебя намочило! – отозвался кто-то одобрительно из дальнего угла.
Черепанов вспыхнул, будто он сам допустил оплошность, но зал зашикал на реплику, и секретарь парткома вдруг успокоился: понял, что на слушателей неотразимо действует личное обаяние докладчика, и, как бы он ни выразил свои мысли, их постараются усвоить.
«Валяй, валяй, чертушка! – подумал Черепанов, светло усмехаясь. – Добрался до образованности!»
– Ли, ну что такое дилемма? – со смехом спросила Маруся во время перерыва. – Или вот я еще записала: «идефикс»?
Сергей крепко вытирал платком вспотевшее лицо; он еще не мог понять, хорошо ли у него получилось, и радовался только оживлению в зале, вызванному докладом.
– Идефикс? То же, что идея фикс, как говорят еще – любимый конек, – пояснил он, собирая в папку листки тезисов.
– А «катаклизм»?
– Ну, пойди возьми словарь иностранных слов, если интересуешься, – уже нетерпеливо возразил Ли.
– Не-ет, брат! – решительно, хотя и мягким тоном вступился Черепанов. – А рабочие тоже должны бежать сейчас за словарями? Доклад ты сделал хороший, но чего ради насовал в него всяких дилемм и идефиксов? Ведь это для наших слушателей точно осколки кирпича в хлебе. Ленин очень восставал против употребления непонятных иностранных слов. Он высмеивал тех, кто щеголял ими.
Лицо Ли багрово покраснело.
– А я-то старался! – сказал он смущенно. – Ведь я хотел как лучше. Кирпичи в хлебе!.. Ты меня убил, Мирон!
И все трое рассмеялись, превратив неловкость в шутку, которой не суждено повториться.
В это время Егор и Мишка в сутолоке прокуренного фойе тоже обсуждали доклад председателя приискома и тоже начали с «мелочей» – с иностранных слов, которыми он изобиловал.




































