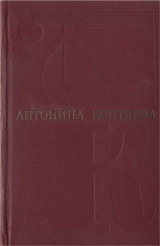
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
За последнее время он даже запомнил несколько мудреных названий: голкипер, корнер, форвард.
– Корнер – это, стало быть, в угол, потом аут еще есть. Аут – значит мяч, вышебленный за линию, – объяснял он Акимовне, возвращаясь домой поздно вечером.
Резвые прыжки футболистов вызывали в нем чувство неудержимого азарта. Он, задирая бороду, следил за полетом мяча, притопывал, нетерпеливо ерзал на скамейке и смеялся, как ребенок, когда забивали гол. С одинаковым участием следил он за напряженными моментами игры у ворот обеих команд: восхищала его сама игра, требующая выносливости и сноровки.
– Удумали ведь так хитро, чтобы только ногой пинать… – обратился он к Черепанову. – Человек, он сроду рукой норовит схватить, а тут, при таком азарте, попробуй удержишь. Раньше об этих играх и понятия не имели, в бабки только игрывали да в городки, а чтобы спортом заниматься – моды не было.
– Надо тебе записаться в футбольную команду, – пошутил Черепанов.
– Я бы не прочь, да корпус мне мешает, – неожиданно серьезно сказал Рыжков. – Корпусный я, – пояснил он, заметив недоумение Черепанова. – Росту уж очень большого, неловко мне с ребятами бегать. А в волейбол пробовал… Как поддам-поддам, аж и мяча не видать. Он, как слепой, сигает черт-те куда.
Черепанов засмеялся, потом встал, поправил ремень, надвинул на смуглый лоб козырек кепки, хотел было идти, но движение в толпе привлекло его внимание. Заплаканная женщина пробивалась сквозь обступавший ее народ, громко причитала.
Черепанов тревожно всмотрелся и вдруг побледнел – по толпе прошел смутный говор:
– Зарезал… Муж зарезал…
– Что случилось? – спросил Рыжков и поднялся. – Эй, чего там?
– Забродин жену убил! – крикнул пожилой шахтер. Остальных слов его Рыжков не разобрал – сразу обернулся к Черепанову: тот охнул так, словно его ударил кто.
– Что ты, Мирон Устиныч?
Странная гримаса искривила лицо Черепанова. Он резко отвернулся и пошел зачем-то в сторону Ортосалы, но так же внезапно остановился, повернул назад и заспешил к поселку, все убыстряя шаги.
«Жалел он ее, голубушку! – догадался Рыжков и в тяжком раздумье присел на скамейку. – Эко горе какое! И откуда этот изверг вывернулся?»
Егор и Маруся пробежали мимо. Рыжков проводил их взглядом и остался сидеть в оцепенении: известие об убийстве Надежды словно оглушило его. Он вдруг понял, что и для него Надежда была больше, чем просто знакомая. Тоска завладела им. Он совсем не волновался о том, взят ли Забродин. Дело было непоправимо. Значит, незачем бегать и суетиться: помочь уже нельзя. Рыжков вспомнил Надежду такой, какой она была на Пролетарке, вспомнил, как приходила она к ним в гости на днях, попробовал представить ее мертвой и не мог. «Мерзавец этакий», – подумал он о Забродине и пожалел, что столько времени покрывал его старую провинность.
Это было давно, когда Рыжков хищничал по притокам Гилюя и однажды осенью заблудился в тайге. Несколько дней он пробирался то сквозь пахучую молодь лиственницы, то брел темными ельниками по гниющему замшелому валежнику, по кочкам переходил через лесные болотца с водой, усыпанной желтыми и красными листьями. Однажды в светло-сером осиннике он увидел двух сохатых: буланую безрогую лосиху и лосенка. Они сдирали с деревьев кору, и, глядя на них из-за кустов, Рыжков только крякнул с досады, потом выпрямился, громко гаркнул и долго стоял, слушая, как разносится по лесу удалявшийся треск ветвей.
Он ослабел, но все шел, пробавляясь ягодами и сырыми грибами, на юго-запад, пока не дошел до хребта Тукурингра, на высотах которого копытами кабарги и горных баранов были выбиты торные тропы.
Ночью недалеко от места, где Афанасий расположился на отдых, бродил медведь. Заслышав тяжелую походку косолапого костоправа, Рыжков подтянул поближе суковатую дубину и привстал в ожидании. Однако медведь был настроен миролюбиво. Он пошарил в кустах, уркая, ушел ниже в распадок и там, скрытый ночным туманом, долго забавлялся – отгибал дранину от расщепленного бурей дерева: отдерет, потом отпустит и слушает, как застонет она, с жалобным гудением ударяясь о ствол.
Когда солнце разогнало туман, Рыжков увидел с утеса серебряные излучины реки Гилюй, спустился вниз и побрел берегом по едва приметной дорожке. Тут он и встретился впервые с молодым Забродиным.
Забродин шел тоже один, ведя в поводу навьюченную лошадь. Он дал Рыжкову хлеба и отправился дальше, очень неясно объяснив цель своего путешествия. Рыжков и не старался особенно расспрашивать, а верстах в двадцати от места встречи наткнулся на мертвого китайца. Китаец был убит ударом кинжала в спину…
Позднее на прииске заговорили об исчезновении известного спиртоноса, который ушел с Васькой Забродиным и пропал. Посланные для розыска стражники изловили Забродина и доставили к уряднику. Урядник продержал его месяца полтора в кутузке и за недостатком улик выпустил.
Тут бы и вступиться Рыжкову, но он собирался с семьей в район Джалинды и побоялся, что его затаскают по судам. Скорый на руку урядник всыпал бы одинаково и правому и виноватому. Могло и так случиться, что Забродин, имея деньги, откупился бы, а Рыжкову самому приписали бы убийство китайца. Он решил смолчать, а потом считал, что времени прошло много и никому не интересно разбирать старое дело. Привычка хищника держаться подальше от всякого начальства вынудила его оставить убийцу ненаказанным.
Теперь Рыжков сидел, упираясь локтями в колени, и думал: «Надо было в прошлый раз на Незаметном пойти в домзак и сказать: „Припаяйте ему, товарищи, покрепче, он еще в старое время человека убил“. Но кто же знал, что его так скоро выпустят? Говорили ведь, что он выслан из района».
– Футболом интересуешься? – раздался позади Рыжкова хрипловатый голос.
По ту сторону скамейки стоял Потатуев в сером пиджаке. Обрюзглое лицо его багрово блестело из-под белой фуражки. Воротник рубашки потемнел от пота.
– Развлекается молодежь, – продолжал Потатуев с грубоватым смешком и сел рядом с Афанасием, – играет ветреная младость, а нам, старикам, в могилку пора.
Рыжков промолчал: все еще сердился на Потатуева за напрасную работу в артели «Труд».
– Что молчишь, богатый стал?
– С вами разбогатеешь!
– Кто же тебе велит в забое торчать? Просись в сменные мастера.
– Грамота моя того не дозволяет.
– В горном деле на одной грамоте далеко не уедешь. Практики нам нужны, а практика у тебя изрядная. Могу написать тебе записку на третью шахту к смотрителю, нужен мне верный человек.
– Да я уже приобык на своем месте.
– Приобыкнуть везде можно. Стал бы мастером, завоевал бы авторитет среди рабочих…
– Как бы это я завоевал его?
– Ну, мало ли как… Замером, например… Тому прибавишь, другому. Надо ведь поддерживать своего брата рабочего.
Рыжков не понял, испытывал ли его Потатуев или говорил всерьез, но сразу отрезал напрямик:
– Зачем лодырей плодить? Это уж вроде мошенства. Другое дело, кабы у хозяина… Там все на том стояло, кто кого обжулит.
Потатуев в замешательстве потрогал тесный воротник рубашки, сказал с заминкой:
– Экий ты несуразный – шутки не понимаешь.
– Знаем мы ваши шутки, – угрюмо ответил Рыжков, – боком они нам выходят.
Потатуев посмотрел с изумлением:
– Где с тобой так шутили?
– На Пролетарке. Поставили людей на пустоту, и горя мало.
– Голубчик ты мой, к чему ты это вспомянул? Обстоятельство, никакого отношения к разговору не имеющее. – Потатуев напряженно захохотал, но встретился со взглядом Рыжкова и сразу оборвал смех: синие глаза старателя горели бешенством. Теперь он сидел выпрямившись, упирался ладонями о края скамейки и сверху вниз смотрел на Потатуева.
– Смешно вам? А по-моему, это самое прямое отношение к разговору имеет. Беззаботно вы к людям относитесь. Подумаешь, благодетель нашелся за чужой счет!
– Что ты взбеленился, Афанасий Лаврентьевич? Мы с тобой раньше дружно жили.
– Еще бы! Золото у меня скупал, было из-за чего дружить!
Потатуев испуганно оглянулся и сердито сказал:
– Перестань чушь пороть. Я не мальчик, чтобы меня разыгрывать!
Рыжков наклонился к нему, касаясь бородой его уха, жарко зашептал:
– Забыли, как с Санькой Степанозой переправляли краденое хозяйское золото? Когда у Титова-то служили… Эх вы, гусь лапчатый! Верой-правдой служили и себя не забывали! А золото, что скупали у старателей в двадцать четвертом году, куда девали? С этим-то навряд ли расстались! – Рыжков посмотрел на трясущиеся губы Потатуева и отвернулся с отвращением: – Все под себя гребете, а над чужой бедой похохатываете! Стыдиться надо бы… – Встал и крупными шагами пошел прочь, забыв даже о Забродине и убитой Надежде.
Дверь в квартире не заперта, но Акимовны дома не было. В кухне на полу валялось опрокинутое сито, тонкий мучной след тянулся к нему от стола. На лавке в незакрытой квашне кисло тесто. Увидев этот беспорядок, Рыжков снова больно ощутил, что Надежды уже нет. Вот и жена побежала туда, бросив все свои дела, даже дверь забыла прикрыть.
Медленно, точно связанный, Рыжков вышел на крылечко и посмотрел в сторону дома, где жила Надежда. Там толпился народ. Конные милиционеры проскакали по каменистой дороге.
«Видно, ушел Васька-то, – подумал Рыжков, и ему стало невыносимо жаль, что Забродин мог уйти. Запоздалый тяжелый гнев овладел горняком. Он сжал кулак, с силой опустил его на теплые от солнца перила. „Дать бы ему раза, рылом бы его об стенку. Убил человека и смылся“.
С трудом преодолев волнение и томительную жалость, он через несколько минут вошел в дом Надежды.
В комнате плакала Акимовна, тихо разговаривали женщины, слышался плеск воды.
В коридоре на ящике сидел Черепанов, закрыв лицо руками.
– Ну как, Устиныч? – участливо спросил Рыжков и, почувствовав, что сказал пустое, смущенно переступил с ноги на ногу.
Черепанов поднял голову.
– Ушел, – сказал он незнакомым, глухим голосом.
– А она? – опять смущаясь своей бестолковостью, спросил Рыжков.
Черепанов пошевелил губами и вдруг зарыдал, по-мальчишески вытирая кепкой бегущие слезы.
18
Заведующий шахтой Локтев, нагнувшись, трусил рысцой по просечке, покачивая жестяным фонариком. Из мрака выступали в неверном, скользящем свете мокрые бревна-огнива – поперечное крепление низко нависшего потолка, – размочаленные концы палей, жердей сплошного продольного настила над огнивами, светлые раны изломов на лопнувших от давления подхватах.
Черепанов не отставал от Локтева. Мрак заброшенной просечки навевал на него невыразимую тоску. В такой же темноте лежала теперь Надежда. Совсем близко… в каком-нибудь километре – только проложить ход под землей. Черепанов бежал легко, но чуть не задохся от горестной судорожной спазмы в горле. Такая светлая была Надежда и добрая, и вдруг это дикое зверство, эта кровь, безжалостно пролитая, эти красные следы босых маленьких ног на белом полу. Холодные капли воды срывались с потолка, падали на шею Черепанова, не покрытую шахтеркой, и он все больше горбился, торопливо шагая за Локтевым. Толстый пухлолицый Локтев в шахте был куда проворнее, чем наверху. Он цепко спускался по крутым лесенкам, легко проскальзывал в узкие отверстия на лестничных переходах.
„Вот он вполне определил себя в жизни и доволен“, – с грустной завистью думал Черепанов, припоминая чистенькую квартирку Локтева, наполненную детским смехом и щебетом. Он вспомнил также Лушу и Сергея и то возмущение, которое вызвала у них смерть Надежды.
– Я убил бы его там, как бешеную собаку, – заявил Ли. – Таких негодяев нельзя держать на земле!
– Да, дорогой товарищ, таким не место на нашей земле, и, однако, они существуют, – сказал Черепанов вслух.
– О чем ты? – спросил Локтев, оглядываясь.
Они свернули в новую просечку, довольно людную, затем в светлый высокий коридор-штрек. В нем было очень оживленно.
– Сейчас перерыв, – сообщил Локтев, слегка задыхаясь, и потушил свечку. – Пройдем в красный уголок, там у нас и столовая. Поговорим с ребятами, а потом в забой.
– Удивительно, – Черепанов тоже потушил свечу и вытер платком мокрую шею, – как ты рысью по шахте бегаешь и не худеешь!
В красном уголке у стоек буфета теснились шахтеры, что-то жевали, стучали мисками, кружками.
Среди них Черепанов сразу увидел Егора, который громко переговаривался с Точильщиковым. В одной руке Егор держал кружку с чаем, в другой – надкушенный пирог, рядом притиснулся к стойке Мишка Никитин.
– Технические нормы установлены не для того, чтобы их ломать, – рассудительно говорил Точильщиков. – Из-за тебя их другим увеличат. Заработок в звене делится поровну – значит и работать нужно ровно, не прыгать выше других.
Егор, сердито глядя на бодайбинца, сказал:
– Надо добиваться, чтобы платили каждому по работе, а не держаться за старую норму.
– Больше всех хочешь загребать.
– Да, на лодырей работать не хочу.
– Ты что, меня тоже за лодыря считаешь? – В голосе Мишки прозвучала обида.
– Брось ты! – отмахнулся Егор и сразу стушевался, увидев подходившего Черепанова.
После смерти Надежды Черепанов почернел с горя, и Егор чувствовал себя виноватым перед ним за свою прежнюю злую ревность.
– О чем спор? – спросил Черепанов.
– Насчет уравниловки. Милое прикрытие для лодырей! И насчет нормы тоже агитируют, морду посулили набить. „Все равно, говорят, получишь наравне с остальными“.
– С первого числа уравниловку ликвидируем, – сказал Локтев, положив пухлую ладонь на широкое плечо Мишки. – Вводится дифференциация.
– Как это понимать?
– Забойщик будет получать при стопроцентной норме девятый разряд, а откатчик – шестой.
Лицо Мишки омрачилось.
– Выходит, я стану меньше получать, чем до сих пор?
– Переходи в забойщики, – посоветовал Локтев. – Что ты за Нестерова держишься, когда сам можешь работать самостоятельно?
Звонок прекратил разговоры. Шахтеры поспешили к забоям.
– Я еще не успел тебе сказать, – обратился Локтев к Черепанову. – Был сегодня у меня заведующий техникой безопасности, походил по шахте и написал в книге распоряжений, что будет штрафовать сменных мастеров, широко применяющих подкайливание. Я с ним разругался. Прямо с верхней полки покрыл…
– Это зря, – укоризненно сказал Черепанов. – Ты член партии, инженер! Матом тут не поможешь.
– На днях в тресте опять написали инструкцию о том, где можно работать с подкалкой, где нельзя, – раздраженно продолжал Локтев. – В слабых грунтах подкалка по инструкции не применима, а у нас на Орочене грунта в большинстве слабые. Вот и потолкуй с бюрократами.
Черепанов посмотрел на огорченного Локтева и сразу представил всю серьезность положения, если уж такой добродушный человек вынужден был ругаться.
Егор подкайливал, а откатчики едва успевали подбирать породу, когда они пришли в его забой. Некоторое время оба молчали, наблюдая за слаженной работой звена.
– Как же ты расстанешься с Егором? – полушутя спросил Мишку Черепанов.
– В одной смене работать будем, – весело сказал Мишка, уже решивший свою дальнейшую судьбу и горевший нетерпением приступить к делу. – Завтра попробую сам подкайливать, а потом перейду в самостоятельный забой.
– А остальной народ интересуется? – обратился Черепанов к Егору.
– Очень даже! Ходят, смотрят.
– Надо собрание устроить по этому поводу, – сказал Локтев. – Скоро в шахтах установим ленточные транспортеры; но только при работе с подкалкой они будут загружены полностью.
– Сначала мобилизуем общественное мнение через печать, – возразил Черепанов. – Я хочу посмотреть, как работают, и тоже напишу в газету.
– Работали бы мы хорошо, да инструмент никуда не годится, – сказал Егор, не скрыв раздражения. – Третье кайло откидываю сегодня. Утром мягкое попалось, остальные ломаются.
– Никитин, найди срочно сменного мастера и позови сюда, – приказал Локтев Мишке. – Я его сейчас раскатаю!
Черепанов поднял кайло, потрогал сломанный носок.
– Перекал при оттяжке в кузнице. С кузницы надо начинать, а не с мастера.
Глядя на допотопное орудие труда, простое, ловкое, для всех доступное, Черепанов подумал о великом значении рабочей смекалки и вдруг с острой болью, обжигающей душу, представил это орудие в руках убийцы. Он даже прослушал, как Локтев озабоченно сказал:
– В кузнице я вчера был. Ведь в других забоях тоже жаловались. Кузнецы хорошо работают. Я половину инструмента там проверил, ни одного кайла забраковать нельзя. Откуда же мастер плохие берет? Выброшу я его отсюда. Пусть летит на все четыре стороны…
– Слушай, Нестеров, напиши сам письмо в „Алданский рабочий“, – встрепенувшись, предложил Черепанов, перебивая Локтева.
– Какое письмо? О чем?
– О своей работе. Напиши, как сделался ударником. Подробно объясни метод подкалки, чтобы заинтересовать других.
Егор сконфузился: такое сообщение в газете о самом себе представилось ему несусветным хвастовством, но, чтобы не обидеть отказом партийного секретаря, он сказал уклончиво:
– Заинтересовать письмом мне трудно будет. Я никогда ничего подобного не писал.
– Напиши, напиши! – обрадованно заговорил Локтев. – Изложи факты и приходи ко мне, вдвоем еще обдумаем, и я помогу тебе сделать статью для газеты. – Но вдруг добродушно сиявшее лицо Локтева приняло суровое выражение и даже как будто похудело: он увидел подходившего к забою Колабина.
– Скажи на милость, откуда вы берете такой инструмент? – Заведующий шахтой поднял с полу брошенное Егором кайло, сунул его к самому носу мастера. – В кузнице инструмент что надо, а попадает сюда… – Локтев не выдержал до конца спокойно-вежливого тона, сорвался на крик: – Показательные работы в забое – и такой подрыв! Завтра получите расчет!
– Товарищ Черепанов, ведь несправедливость получается! – взмолился Колабин. – Я не могу проверять каждое кайло!
– Каждое проверять не можете, а за порядком следить обязаны. Локтев правильно говорит: забой у Нестерова показательный, а вы ему условия не создаете. Пора решительно отказаться от старой практики.
19
– Здорово выходит! – восхищенно говорил Мишка, поглаживая ладонью лист бумаги, крупно исписанный карандашом. – Мы с тобой, Егора, помнишь, весной работали… По шахте наше звено хорошим считалось. Одним из лучших! Но больше двух кубов на человека мы не давали при всем нашем старании. А теперь у нас за смену по четыре и четыре с половиной кубометра. Как же раньше никто не сообразил, что нужно не только силой брать, но и сноровкой?
Егор не ответил, взял письмо, начал перечитывать его, беззвучно шевеля губами.
– Так, значит… – сказал он вслух, – при слабом грунте сантиметров тридцать… В крепком – до восьмидесяти.
Мишка изучающе пытливо поглядел на него:
– Чудно мне, Егора, как это ты молчал, молчал и надумал! Я работать хорошо могу, а обдумывать не в моей натуре. – Мишка закурил и присел рядом с Егором на его койке. Оба жили теперь в одной комнате в Доме ударника. Некоторое время сидели молча. Нетерпеливый Никитин первый нарушил молчание.
– Пойдешь к Локтеву, спроси, продвинул ли он вопрос насчет железных тачек. Пускай в самом деле создают условия. Ты как предполагаешь, будет народ переходить на подкалку?
– Должны бы!.. Чего ради отказываться? Затрата энергии та же, а выработка в двойном размере. Глупость будет, если кто не захочет.
– Очень даже просто, что некоторые не захотят. Научились начинать с завески огнива, вот и будут его завешивать… Непременно найдутся крикуны: почему, мол, Егор умнее нас оказался?
– Пусть покричат. – Егор застегнул воротник косоворотки и, надев кепку, положил в карман пиджака свернутое письмо.
– Я от Локтева еще к Марусе зайду, – сказал он задумчиво. – Ты ступай в клуб один, не жди меня.
Егор всегда долго засиживался у Рыжковых, получивших теперь отдельную двухкомнатную квартиру на Орочене. Если Маруся отсутствовала, поджидал ее, разговаривая с отцом; а когда заставал дома – не было сил опять идти в свою холостяцкую комнату.
Конечно, Мишка Никитин хороший товарищ, и жизнь у них с каждым днем полнее становилась, но семья Рыжковых по-прежнему неодолимо притягивала Егора. Однажды он попробовал набраться твердости и не ходил к ним почти полмесяца, но до того измучился и похудел, что, когда явился в выходной день, Акимовна ахнула:
– Совсем замордовался парень! Вот она, ударная-то работа! А мой Афоня ничего, господь с ним… да еще ровно помолодел.
На этот раз Маруся оказалась дома, что бывало довольно редко. Она сидела у окна в столовой и шила, легко постукивая машинкой. Кровать стариков в углу, покрытая новым одеялом, стояла нетронутой, видимо, Рыжков еще не отдыхал (он работал с Егором в одной шахте, но в разных сменах).
– Отец где? – спросил Егор, снимая кепку в дверях комнаты.
– В баню отправился. Что же ты стоишь, проходи!
Егор вошел в комнату, сел напротив Маруси у стола, положив на клеенку большие, чисто вымытые руки.
– Давно я тебя не видел! – Он потрогал за край тонкое, легкое шитье, ползущее с машины. – Шьешь… Что это будет?
– Что-нибудь да будет. Не тяни, а то шлепну!..
– Ну, шлепни, – попросил он, влюбленно разглядывая ее длинные полуопущенные ресницы. Светлый пушок золотился на смугловато-румяном лице и крепких руках девушки. Кашлянув, Егор сказал хрипловатым от волнения голосом: – Интересное дело: сама ты смуглая, а волосы у тебя русые.
– Какая есть! – Она взглянула почему-то вдруг сердитыми карими глазами и покраснела.
– Вот и рассердилась… Я потому говорю, что мне каждая малость в тебе нравится. Только ты меня совсем с толку сбила, я даже не знаю, как подойти.
Егор замолчал. Тихо в квартире, только машинка постукивала слегка да бойко тикал на посудном шкафчике круглый будильник. От этого молчания, которое билось в ушах Егора нараставшим звоном, лицо девушки еще посуровело, но щеки так и горели.
– Маруся! – решительно сказал Егор.
Она вздрогнула и подняла на него блестящие глаза.
– Ну? – Во взгляде были нежность и ожидание, а голос звучал сухо. Он слышал только голос, потому что в этот момент не глядел на нее.
– Слушай, брось ты волынить, выходи за меня замуж, – твердо предложил Егор и заторопился, не давая ей времени возразить: – Люблю я тебя уж не первый год! Сама знаешь, человек я не вздорный. Если и было чего (она нахмурилась, неприятно задетая), так я сам о том сто раз пожалел.
Он наклонился через стол, умоляюще и зовуще посмотрел близко в ее лицо.
Маруся покачала головой.
– Нет, Егор, подожди говорить об этом… – Увидела, как задрожали у него губы, стало жаль его, так жаль, что в пору заплакать. „Какая нервная барышня стала!“ – подумала Маруся о себе с издевкой, не понимая, что ее неожиданное смятение оттого, что она уже любила Егора. – Ты еще совсем молодой!
– А старому жениться незачем, – сказал он упавшим голосом.
Снова она отталкивала его. Это становилось просто невыносимым.
– Я бы тебя ни в чем не стеснял, все-таки научился уже отличать плохое от хорошего.
– Погоди, нам сейчас учиться нужно…
– Не хочу я годить! Я тебе вот что скажу: кабы любила ты меня, не стала бы так рассуждать. Года у меня самые хорошие, а тебе, выходит, старика ученого надо? Эх, Маруся! Как же студенты на студентках женятся? Стало быть, семейная жизнь ученью не помеха…
– Еще какая! Вам-то, мужчинам, конечно, ничего, а у нас дети родятся… „Студенты женятся“! Свадьбу сыграть недолго, но он вперед выучится, а она с ребенком останется на бобах.
– Значит, любви не было, ежели останется на бобах. – Егор встал, комкая в руках кепку. – Видно, не столковаться нам, Марья Афанасьевна. Вы бы мне прямо сказали: противен я вам, что ли… Я бы тогда перевелся отсюда, хоть на Куронах. Пропаду я здесь!
– Зачем мне наговаривать, чего нет, вовсе ты мне не противен. Скучно тебе… так поухаживай за кем-нибудь, вон сколько девчонок понаехало!
На такие слова (не совсем, впрочем, искренние) Егор только поморщился, махнул рукой и тихо вышел из комнаты.
Маруся подбежала к открытому окну и последила из-за занавески, как шел он по улице. Две девушки, встретясь с ним, долго оглядывались на него, хохоча и подталкивая друг друга.
„А что, если и взаправду начнет ухаживать? – подумала Маруся, неприятно задетая и даже возмущенная поведением девчат… Такая возможность показалась ей немыслимой. – Захочу выйти за него замуж, когда ему уже другая понравится“.
20
– Удивительнее чувство – любовь! – задумчиво говорил Сергей Ли. – Встречаешься с женщиной, разговариваешь с ней и спокоен. И вдруг в один день, в один час все меняется. Тот же человек, но ты беспрерывно думаешь о нем, волнуешься, стремишься к нему. Что тут происходит, Мирон?
– Не знаю, Ли. Может быть, секретарю парткома не полагается так говорить, но не знаю. Вот совладать с этим чувством можно: ходу ему не дать, подавить его силой разума, если чувствуешь, что выбор ошибочный. А как появляется оно? По-видимому, стечение многих обстоятельств, а не просто искра роковая.
Оба остановились на увале и, наверное, в сотый раз залюбовались знакомым видом: там новый дом вырос, там еще одна линия деревянных сплоток-шлюзов повела воду на склон горы. Растет производство, ширится!
Но на лице Черепанова нет выражения прежней ясности: брови хмуро сдвинуты, а по углам рта резко прорезались морщины, придавая горечь улыбке. Он и Сергей Ли шли на совещание, героем которого, „именинником“, как шутя называли его, был Егор, шли и разговорились о любви его к Марусе, о том, что это была бы замечательная пара.
– Как я хотел, чтобы Надя расцвела для меня… – с грустью признался Черепанов. – Скажешь – эгоист! Но ведь она не видела радости… Что она хорошего видела? Да и я еще не испытал семейной жизни, то молод был – учился, то тайга глухая – женщин мало. А когда полюбил – не повезло…
– Не надо, Мирон, травить себя! Я понимаю, рана свежая, болит. Луша до сих пор плачет, как вспомнит, и мне жалко. Очень!
– А как ты полюбил Лушу? – спросил Черепанов.
Ли покосился на него, не желая показывать сейчас своего счастья, но невольно просиял.
– Очень просто. Хотя нет, не просто. Ходили вместе в вечернюю школу, подружились, сидели за одним столом. И все ничего. Тоненькая, черненькая девочка, хохотушка. Не замечал в ней женщины. – Ли сорвал на ходу прутик каменной березы и, ощипывая мелкие листочки, продолжал уже серьезно: – Вот ходили и ходили в школу. Один год. Другой. Ко как-то раз я заболел и не был с неделю. Весна уже наступила. Тепло такое! Ночи белые. Иду в школу с тетрадками и чувствую – неспокойно мне. Подхожу, а на крыльце стоит Луша, прислонилась к перилам и молчит, смотрит на меня. И я остановился. Смотрю – она и не она. На лице румянец. Глаза широко открытые, черные, смеются и не смеются, и вся тянется ко мне, не сходя с места. Я тогда чуть с ума не сошел от радости. Почувствовал: что-то большое вошло в мою душу, без чего жить дальше нельзя. Мы опять сели рядом за стол, но не учились: ничего не понимали. Только слушали и понимали друг друга. И с тех пор не разлучались.
– Хорошо! – сказал Черепанов без зависти, но и без участия: слишком тяжело ему было, чтобы радоваться сердечному успеху приятеля.
Ли почувствовал это.
– Мне думается, совещание будет бурным, – перевел он разговор на другое. – Я в последние дни все шахты обошел. Почти со всеми забойщиками потолковал. Сомневаются многие, а ведь бесспорный вопрос…
– Не трансцендентный? – с неожиданным лукавым ехидством спросил оживившийся Черепанов.
Ли заметно смутился.
– Ты брось! – сказал он, улыбаясь. – Я теперь эти кирпичи только для себя откладываю.
Совещание еще не начиналось. Егор то и дело доставал из кармана свернутый номер „Алданского рабочего“, находил свою статью и с удовольствием перечитывал четкий заголовок: „Новые методы работы“. Внизу так же четко набрано: „Егор Нестеров“. Текст, очень складно составленный Локтевым, Егор запомнил почти наизусть.
„Знатным человеком стал, – думал он. – Теперь эту газетку по всему району читают и, наверно, интересуются, кто такой Егор Нестеров“.
Вчера из Куронахского приискового управления приезжали забойщики-ударники для ознакомления с его работой. Егор даже растерялся, когда к нему в забой явилась целая группа в сопровождении Локтева и Сергея Ли.
– Давай инструктируй товарищей, – сказал Локтев, весело подмигивая Егору круглым глазом. Он гордился тем, что подкалка возникла на его шахте, и носился с ней, как со своей собственной идеей. Косность ороченских горняков огорчала его не меньше, чем Егора.
Егор вспомнил оживленные лица куронахцев, долгую беседу с ними прямо в забое и в столовой после смены, удивленно подумал: „Инструктор какой выискался! Ведь ты, Егор Григорьевич, еще малограмотный“.
– Скорей бы начинали, – сказал подошедший к нему Рыжков. Теперь, когда о подкалке написали в газете, Рыжков проникся особенным уважением к молодому Егору.
Газету ему прочитали сначала в красном уголке шахты, потом он долго разбирал ее по складам дома.
– В большие люди пошел Егор, – сказал он Акимовне. – Сколько я его расспрашивал про эту подкалку, не раз сам ходил глядеть, а все сомненье какое-то… Так и другие сомневаются. Вот посмотрим, что на производственном совещании решат.
Совещание вышло очень бурным.
– Мы сюда приехали зарабатывать, а не учиться, – откровенно высказался кривой Григорий, работавший теперь тоже на первой шахте. – Человек не машина. Там переставил винты и пошел наворачивать по-новому, а я этак не могу! Ежели мы увеличим производительность, нам прибавят технорму. А потом опять тянись!
– Хорош у Серка обычай: хоть не везет, да ржет! – крикнул кто-то с места.
– Что такое есть эта самая подкалка? – сказал Точильщиков и встал между скамейками, сутуля угловатые плечи. – Это есть нарушение всяких понятий о ведении правильного забоя. Я как ударник даю сто двадцать процентов нормы. Мой рабочий день и так уплотненный до отказа. Переходить на новые методы отказываюсь. У нас на Орочене грунты слабые и Получатся сплошные кумпола.
Рыжков слушал выступавших, поглядывая на лицо Егора, залитое неспокойным румянцем, думал и не мог придумать, на что решиться.
Грунт на Орочене действительно слабый, и это было главным козырем у противников подкалки.
Мнения шахтеров разделились. Споры возникали между соседями, между отдельными группами. У дверей, где набились курильщики, в густом табачном дыму стоял сплошной гул. Черепанов, сидевший в президиуме на сцене клуба, сердито моргал председателю собрания, председатель хватал колокольчик и потрясал им, но только усиливал шум в зале.
Ли, пошептавшись с Черепановым, попросил слова.
– Я, товарищи, кровно заинтересован в применении подкалки, – сказал он, выйдя к рампе. – Насильно мы, конечно, никого не тянем. Только получается странно: людям дают возможность облегчить труд, а они отказываются…
– У нас сыпучка! – крикнули из задних рядов.
– Нестеров сам начал работать в слабом грунте. И у него не было опыта, который он может передать вам теперь.




































