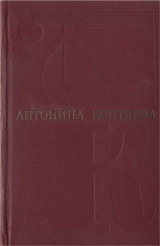
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
На Егора они произвели иное впечатление.
– Ишь, наловчился! – хмурясь, говорил он о Сергее Ли. – Будто заправский ученый лектор. А ведь свой брат – рабочая косточка. Пришел на Алдан неграмотным, ходил в рваных штанах с мотней. А теперь куда махнул! Гляди, еще высшую школу одолеет.
– Этот одолеет, – подтвердил Мишка. – А ты не хочешь на производство идти… Смотри, что делает с человеком настоящая-то работа!
6
Постепенно старатели уходили из артели «Труд» и нанимались в шахты. Надежда давно уже поступила помощницей повара в столовую, ушел и Егор. Только Рыжков упрямился, не желая покидать обжитого места.
– Сегодня я перейду, а завтра в какой-нибудь просечке хорошее золото объявится! – говорил он. – Не всем на шахты идти. Этак и стараться будет некому. Пускай Егор в шахте ударничает, а я по-стариковски на делянке. Нам, старателям, теперь по новому закону большая легкость объявлена.
– Да ты хоть о дочери порадел бы, – пилила его потихоньку Акимовна. – Бегает девчонка, мается, каждый день в такую даль. Перешел бы на шахту, вместе квартиру получили бы. Надо и мне отдохнуть – слава богу, не молоденькая!
– А кто тебя заставляет? Теперь нужды в твоей работе не видно.
– Просят ребята, как же я буду сидеть сложа руки, когда обед сварить некому? Да и заработок у тебя, Афоня, невелик. У Маруси брать не хочу, пускай приоденется девка. Пора ей к месту пристроиться, женихи возле нее так и похаживают. – Акимовна озабоченно пригорюнилась. «Вырастила дитя, а теперь отдай неизвестно кому. Какой еще попадется!»
Рыжков смотрел на дело иначе:
«Теперь ее пристраивать нечего, она у места».
Он гордился дочерью, и ему было приятно, что она самостоятельно устраивает свою жизнь.
Однажды в выходной день он привез с Орочена на грузовике широкие тесины и длинные брусья. Народу в бараке осталось мало, и семья Рыжкова занимала теперь целую его половину.
Когда отогрелись привезенные доски, Рыжков засучил рукава, достал из-под койки сундучок с плотницким инструментом и, не обращая внимания на грустные вздохи жены, принялся за работу. Он прибил новую полку для посуды, установил посредине жилья два вертикальных бруса и начал обстругивать тес, использовав вместо верстака нары; намусорил опилками и стружками, надымил махоркой и своим деловым азартом одолел наконец деланное равнодушие Акимовны.
– Чего же это будет? – спросила она, кивая на брусья. – Качели, что ли?
– Выдумывай! – Рыжков раздумчиво пригладил кудлатую бороду, прикинул, как лучше разрезать доску, и взялся за пилу. – Подержи-ка тот край маленько. Заборку хочу сделать. Чтобы как в настоящем доме комната была. Лишние нары теперь можно выбросить, пол подтешу… Пускай ребята в той половине сами красоту наведут, а ты в этой стены побели. Насчет известки я уже договорился с завхозом. Такое помещение получится – любо-дорого!
– Тесу-то где взял?
– В хозотделе выпросил.
Он работал целый день. Когда начали собираться остальные старатели, заборка была уже готова, а на брусьях вместо двери висела занавеска.
– Кажись, не туда попал! – сказал, вваливаясь через порог, пьяный Зуев, хотел повернуть обратно, но, увидев Акимовну, остановился. – Устроились, как в жилухе, мамаша, то-то я и гляжу, будто барак изменился. – Он сел на нары и промолвил уныло: – Было бы у меня семейство, я бы тоже своим домом жил. Деточки, внучаточки… цыпляточки… Ну, что я такое есть? Кругом один… Накопил на сберкнижку четыреста рубликов и в два дня все спустил. Будь жена, разве бы она допустила?
– Кто же тебе не велел жениться? – сказал Рыжков с чувством невольного превосходства.
– Легкое дело! Как это стал бы я по тайгам таскаться, имея семейное положение?
– Другие люди таскались?..
– То люди… Не всякая пошла бы за бродяжку. Да еще каторжником был. Тоже надо, значит, понятие иметь… – Старик с трудом стащил пимы, сунул их к печке и полез на нары, где долго еще вздыхал, бормотал и ворочался.
Удивилась и Маруся, придя домой поздно вечером (выходные дни она проводила на Орочене: то в клубе, то в комсомольской ячейке), осмотрела ремонт, сделанный в бараке, но, заметив довольное лицо отца и хмурость матери, взгрустнула. Значит, он и не думает переходить на хозяйские, а она только что разговаривала с инженером Локтевым, заведующим шахтой, где работал Егор и где открывали учебные забои для новых рабочих. Локтев по совету Черепанова справлялся о Рыжкове, и Маруся обещала поговорить с отцом, но теперь не знала, как к нему подступиться. Вот он сидит у окна, кудлатый, широкогрудый, посверкивая густо-синими глазами, подшивает валенок Акимовны. Тяжелые руки его выпачканы варом. Видно, что он спокоен и всем доволен. Золото, правда, плохое, но есть надежда на лучшее. Не зря же пришлось проделать такую огромную подготовительную работу.
«Сколько тянулись, чуть не замерли на одном черном хлебе. Как же теперь отступиться? Немыслимое дело!» Упорства и терпения у Рыжкова хватило бы на десятерых, и силы, что бродит в литых мускулах, не изжить еще долго.
– Надо тебе, Анюта, курей нынче завести, – сказал он Акимовне. – Кругом люди живностью обзаводятся. При огородах это прямой расчет. Ежели без огорода свинью держать, на нее корму не напасешься. А при своей картошке вырастет незаметно. На Среднем прииске, говорят, целая деревня появилась на правом увале, да и на Орочене возле каждого барака нагорожено – не то сады, не то огороды.
– На Среднем забойщики нужны для углубки новых шахт, – осторожно вставила Маруся, – и на ороченские шахты в учебные забои…
– Теперь прииска со всякими заборами да тынами – прямо как жилое место стали, – невозмутимо продолжал Рыжков. – И народ дольше заживаться начал, вот ведь что удивительно!
Маруся по детской еще привычке забралась на скамейку с ногами и, положив лицо на ладони, в упор разглядывала своего огромного тятеньку. «До чего хитрый, будто и не слыхал про забойщиков!» – думала она.
– Теперь любой старатель может при желании семью выписать: школы есть и все такое прочее. Пять-шесть лет назад здесь бабы наперечет были, а ребятишек и не замечалось, а сейчас от этой мелочи по улице не пройти, – продолжал рассуждать Рыжков о том, что дочери и жене было известно не хуже, чем ему. В праздных этих и необычных для него разговорах чувствовалось желание показать, что в положении старателя не требуется никаких перемен. Ясно, что он хотел предупредить любые попытки уговорить его уйти со старания.
– А мы скоро будем переезжать на Средний прииск, – сказала Маруся, выждав время, когда отец исчерпал свое красноречие и поневоле замолчал.
– Кто это «мы»? – удивленно спросил Рыжков, наклонив голову так, словно прицелился боднуть широким лбом, окаймленным русыми колечками спутанных волос.
– Управление ороченской группы переезжает. Теперь не на Орочене будет центр, а на Среднем: там работы еще крупнее открываются.
Маруся чуть заметно улыбнулась, довольная произведенным на отца впечатлением, подумала: «Ишь ведь, расходился со своим старанием!»
– А ты?.. – нерешительно спросила мать.
– Пока здесь останемся, ведь Орочен-то остается, и шахты, и все, а там видно будет. Отцу просили передать: может, он пойдет на первую шахту руководить учебным забоем? С Лены якутов прислали на горные работы, нужно их обучить, чтобы создать национальные кадры. Заведующий шахтой хочет с тобой лично переговорить.
Рыжков ответил неохотно:
– Какой из меня руководитель? – но по голосу чувствовалось, что он усмехнулся. Значит, понравилось ему, что шахтерам известно о его забойном мастерстве. Однако он спрятал усмешку и сказал сурово: – Вряд ли выйдет толк из якутов: они ведь вроде цыганов – народ легкий, бродячий, а земляная работа тяжелая, тут и сноровка нужна и сила.
– А ты попробуй, отец, – попросила Акимовна.
– Попробуй?! Как же это я свою работу брошу?
– Да ведь золото у вас неважное!
– Сегодня неважное, а завтра вдруг пофартит. Вон Точильщиков перешел на шахты, а все к нам бегает… беспокоится.
На другой половине барака уже спали. Акимовна сходила туда, подложила в печку дров, погасила там электрическую лампочку и вернулась к себе, почти с неприязнью глядя на ярко освещенную прорезь в заборке над печью и на полосу света, падавшую между занавеской и косяком двери.
«Ровно в клетку попали», – мелькнула у нее невеселая мысль.
– А на улице темным-темно. Ни звездочки, – сказала Маруся. – И снег опять пролетает.
– Теперь начнет снежку подваливать, – отозвалась Акимовна с задумчивым видом. – Вот когда тебе родиться, этакая же снежная зима была, помнишь, Афоня? Еще тогда хунхузы промышленника Хилкова убили…
– Как, чай, не помнить!
– Его ведь дорогой убили, – продолжала Акимовна с тем же отчужденно-грустным выражением, – а лошадь завернули с кошевой в лес, она и издохла в снегу. Дерево, у которого привязана была, почти до половины перегрызла, да тут и издохла, бедная. И он, убитый, в кошевке лежал… Помнишь, урядник со стражниками его искали, Хилкова-то?
– Как, чай, не помнить!
– В ту пору я разрешилась Марусей.
– А что, – заинтересовалась Маруся, – какая я была маленькая?
– Обнаковенно, как всякий ребенок. Отец сам вместо повитухи принимал.
– Неужели сам? – переспросила Маруся и удивленно посмотрела на его грубые руки. «Можно ли с такими ручищами? Ведь у новорожденного ребеночка все кости мягкие и головка болтается». Жалкий вид был у нее в этих мозолистых ладонях! Дрыгалась, наверное, словно лягушонок. Ей стало неудобно и за себя и за отца. – Как он не побоялся?
– Чего бояться? Жили мы с ним другой раз в такой глухоте – одни мужики, вот он и приобык. Всех-то вас я девятерых принесла. Четырех бабы принимали, а остальных ему привелось. Честь по чести. И ребенка обмоет и меня. Конечно, были женщины, которые в одиночку рожали, так ведь не у каждой такое здоровье, да и раз на раз не приходится. Одна у нас на Камрае утром, бывало, родит, сама все за собой уберет и сразу ходить начинает. К вечеру-то, глядишь, и воду носит, и дрова рубит… Да эдак вот надорвалась и стала в тридцать лет не человек. – Акимовна помолчала и, просветлев лицом, добавила с тихой гордостью: – Нет, мы с твоим отцом хорошо прожили, жалел он меня и берег. Только сама-то жизнь больно неспокойная была.
– Тятя, а это правда, что ты маму насильно увез?
– Придумала! Разве я татарин! Сама она за меня убегом ушла.
Однако мысли Рыжкова, потревоженные вопросом дочери, невольно обратились к прошлому. Верно сказал пьяненький Зуев: не всякая пошла бы за бездомного бродягу. Если разобраться: бродягой ведь был и Афанасий Рыжков. Не полюбила бы его Анна Акимовна, прожил бы в одиночестве. А раз полюбила – значит он стоит того, не на деньги польстилась – весь тут был. Рыжков весело взглянул на дочь. «Хорошая девка! Жалко, остальные померли, доброе вышло бы племя! Целая артель парней и девок. И каждому теперь нашлось бы место и дело…»
* * *
Фарт опять ускользал от Рыжкова: золото тянулось все слабее, и старатели продолжали разбегаться из артели.
– Не одним хлебом сыт человек, – сказал в свое оправдание старик Зуев, прежде чем покинуть барак, – надо и на соточку заработать и на похмелку. Пускай китайцы, коли хотят, работают на слабинке, они народ непьющий, умеют сводить концы с концами! Пойду я на вольную разведку. Дело скоро к теплу, возьму еще двух стариков и потопаем в тайгу, может, амбарчик с золотом найдем – премию получим. А пока поживу в Незаметном. – С этими словами старик подтянул повыше котомочку, напялил на седую голову шапчонку и шагнул за порог.
Рыжков загрустил.
– Что же получается, Аннушка? – сказал он однажды жене. – Выходит, зря нас маяли два года на подготовке. Может, пойти мне теперь в учебный забой?
– Иди, отец! – горячо поддержала Акимовна.
Рыжков протянул еще с неделю, откладывая со дня на день, но золото не появлялось, и он пошел на шахту договариваться о работе.
Заведующий шахтой партиец Локтев сразу приглянулся ему своим круглым добрым лицом и тем, как внимательно посматривал он на всех ясными, тоже круглыми глазами.
– Давай, отец, определяйся, – весело сказал он Рыжкову. – Нам опытных горняков не хватает. Будешь якутов обучать, национальные кадры готовить.
– Неграмотный ведь я…
– Ничего, забойному делу можно без грамоты обучать. А вообще неграмотность надо ликвидировать. Дадим вам квартиру здесь, на Орочене, и сразу записывайся в ликбез. Дочка поможет заниматься… Хорошая у тебя дочка, товарищ Рыжков! Как это она до сих пор не обработала тебя насчет ликбеза?
– Отец ведь я… С какой стати она меня учить будет?
– Значит, крест ставишь на старании? – перевел Локтев разговор на другое.
Рыжков насупился, ответил уклончиво:
– Покуда перейду, а там видно будет. Боюся я, не выйдет из якутов толку в шахтах, они на воле привыкли: рыбачить да охотиться, или оленьи транспорты по тайге гонять.
– Привыкнут и на подземных работах. На Куронахе в молодежной шахте половина шахтеров – якуты. А шахта передовой числится.
Рыжков улыбнулся недоверчиво.
– Там комсомольцы, поди-ка… Эти напористые…
– Значит, опыт им передать легко, – сказал Локтев. – Ты на каких еще приисках бывал, кроме Алдана?
– На Джалинде, на Золотой горе, в Рифмановском руднике работал.
– На рудном, – одобрительно сказал Локтев, – хорошо, я очень рад. Дадим тебе четыре забоя, в каждом по три человека. Срок обучения звена – месяц. Потом вместо них новых поставим. Соседние забои тоже учебными будут. Понятно?
– Куда понятнее! – Рыжков помолчал, потом нерешительно спросил: – Не знаете ли вы, товарищ Локтев, как дела в артели, которая была организована из демобилизованных на Орочене? Так они и не нашли золота?
– Не нашли.
– Вот совпадение! Значит, не повезло и ребятам!
– Теперь они хорошую деляну получили.
– Потатуев становил в первый раз? – спросил Рыжков, помолчав.
Локтев утвердительно кивнул.
– Совсем закручинился старик, похудел. Неприятно ему, что опять ошибся в расчете.
Рыжков сказал жестко:
– Ничего, похудеть ему не мешает. Нам он тоже не потрафил, старый черт.
7
Маруся играла Липочку в пьесе Островского. Набеленная и нарумяненная, дородная от множества надетых одна на другую юбок, она действительно походила на купеческую дочку. Даже из первых рядов клубного зала трудно было узнать в Олимпиаде Самсоновне комсомолку с Пролетарки.
Хороша была мать ее Аграфена Кондратьевна – кассирша из старательского магазина, и в жизни толстуха. Неплохо играли сваха и Подхалюзин, и только черноволосый актер – Самсон Силыч – чуть не испортил все дело, выйдя на сцену в криво надетом седом парике.
Фетистов, увидев такой беспорядок, чуть не задернул занавес, но одумался и громко шепнул:
– Парик-то поправь, полбашки видно!
Пьеса, в общем, прошла живо. Островский пользовался у приискателей большим успехом.
Фетистов прислушался к аплодисментам, закурил и пошел к артистам. Маруся, уже переодетая в свое платье, снимала перед зеркалом остатки грима. Она покосилась на Фетистова смеющимися глазами, щеки ее блестели от вазелина.
– Ну, как? – спросила она.
– Здорово! Только Большов подгадил с париком.
– Что говорят?
– Публика-то? Очень даже довольны. Чего еще надо! Помнишь, на Незаметном эксцентриков-то смотрели… Никакого сравнения. У нас куда лучше, прямо настоящие артисты.
– Это уж ты преувеличиваешь! – весело возразила Маруся, приближая к зеркалу яркое лицо.
– Щеки не полагается пудрить, разве самую малость, – заметил Фетистов, заботливо, точно старая нянька, следивший за ее движениями.
– Откуда ты знаешь?
– Я все знаю. – Старик помолчал, моргая серенькими глазками, и добавил тихонько – Егора здесь. Я его в дырочку заприметил… В первых рядах сидел.
– Какое мне дело?.. – сухо бросила Маруся.
– Зря ты так…
– Почему зря? – Она отряхнула с платья пудру, взяла пальто, шаль, фетровые ботики и пошла через сцену в зрительный зал. Фетистов побрел следом за нею.
В центре зала, освобожденном от скамеек, танцевало несколько пар. Марусю встретили улыбками. Она передала Фетистову свою одежду, положила руку на плечо подбежавшего к ней стройного Колабина и закружилась с ним под звуки «Березки».
Возле входных дверей в группе нетанцующей молодежи она действительно увидела Егора. Он стоял, прислонясь плечом к нагроможденным скамейкам, и пристально глядел на нее. Маруся кивнула ему и, ласково улыбаясь, оживленно заговорила с Колабиным о каких-то пустяках. Она совсем не сознавала, что кокетничает с ним потому, что в мыслях у нее был Егор. Когда они опять проносились мимо дверей, Маруся отыскала взглядом лицо Егора и поразилась его суровому выражению. Теперь он не смотрел на нее!
«Надулся почему-то! Ну и пусть!» – подумала Маруся, однако не выдержала и снова взглянула в ту сторону. Егора в зале уже не было. Все оживление девушки сразу исчезло, хотя она не поняла, отчего так больно защемило у нее сердце.
– Довольно, у меня голова закружилась, – сказала она, поднимая на кавалера опечаленные глаза.
Колабин довел ее до Фетистова и сел рядом на скамейку, но Маруся уже не обращала на него никакого внимания. Она надела боты, пальто, повязала голову шалью и, вынув из кармана перчатки, посмотрела на старика.
– Домой? – удивленно спросил Фетистов.
– Да, ухожу.
– Проводить, что ли?
– Разрешите мне! – сказал Колабин и приподнялся, умоляюще глядя на нее. Лицо у него было румяное, с тонкими правильными чертами, голубые глаза по-девичьи красивы, но Маруся ответила холодно:
– Не надо, я привыкла без провожатых.
Девушка проскользнула мимо зрителей, толпившихся у входа в зал и вышла в просторное фойе. Там стояли группы курящих шахтеров, сквозь голубоватый дым белели на красном слова лозунгов.
Дверь в читальню была полуоткрыта. Маруся мимоходом заглянула в нее и попятилась: у стола в распахнутом полушубке сидел Егор. Перед ним лежал открытый журнал, но, облокотясь на стол и вцепившись всей пятерней в темные волосы, он смотрел куда-то в сторону. Девушка отступила быстро, но Егор повернулся еще быстрее, и взгляды их встретились. Сердце у нее так и заколотилось. Однако она постаралась принять равнодушный вид и произнесла почти спокойно:
– Журналы читаешь? Это хорошо. Тут есть совсем свежие.
Егор продолжал молча смотреть на нее, и Маруся решила, что уйти сейчас невозможно – он может подумать, что она уходит из-за него. Да мало ли что может взбрести ему в голову?
– Надо бы мне книги обменять сегодня… – сказала она, подходя к столу. Голос ее дрогнул, и она, рассердись на свое волнение, резко повернулась к дверям.
– Чего же ты танцевать бросила? – спросил Егор так робко, что Маруся сразу ободрилась, обретая обычную самоуверенность.
– Хорошего понемножку. Домой тороплюсь.
– Я провожу тебя?
– Как хочешь.
Егор помедлил – будто и правда раздумывая: идти с Марусей или остаться, – и легкими крупными шагами догнал ее у выхода из фойе. Некоторое время они шли молча. Было тихо. В долине над прииском высоко поднималось розовое зарево огней. Ночь стояла холодная, туманная, едва светили белесые звезды. Когда Маруся зябко повела плечами, Егор не увидел, а скорее почувствовал это движение.
– Замерзла?
– Нет, – ответила она, хотя с трудом удержалась, чтобы не застучать зубами.
– «Нет», а дрожишь! – Егор обнял ее, но она вывернулась, сказав сурово:
– Рукам воли не давай!
Ей сразу сделалось жарко, и она пошла тише.
– Как же в клубе обнималась с Колабиным?
– Это в танцах. Совсем другое дело.
– Другое дело, потому что со служащим. Конечно, с ним интереснее. Навылет его глазами простреляла, а он и так за тобой таскается, словно репей.
Слова Егора рассмешили Марусю. Меньше всего думала она о профессиях своих знакомых и ко всем относилась одинаково, только с Егором не могла держаться свободно: всегда он заставлял ее быть настороже. Этой зимой отношение к нему еще более осложнилось: теперь при встречах у нее начинали холодеть руки, билось сердце, и она нервничала, стараясь вернуть прежний насмешливо-спокойный тон.
Маруся замедлила шаги, искоса посмотрела на Егора. Он шел, опустив голову, полушубок на нем был распахнут, как там, в читальне.
– Что ты идешь такой растрепанный, еще простудишься! – сказала она, останавливаясь.
Егор стоял перед ней ссутулясь и угрюмо глядел в землю. Тогда Маруся сама поправила ему шарф и, сняв перчатку, застегнула пуговицы полушубка. Обоим стало хорошо, и они засмеялись.
– Какой ты чудной! Точно маленький, нельзя так, – сказала Маруся.
Егор взял ее озябшую руку своей горячей ладонью и, бережно держа, спрятал к себе в карман. Теперь девушка поневоле шагала, прижимаясь плечом к его плечу.
– Если бы я хоть немножко надеялся… что ты другого не выберешь… я бы набрался терпения и ждал. Не век тебе в девках сидеть, – говорил он, с трудом удерживаясь от желания схватить и расцеловать ее.
Маруся на ходу высвободила руку, слегка отстранилась.
– Обещать я ничего не могу. И выбирать никого не собираюсь. Мне сейчас для себя одной времени не хватает. То учеба, то в садике… Как у тебя работа в шахте? Соревнуешься?
– Недавно нас вызвали ребята-комсомольцы: давайте, мол, звено со звеном. Согласились мы с Мишкой. Он у меня откатчиком, – и еще один есть, но тот не очень поворотливый. Дали обязательство, чтобы без прогулов и норму выполнять не меньше ста процентов… – Егор помолчал, потом добавил с гордостью: – Знаешь, по скольку мы заработали в прошлом месяце? По триста сорок рублей на брата.
– Видишь, как хорошо теперь: все по-новому – и работа и товарищи, – сказала Маруся.
8
Договор о соревновании Егор подписал неохотно:
– Как можно загодя хвалиться? Дашь слово, а вдруг да не выполнишь?
Никитин сказал с легкой издевкой:
– Вдруг пришел к бабе друг, а она его весь вечер ждала. Постараемся выполнить. Прогулы-то от себя ведь зависят.
– А если будут простои не по нашей вине? – колебался Егор, глядя на свою корявую подпись.
– Хватит раздумывать! – Мишка взял бумагу из рук товарища. – Что, если бы тебе досталось дело государственной важности? Ты бы целый день, поди, сидел да замахивался!
Мишка взял карандаш, разгонисто подписался: «М. Ник.», дальше следовала петля, замысловатый росчерк и длиннейшая спираль.
– Вот! – удовлетворенно промолвил он. – От хорошей, брат, подписи многое зависит: сразу впечатление создается… А дело хорошее. Ударникам почет, премии разные. Зачем отказываться от этого? Мы ведь не монахи, постом и лодырью царства небесного не добиваемся.
Ночью Егор долго не мог заснуть. «Ударником заделался, – размышлял он, беспокойно перекатываясь с боку на бок. – Держись теперь, Егор Григорьевич, чтобы не осрамиться. Надо бы сократить в договоре по части общественных нагрузок. Уж очень много мы насулили! А все Мишка… Не дал обмозговать путем. Погоди, я тебя завтра погоняю с тачкой!»
В бараке было темно. Храпели вповалку на сплошных нарах усталые люди. Кто-то позвякал печной дверкой. Сильнее затрещало пламя, озарило красноватым светом дальние углы. Егор повернулся к Мишке. Тот дышал тихо, ровно. Егору стало досадно.
«Дрыхнет, как колода!» – подумал он, завидуя беззаботности Никитина, и потеребил приятеля за нос.
– Мишка!
Никитин заворочался, сладко почмокал спросонья губами.
– Чего ты, Егор?
– Думаю я.
– Конь пускай думает, у него голова большая…
– Мишка, договор-то мы подписали…
Никитин проснулся совсем, протяжно зевнул, тепло дохнув в лицо Егора.
– Заладила сорока про Якова!.. Ну подписали, в чем дело? Надо порядок навести в шахтах. Смотри, сколько прогулов да простоев. Лодырей расплодилось, как грибов поганых. Вот теперь их начнут трясти, только держись! Комсомольцы пошли на производство, партийцы… Раньше на службе находились, а теперь в забои рвутся.
Егор заговорил шепотом:
– С которыми мы соревноваться будем – ребята-силачи, и забойщик у них опытный, бодайбинец. Обставят они нас! Может, нам породу из забоя вынимать по-новому?
– Как еще по-новому? Чем ты ее возьмешь, кроме кайла?
– Думаю я, – повторил Егор нерешительно, – надо все-таки попробовать…
Он закурил, сел на постели. За окном текла темная, в мелких звездах, весенняя ночь; в темноте одиноко брехала собака.
– Знаешь, Миша, – заговорил Егор снова после долгого молчания, – я за последнее время подметил: сильнее ударяешь кайлом – только устаешь, а ударишь слабо, но с расчетом – и толку куда больше.
– Угу, – сонным голосом отозвался Мишка.
На другой день в шахте Егор был сосредоточен и угрюм. Всю смену он работал молча, почти с ожесточением. Звено, глядя на него, тоже подтянулось, но после замера Мишка сказал:
– Как хочешь, но без отдыхов я работать несогласный. С такой горячкой можно не больше недели протянуть. Запаришься и сдохнешь. Не понимаю, чего ты бесишься! Норму и так перевыполним, а если те больше дадут – ихнее счастье. Я человек независтливый.
Егор ответил не сразу.
– Зависть – это когда человек чего-то хочет для себя одного, – возразил он. – А тут артельно уговорились взяться за работу вперегонки. На весь район ославимся, как трепачи, ежели обещания не выполним.
Мишка покачал головой, смешливо поморщился.
– Угробишь ты нас! Не могу же я с тачкой рысью бегать.
Второй откатчик ничего не сказал, но вид у него был тоже усталый и недовольный.
Этот разговор заставил Егора крепко задуматься о том, как работать ровно, без натуги и срывов. Он начал приходить на шахту раньше своей смены, присматривался к работе других звеньев, изучал причины простоев, приставал к смотрителям с расспросами.
– В мастера ладит попасть, – говорили шахтеры, посмеиваясь над ним, когда он, широколобый, бровастый, сдвинув на затылок шапку, сновал по просечкам в неурочное время.
Иногда он заходил в читальню, брал журналы по горному делу, подолгу просиживал над ними, с трудом вчитывался, огорчаясь из-за своей малограмотности. Читальня толкнула его в вечернюю школу для взрослых. Он похудел. Серые глаза его беспокойно блестели.
– Когда ты женишься? – озабоченно спрашивал Мишка.
– А что? – смущаясь, отвечал Егор.
– Видимость у тебя такая – вот-вот психовать начнешь.
Однажды Мишка поинтересовался:
– Как у тебя с Марусей-то выходит дело?
Егор нахмурился, сердито отвернулся.
– Брось мучиться, – посоветовал Никитин. – Пойдем к другим девчатам. Парень ты видный, за тебя любая с радостью пойдет. Не хочешь? Ну, пес с тобой!
«Попробую подкайлить снизу, – решил после долгого раздумья Егор. – Возьму мелко, сантиметров на двадцать пять, а там видно будет. Только бы мастера не принесла нелегкая! Сунется с указкой под руку – все испортит».
Он послал откатчиков за лесом и начал подкайливать низ забоя. Когда они вскоре вернулись, большая груда накайленой породы уже ожидала их. Рабочие в недоумении переглянулись.
– Что ты тут вытворяешь? – крикнул Мишка, широко открытыми светлыми глазами уставясь на выклеванный Егором забой, и невольно выругался.
– Подкайливаю, – сказал Егор, упрямо продолжая работу. – Начинайте откатку, пока на подъемнике свободно.
– А придет мастер, что он скажет? Сделается кумпол – задавит и тебя и нас.
Егор нетерпеливо тряхнул головой, выпрямился и… неожиданно просительно улыбнулся:
– Небось обвала не будет. Я ведь рассчитываю: где грунт рыхлый, подкайливаю мелко. Доберусь доверху, тогда сразу закрепим. Вот какой валунище вынул, и совсем легко. Кабы можно было, я бы сам и кайлил и катал… Охота мне проверить, можно ли работать так…
– Умней инженеров хочешь быть! Подумаешь, проверщик нашелся! На то наука существует… Хотя почему бы и не попробовать? – сказал Мишка, сдаваясь, когда увидел, как омрачилось лицо Егора. – Подкайливай! Но ежели насыплешь, будешь помогать нам на откатке.
Никитин первый нагрузил тачку и увез ее на подъемник. Обратно по пустынным еще просечкам он мчался с нею рысью: ему показалось, что в забое зашумел обвал.
Егор удивленно обернулся на необычно тарахтящий бег тачки и громкий частый топот шагов…
– Живой еще? – Мишка с трудом перевел дыхание. – Бадейщица дремала у подъемника – не привыкла, чтобы сразу после смены начинали откатку. Я ее испугал. Заругалась. Только я сам сегодня тоже буду все время пугаться, покуда огнива не завесим. Как бы не загремело сверху.
9
На ступеньках крылечка скользко от весенней капели. Придерживаясь за столбик навеса, Маруся подтянулась повыше, отломила сверкающую сосульку, надкусив ее, ощутила во рту приятный пресноватый холодок.
«Ребятишек ругаем за это, а сама пример им подаю… А еще директор детского сада!» – укорила она себя весело и распахнула дверь в коридор общежития, где жила Надежда.
Небольшая, но очень светлая комната. На окне длинная марлевая штора, за ней вышитые занавески, посередине стол, накрытый полотняной скатертью. Жарко натоплено, пахнет свежевыпеченным хлебом – рядом кухня.
Маруся сняла пальто, боты и в одних чулках, неслышно ступая по вязаным половикам, подошла к деревянной кровати Надежды. Женщина спала. Казалось, она измучилась, упала и вот спит тяжелым сном. Шелковистые волосы рассыпались по подушке, губы полуоткрылись, словно от удушья. Такая сильная и в то же время беспомощная лежала она перед Марусей.
Девушка наклонилась над спящей, с любопытством вгляделась в ее странно измененное и все-таки красивое лицо. Какие-то тени бродят по ее белому лбу, брови беспокойно морщатся. Что видит она?.. Вот пошевелила губами, улыбнулась. Теперь она довольна, ей хорошо. Жалко, но придется разбудить.
– Эй, засоня! – тихонько позвала Маруся, садясь на край постели. – Что за мода спать днем? Цингу наспишь.
Надежда потянулась всем телом, приоткрыла синие, бессмысленные спросонья глаза.
– Какие у тебя большие зрачки! – сказала Маруся. – Да че-ерные!
– У кого же они белые-то бывают? – сонным, чуть охрипшим голосом спросила Надежда, обхватила юную подружку обеими руками, шутя опрокинула ее к стенке. – Ляжь, отдохни. Хватит тебе бегать. Я вот пришла с работы да так славно уснула. Сейчас встану, чай пить будем.
Надежда хотела встать, но Маруся удержала ее.
– Погоди, давай посплетничаем. – Села поудобнее, прикрыла подолом платья ноги, плотно натянув материю на коленях. – Что, о Забродине ничего не слыхать?
У Надежды скорбная складка привычно легла между бровями. Мысли о Забродине, очевидно, беспокоили ее. Она сразу потемнела и постарела.
– Нет, пока, слава богу, ничего не слышно. Выслали его, верно, чего ему здесь делать! Уверюсь, что так – живу, радуюсь, а подумаю: вернется, ровно камень на душу ляжет. Во сне вижу, будто я опять с ним, и плачу, аж сердце разрывается. Вот до чего он мне опостылел!
– А к сестре ехать не собираешься? – спросила Маруся, сочувственно глядя, как, разглаживаясь, мельчали на лбу женщины старящие ее морщинки.
– Да прижилась уже. И работа в больнице мне нравится. Я теперь вроде завхоза. – Надежда поймала взгляд Маруси, устремленный на окно, и, краснея, сказала: – Ты не подумай, марлю я не там взяла. В магазине продавался кусок.




































