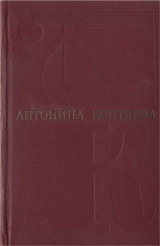
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
«Я должна переломить себя и выйти замуж за Виктора. Неужели никогда не смогу полюбить его?»
Она попробовала вообразить себя женой Ветлугина, и ей захотелось плакать, потому что никого не нужно ей было, кроме Андрея. Его голос, смех, каждую черточку лица она любила. Валентина даже зажмурилась, представив, как она подходит к нему и его руки встречают и обнимают ее. Неужели этого никогда не будет? Никогда… Валентина посмотрела на Маринку. Та, морщась от лучей низкого солнца, забавно изогнув полуоткрытые губы, пристально смотрела на приближавшегося вместе с берегом деда. Сходство ее с отцом ущемило и тронуло Саенко.
«Ой, да какая я несчастная! – судорожно вздохнула Валентина, вспоминая снова заразительный смех Андрея. – Нет, надо переломить себя! Надо забыть… Вот пока его нет, совсем не думать о нем, и, может быть, все пройдет. Должно пройти. Забыть! Забыть!» – твердила она, охваченная озлоблением на самое себя, на Андрея, на Ветлугина, который так хотел, но не мог заинтересовать ее.
Анна первая выскочила на берег, потянула лодку, которая звучно шаркнула о камни; мутная вода, переливаясь в корму через поперечные порожки днища, опрокинула и залила зашипевшие головешки. Валентина поднялась, строгая, притихшая.
– Давно ждете? – обратилась Анна к Ковбе, сразу переключаясь на деловой тон.
Он молча полез в карман, достал что-то завернутое в тряпицу, отстегнул большую английскую булавку, начал не спеша развертывать. Женщины, Маринка и даже Тайон нетерпеливо следили за его трудными движениями. Размотав тряпку-платок, он вынул ровно свернутую бумажку, подал ее врачу и только тогда сказал:
– Дохторов мобилизуют.
– Куда?
– В тайгу. Прививки делать. По телефону передали со стана. Срочно, мол, требуется выехать. Постановление получено из области.
– На чем же я поеду? – беспомощно от растерянности спросила Валентина, передавая телефонограмму Анне. – Тут пишут: в таборы кочевых эвенков… Где-то на Омолое.
– На оленях придется, – сказала директор.
Конюх Ковба с сомнением покачал головой:
– Трудно на них без привычки-то! Седелка так ходуном и ходит, так и сбивается на сторону.
– Вы ездили?
– Как не ездил? Приходилось.
– Ну и что?
– Ничего… Слетал раз до ста. – Ковба посмотрел на озабоченное лицо Валентины, улыбнулся. – Это я шутю – сто не сто, а разов пять падал.
– Если вы столько падали, так я вовсе на олене не удержусь, – промолвила Валентина опечаленным голосом, но вспомнила поездку с Андреем и сказала: – Может быть, обойдется по-хорошему: я быстро везде осваиваюсь…
– Конечно, освоитесь, – успокоила Анна. – Мы дадим опытного проводника, и он будет вас оберегать. Есть у нас один такой… Кирик.
– Кириков-то? – спросил Ковба. – Он бедовый: с ним нигде не пропадешь! У нас с ним дружба. Трубочку зимой у меня выпросил, взамен рукавички беличьи давал. Я не взял, так он мне после двух глухарей приволок. Вот он какой!
– С ним и поедете, – сказала Анна, улыбаясь Ковбе и своему воспоминанию о Кирике.
«Обрадовалась, что я уеду, – подумала Валентина, обиженная ее улыбкой. – Хотя Подосенова сейчас нет… и когда я вернусь, еще не будет… Как долго я теперь не увижу его!»
Молча пошла она позади всех.
По откосу берега густо цвела ромашка. Сухие сосновые иглы нежно потрескивали под ногами, растущий поселок походил на огромный парк, и было так грустно и хорошо идти краем этого парка над цветущей каймой берега.
48
В сыроватых еще комнатах дома отдыха, с некрашеными полами, с букетами полевых цветов в консервных банках особенно гулко раздавались голоса отдыхающих. Веселые люди бежали с полотенцами к умывальникам, повешенным среди деревьев, к реке, сверкавшей внизу. На широкой террасе накрывали к ужину длинные, под светлыми клеенками столы.
Грустное настроение не помешало Валентине съесть большой кусок хорошо зажаренной рыбы и стакан смородинового киселя. Она даже попросила вторую булочку к чаю.
– Если не спится, то ничего не поделаешь, а заставить себя жевать всегда можно, – сказала она при этом. – Когда я волнуюсь или болею, я нарочно больше ем, чтобы не высохнуть и не подурнеть.
С той же грустью она укладывала вещи и усаживалась в тележку-таратайку, даже вид красавицы просеки, прорвавшей черным ущельем дремучий ельник, не разогнал уныния.
Артели рабочих вывозили тачками жирную желтую глину, другие наваливали на будущее шоссе кучи сырого песку, от шуршанья которого под колесами таратайки вспоминались гладь реки и влажная прохлада тополевых зарослей.
– Кирпичи бы делать! – сказал Ковба, сидевший на сене рядом с Валентиной. – Или бы горшки… латки всякие.
Лицо старика привлекло вдруг ее внимание: оно было обросшим на диво, шерсть росла у него даже из ушей, из носа, щетина бровей лезла на глаза, и когда он шевелил ресницами, то навесы бровей тоже шевелились. Из этой дремучей поросли наивно светились совсем молодые маленькие бледно-голубые глаза.
«На кого он похож?» – мучительно старалась вспомнить Валентина.
Колеса стучали по бревенчатому настилу гати, далеко убегавшей по болоту. Розоватый туман уже курился по обеим сторонам ее, тонкими облачками расползался над камышом, над кочками, заросшими осокой. Между кочками блестела вода – синяя вдали, в просветах тумана, черная вблизи, у бревен.
– Да это «Пан» Врубеля! – вспомнила наконец Валентина и вздохнула, обрадованная.
Притихшая Маринка тепло шевельнулась на ее коленях, а Ковба спросил:
– Чего говоришь?
– Я говорю… Вам не жарко летом вот так… в полушубке?
– В самый раз. Много ли ее, жары-то, здесь?
Валентина слушала его с радостным любопытством, и фантастический синий пейзаж вставал перед нею. Клочки раскиданных озер, стремительные на ветру листья берез и он, белокурый Пан… Такие же голубые глаза и руки – узловатые корни, и огнистый рог месяца над мощным скатом плеча. Валентина огляделась и с волнением увидела на юго-западе тонкий надрез луны, почти незаметный на бледной желтизне неба. Это было точно неожиданный подарок. Теперь даже запах лошадиного пота и запах дегтя от Пана-Ковбы показались ей с детства знакомыми и приятными.
«Я буду кочевать в тайге. Одна, с каким-то Кириком! Но ничего, надо быть смелой и все преодолевать, – раздумывала Валентина, прижимая к себе обеими руками тяжелую, сонно-вялую Маринку и прислушиваясь к фырканью Хунхуза, на котором ехала Анна. – Вот ездит Анна, а чем я хуже ее? Подумаешь, премудрость – езда на олене! Если и упадешь, так невысоко… Зато увижу много интересного. Многое сделать смогу как врач. Привыкну!» – окончательно успокоила себя Валентина, но вдруг смутилась: широкополая шляпа и крутые плечи всадника выплыли из сумерек.
– Да это Ветлугин! – сказала она не то с облегчением, не то разочарованно.
– Я позвонил и поехал встречать вас, – заговорил весело Ветлугин, соскочив с лошади. – Я уже соскучился, – сообщил он, не стесняясь Анны, поздоровался и пошел рядом, придерживаясь за край тележки.
– Видите, какой я… – говорил он нежно и насмешливо. – Даже ночью в тайге разыскиваю вас, чтобы надоедать своим присутствием. – Виктор помолчал, но Валентина тоже промолчала, и он со вздохом добавил: – Вы сами тоже любите поговорить. Я почувствовал, как вы обрадовались появлению попутчика, хотя по человеческой слабости попытался истолковать это иначе.
– А вы знаете, ведь я уезжаю в тайгу, и надолго, – сообщила она так, точно огорчена была предстоящей разлукой с ним.
– Да, я знаю, – ответил он сразу упавшим голосом.
49
Через день Валентина и Ковба опять тряслись по неготовому шоссе, но тут шоссе было совсем иным, чем в речной низине: солнце палило на каменистых плоскогорьях, и въедливая пыль вихрилась над кучами сухого щебня.
«На каждом шагу свой климат», – думала женщина с ощущением тяжелой боли в висках от жестокой тряски и пыльной жары, от снова пробудившегося чувства неуверенности и страха.
Условия, в которых предстояло работать, смущали ее. Должна быть чистота. Как-то объясняться надо с эвенками. Могут быть осложнения после прививки. Ведь жизнь там, в тайге, совсем первобытная.
Даже Ковба, не слыша возни и мурлыканья Валентины, обеспокоился, взглянул на нее. Она сидела со своим чемоданом, ухватясь за край повозки, щурилась на облака пыли, ползущие по дороге.
– Чего примолкла? – спросил он доброжелательно.
Валентина подняла голову. Лицо ее, потное, пыльное и все равно красивое, было скорбно.
– Думаю о себе… как жить лучше.
– Да… жизнь! Она, брат, жизнь, – неопределенно согласился Ковба. Пошевелив ресницами и бровями, он поискал, что сказать, не нашел и сердито подхлестнул сытого мерина. – Вот скоро того… на настоящей тележке будем ездить, – утешающе добавил он.
Его слова рассмешили Валентину. Она снова с любопытством посмотрела на кудлатую щеку Ковбы, на кольчики волос, вылезавшие из-под его шапки.
«Нашел чем обрадовать!» – подумала она и сказала:
– Скоро на машине будем ездить. Придут с последним пароходом грузовики и одна легковая – для Анны Сергеевны.
Ковба пересел поудобнее, укутал сеном край ящика с медикаментами.
– Ничего хорошего не придумали! – наконец промолвил он сердито. – Когда лошадь есть при жилье, оно жилым пахнет. А от машины гарь одна. Вот тракторы я уважаю, потому – облегчение для лошади. Очень даже большое. Но чтобы, значит, ее сменять на машину – это уж зря. Тогда и человека вовсе не видать, а лошадь его украшает, человека-то.
«Трактор он уважает! – усмехнулась про себя Валентина. – Вот сразу в нем заметно было что-то немудреное, но крепкое. Лошадник какой! Это его и вправду украшает».
Все еще ласково усмехаясь, она сняла шляпу, спрятала ее, повязав ситцевым платком голову и лицо до самых глаз. Так показалось на первых порах прохладнее. Затем Валентина подумала, что даже интересно – пожить под открытым небом, как живут настоящие таежники, как Андрей, и ей захотелось скорее увидеть Кирика.
50
А Кирику уже надоело ожидать. Он был доволен предстоящей поездкой и очень гордился тем, что именно ему поручили сопровождать доктора. Для этого его сняли с покоса. Но ему все равно оплатят за каждый трудовой день. Так объяснил председатель артели старик Патрикеев, на диво эвенкам научившийся разговаривать по шнурку с людьми, которые находились на десятки верст в стороне от поселка. Теперь уже неудобно было бы ругаться с таким человеком. Теперь Кирик выслушал его с уважением, с неменьшим уважением посматривая на разговорную коробку, стоявшую на столе в избе председателя. Было очень приятно и немножко боязно, что о нем разговаривали так необычайно.
Когда он поедет по кочевьям, то всем будет рассказывать об этом.
Кирик сидел у своей избы и от нечего делать готовил палочки для растопки. Они так и оперялись светлыми застругами под его легким ножом. Кирик был упрям и на редкость трудолюбив. Это хорошо знал Патрикеев, который сказал ему:
– Ты очень дельный человек, но ты и вредный, ты упрям, словно олень на льду. Свою вредность ты забудь у себя дома. Не серди доктора и береги его, точно свой глаз.
Предупреждение председателя показалось эвенку обидным, но он стерпел и только сказал:
– Я буду беречь его, как порох.
И вот Кирик уже раз десять ходил посмотреть на пасущихся в загоне оленей, починил упряжь, сумы; со всеми поговорил, а теперь, не зная, куда себя девать, готовил жене Катерине растопку. Конечно, Катерина могла сама ее сделать, но такие уж беспокойные руки были у Кирика. Жена его работала вроде старика Ковбы, только вместо коней у нее были коровы: черно-белые, длиннохвостые, с гладкими кривыми рогами.
– Ко-ро-ва, – протяжно выговорил Кирик. – Корова с молоком! – Об этом тоже стоит рассказать в тайге.
Он отложил растопку, поднялся и снова отправился посмотреть, не едет ли доктор.
Отойдя немного от своей избы, охотник услыхал погромыхивание, будто камни вдали подпрыгивали и снова падали на дорогу, постоял, послушал, склонив голову, и неторопливо пошел навстречу.
Смуглые ребятишки в меховой одежде, а то и вовсе голые или в русских длинных платьях, гомозились, словно птицы в кустах, между редко поставленными избами. Кирик, посматривая на них, вспомнил, что рассказывала ему Катерина о бане, выстроенной без него в поселке, о избе, в которую собирали на весь день самых маленьких детей. Эвенк видел уже баню и детский сад на прииске у русских, но здесь такое казалось странным, и очень хотелось поговорить об этом со знающим посторонним человеком.
Увидев лошадь с повозкой, Кирик сразу пожалел об оставленном дома ременном алыке: можно бы прикинуться ищущим оленя, не то доктор подумает, что он суетлив, как женщина.
Бородатое лицо Ковбы выглянуло из-за круглого бока лошади, и обрадованный эвенк решительно зашагал вперед.
– Ишь ты! Тпру! – произнес Ковба и, остановив лошадь, обернулся к Валентине: – Кирик это.
А тот хотя еще и не дошел до повозки, уже протягивал руку здороваться, причем лицо его было непроницаемо спокойно.
– Доктор где? – спросил он, неумело подержав в узкой ладони тяжелую лапу Ковбы и бегло взглянув на Валентину.
– Вот он самый и есть.
Кирик удивился, но вспомнил Анну и тотчас успокоился.
– Садись, – предложил ему конюх и пересел вперед, освобождая край повозки.
– Баню построили, – сразу приступил к новостям Кирик, побалтывая длинными ногами. – Камни горячие. В камнях пар. Вода горячая. Котел большой-большой! Целый олень сварить можно. Два оленя сварить можно.
Эвенк посмотрел на доктора; она откинула платок с лица и оказалась совсем молодая, румяная, темнобровая, но слушала очень внимательно! Это еще подбодрило Кирика, и он, подпрыгивая от толчков на ухабах, крепко держась за края повозки сухими руками, продолжал оживленно:
– Баба моя Катерина два ребятишки привела… сынка моя парнишки. Посадила на лавка в одежка, сам наверху полезла. Наверху жарко, внизу жарко. Парнишки кричат. Другая баба давай моя жина ругать. Стал учить мыть. Вода холодная, горячая. Больно легко получается. Катерина мылась. Легко, говорит. Похоже, помолодела, похоже, потеряла чего, говорит.
Ковба удивленно пошевелил бровями:
– Как, небось, не потерять! Отроду ведь не мылась.
– Не мылась, – весело подхватил Кирик. – Я обратно приеду, тоже мыться буду. – И он обратился уже прямо к доктору: – Ребятишка в одну избу собирают. Смешно получается: целая стая маленькие.
– Вместе им веселее, – сказала Валентина и улыбнулась детской болтовне охотника.
– Правда, веселее, – подтвердил Кирик. – Все маленькие и все вместе. Будто рябчики!
У избы председателя Патрикеева он слез с таратайки и обошел вокруг лошади. Его очень заинтересовала упряжь с махорчиками и железными бляшками. Он даже отошел в сторону, чтобы полюбоваться. В это время ветер сбросил с таратайки смятую газету, с шумом положил ее у передних копыт лошади. Лошадь тревожно переступила, навалилась на оглоблю, отчего бугристо и косо выступили мускулы на ее груди, и одним глазом, скособочив голову, пугливо, но не без любопытства посмотрела себе под ноги.
В своем нелепом испуге она удивительно напомнила эвенку дикую утку, что, охорашиваясь, перебирает у воды скользкие перышки и вдруг замирает, следя, как всплывает и лопается перед ней загадочный серебряный пузырь; за ним неудержимо бегут из темной глуби другие, помельче, а утка стоит, выпятив грудь, забыв подобрать отставленное крыло, стоит и смотрит, как расходятся перед ней по воде тонкие круги от дыхания озерного дна…
– Испугалась, будто утка!.. – весело сказал Кирик, кивая на лошадь, когда та, успокоенно вздохнув, выпрямилась в оглоблях. – Совсем утка.
– Сам ты утка! – ответил Ковба, обижаясь за лошадь. – Ишь ведь чего придумал! Птица порх – и нет ее. А тут такая сила!
– Завтра поедем, товарищ Кирик, – сказала Валентина, выглянув в окно. – Сегодня я отдохну немножко.
– Ладно, поедем завтра, – согласился Кирик, несколько огорченный. Ему хотелось выехать немедля, но он не осмелился возразить, помня слова Патрикеева и свое обещание беречь доктора. – Пожалуй, отдохни немножко. – И он не торопясь, важничая перед набежавшими женщинами и ребятишками, полез в таратайку, чтобы еще раз прокатиться по поселку.
51
Бело-розовые колокольчики вьюнка светлели на кустах шиповника; гибкие побеги его нежно обвивали колючие ветки, блистающие влажной свежестью цветы перемешивались с жесткими зелеными ягодами. А шиповник так широко раскинул ветви, так встопорщился весь, точно шагал по лесной поляне, гордясь своей легкой прекрасной ношей.
– Это любовь! – промолвила Валентина, проезжая мимо шиповника. Она протянула руку – сорвать один колокольчик, но за ним потянулся целый побег, и весь куст задрожал. – Прости, – сказала женщина шиповнику. – У тебя осталось еще так много!
Она прицепила цветок к шляпе и запела, складывая сразу слова на неожиданно найденную мелодию. Но песни здесь складывались странные:
Ельник старый, сухой, косматый,
Не тяни ко мне темные лапы!
Пропусти меня, я люблю молодого,
А у тебя такая седая борода!..
Валентина пела, а Кирик, ехавший с ружьем на передовом олене, за которым шли привязанные гуськом еще три оленя, с удовольствием прислушивался к ее голосу: он звучал для него как голос невиданной птицы.
Теперь она успокоилась; Кирик действительно знал тайгу. До отдельных примет – вроде изгиба безыменной речонки или груды скал, они добирались со всей точностью его расписания. Валентина видела в горном ручье выдру, плывшую с рыбой в зубах, видела медведя, спокойно разбиравшего гнилой пень в каких-нибудь сорока шагах от палатки. Руки ее ныли от комариных укусов, от перьев птиц, которых она ощипывала почти на каждой остановке, сама превращаясь в такие минуты в голодного зверька. Осваиваясь с тайгой, иногда скучая, всегда уставая, она забывала бояться и пела обо всем, что попадалось ей на глаза: о клочьях белого мха, свисавших с деревьев, о юных пушистых елочках, о матово-сизых ягодах голубики. В этом пении была особенная прелесть. Иногда порыв ветра прижимал к ее открытому рту сетку накомарника. Валентина смеялась, отбрасывала ее на поля шляпы.
«Хорошая баба, доктор-то!» – думал Кирик, сидя точно пришитый на своем плоском седле.
В начале пути он очень опасался, как бы не пришлось вернуться обратно: доктор Валентина раза четыре падала с оленя, чуть не сломала руку, и Кирик совсем растерялся, увидев ее плачущей. А сейчас она едет, как ездят все женщины его племени, едет и поет так, что у Кирика щекочет в горле и ему самому хочется петь. Заезжая с нею в таежные поселки, он рассказывал там, какие штуки умеет она выделывать голосом, и, увлекаясь, тоненько взвизгивал, к великому удовольствию своих веселых слушателей.
Его всюду встречали радостно, и каждому встречному он сообщал новости:
– Доктора везу. Оспу надо делать. – Заметив испуганное недоумение, торопливо объяснял: – Руку поцарапает маленько и помажет. Вовсе не больно. Сила тогда входит в человека большая, и красная старуха убегает от него.
После этого Кирик с гордостью показывал вьюк, в котором хранилась добрая молодая оспа.
Но все-таки было удивительно и непонятно: как сумели огромную спасительную силу поместить в крохотные склянки? Почему она не разрывала такую хрупкую оболочку? В глубине души Кирик подозревал, что дело не так-то просто, как объяснял ему председатель артели. Сначала он был твердо уверен, что доктор шаманка, но его уверенность поколебалась, когда Валентина упала с оленя и ушиблась, словно маленькая девочка.
«Может, не шаманка, а может, и шаманка», – говорил себе Кирик и, окончательно сбитый с толку, слово в слово повторял объяснения Патрикеева, почти ничего от себя не прибавляя.
В доказательство он сбрасывал рукав летней дошки и показывал случайному слушателю свою руку с оспенными знаками. Тот, если у него не было прививки, озадаченно цокал языком, разглядывая таинственные шрамы, или также закатывал рукав, и оба смеялись, сравнивая свои метки.
Валентина пробовала протестовать против таких остановок, но потом смирилась: проехать без «капсе» [18]18
Капсе – по-якутски – разговор.
[Закрыть]было невозможно, это было бы самым грубым нарушением таежного этикета. К тому же проезжий – будь он из племени эвенков или якут с притоков Омолоя – передаст новость дальше. Капсе с поразительной быстротой распространяет по тайге все, что достойно внимания.
52
Кирик остановил оленей, всмотрелся в зеленый навес ветвей и начал торопливо поворачивать обратно.
– Что там? – спросила Валентина, тоже всматриваясь, но ничего не замечая.
– Круг дать надо, – мрачно кинул охотник, колотя пятками по бокам своего оленя; вьюк зацепился за ствол дерева, захрупали, посыпались сухие ветви и содранные коринки.
– Зачем круг?
– Красная старуха тут ходила.
– Постой. Я хочу посмотреть, – сказала Валентина. – Чего ты боишься? У тебя прививка есть. Нечего тебе бояться…
– Есть-то есть… Нечего бояться, да не больно нечего…
Кирик еще ворчал, но строгий вид и голос Валентины, а также боязливо-любопытное желание испытать силу прививки подействовали, и он остановил оленей, уже повернутых в другую сторону.
– Иди! Посмотри! – сказал он сердито и полез в карман за табаком.
Валентина спрыгнула с седла и стала пробираться вперед среди густых и мягких пихтовых елочек. Над молодой порослью траурно чернели столетние кедры, угрюмо теснились могучие ели, поднимая свечи побегов, пахучих и светлых; стену черной хвои прорезали скорбно-синеватые лиственницы, покрытые красной завязью шишек, как брызгами свернувшейся крови. Пахло прелью, сыростью, глухой, дикой, недосягаемой солнцу и ветру.
У Валентины сжалось сердце, и она оглянулась на Кирика. Он сидел на седле, согнув в коленях высоко подобранные ноги, почти касаясь носками узких торбасов [19]19
Торбаса – гладкие летние сапожки на мягкой подошве.
[Закрыть]железного ботала на шее оленя. Олень, приподняв голову так же, как эвенк, тревожно, но кротко смотрел на Валентину, тонувшую в мрачной зелени леса.
Вся фигура Кирика выражала безмолвный вопрос:
«Может, не пойдешь?»
«Нет, пойду», – ответил взгляд Валентины, но она так и встрепенулась, когда охотник, ерзнувший в седле, нечаянно пнул по боталу.
Дребезжащий звон железа прозвучал здесь зловеще.
Разводя руками ветви густого подлеска, Валентина прошла еще и остановилась…
Скрытые в зелени, висели на деревьях коконы-саваны. От прогнивших оленьих шкур, в которые были зашиты когда-то трупы умерших мужчин (женщин эвенки хоронили на земле), уже не веяло смрадом: легко держались подвешенные на ремнях обветренные кости. Невдалеке виднелись остатки брошенных чумов, обтянутых такими же сгнившими оленьими шкурами. Валентина с тяжелым чувством обошла выморочное становище. Копылья рассохшихся нарт черными клыками торчали повсюду. Валентина переступила через груду тряпок, проросших травой, смахнула паутину у входа и, наклонясь, вошла в чум. Вот кто-то прилег в углу на постели, да так и не встал: тонкий скелет, облипший остатком одежды, слабо белел в полумраке. А вот и другой – свернулся на земляном полу у очага. Когда это было? Знал ли кто-нибудь о трагедии, разыгравшейся здесь на маленьком жилом островке?
Валентина еще раз прошла между чумами. Смерть скалилась на нее отовсюду. Здоровые покинули больных родичей и сами, наверное, погибли неподалеку и даже дикое зверье почему-то не нарушило покоя мертвых…
«Так вымирали раньше от оспы целые города, целые области, – подумала Валентина. – Только в России умирало ежегодно до полумиллиона человек. Что мы знаем об этой проклятой болезни? Мы до сих пор не знаем средства ее лечения!» – Валентина вспомнила, что Андрей тоже переболел оспой, и нежное, почти материнское чувство к нему шевельнулось в ее душе.
53
Дикая глушь. И какая страшная даль! Где-то на краю земли… Горы с голо-каменистыми вершинами и гранитные осыпи в серо-зеленых лишайниках. Долины мрачные, черно лесистые, и суровое молчание заросших осокой болот. Разве не здесь до сих пор открывают горные хребты длиною в сотни километров? Сколько сил должен иметь народ, который оживит эти мертвые, пустынные пространства!
Мысль об опасностях поездки, о важности своей миссии вызвала у Валентины чувство гордости, хотя сознание того, что она довольна своим положением, удивило. Вид вымершего поселка ужасал ее, но среди этого потрясающего молчания, где слышался стук собственного сердца, она с особенной силой ощутила значение своего бытия. Да, она проявила не меньшую настойчивость, чем Андрей и Анна, для того чтобы стать полноценным человеком.
«Их двое, они поддерживали друг друга, а меня даже ободрить некому было».
– Это я! Да, это я! – сказала она вслух. – Мое призвание привело меня сюда. Мы с Кириком двигаемся на олешках, точно казаки-первооткрыватели, как Хабаров, как Дежнев, плывший на кочах. Разве тайга не похожа на море? И если мы затеряемся здесь, кто сможет отыскать нас?
– Посмотрела? – спросил Кирик, нетерпеливо ожидавший ее, не слезая с седла.
Он не хотел шагу ступить по здешней страшной земле, слишком хорошо помня смерть братьев и матери и многих других сородичей. Страх пережитого снова встал перед Кириком.
– Чего смотрела? – кричал он гневно.
– Никого там нет, Кирик!
– Всех кончал – молодой и старый… – Кирик хотел было выругаться, но побоялся, чтобы не накликать плохого. – Разный хворь-то есть. Не каждый раз хворают вместе. Старуха красная пришла, всех положила… Пошто так? – спросил он, когда они уехали далеко от опасного места.
– Потому что оспа передается на огромные расстояния, и зараза ее на вещах сохраняется годами. – Валентина задумалась: картина страшного опустошения еще стояла перед нею. – Это очень старая болезнь, Кирик, и пришла она к нам с юга, из жарких стран… из Китая, из Африки…
– Я знаю, что старая. У нас ее старухой зовут. Красная старуха.
– Она и черная бывает. Когда простая оспа, то все тело покрывается таким горохом белым… А при черной оспе горох черно-красный: кровь в гнойничках.
– Я знаю… Видел. Краснеет, чернеет… Старая. И не подохнет, однако!
– Нет, Кирик, теперь она уже издыхает! – сказала Валентина, снова повеселев.
54
Ветлугин облокотился на стол, уставился в стенку невидящим взглядом. Выпуклые глаза его, обведенные густыми синяками, смотрели тускло, точно подернутые дымкой.
– Привязался, как пес! – прошептал он с грустной издевкой над собой. – То погладят тебя от полноты сердечной, то бьют по носу. Андрей! Да, Андрей… Вот жестокая игра чувств! Я мечтаю о ней, дико радуюсь и глупею от одного ласкового слова, а тот проходит, не замечая ее обожания. Истинная трагедия!
Ветлугин хотел обмакнуть перо в плоскую чернильницу, но в ней тонула, отчаянно барахтаясь, муха.
– Фу, дрянь какая! – сказал Ветлугин и снова задумался.
«Подло все-таки устроен человек! – решил он наконец. – Целым миром управлять может, а со своими чувствами не справится. Барахтается… будто муха…»
Но мухи в чернильнице уже не было. Она сидела на «отношении», которое Ветлугин собирался подписать, старательно вытирала голову лапками. Жирная черта, проведенная мушиным брюшком, чернела на бумаге, по обе стороны ее красовался тончайший узор мелкого накрапа – следы лап и крыльев.
– Ты удивительное существо, способное вывести из себя кого угодно, – сказал Ветлугин, сбрасывая муху концом пера и еще более размазывая чернила, – что сказала бы Анна Сергеевна, увидя на деловом письме эту мазню! Отвратительно! В самом деле: я превращаюсь в этакого жалкого нытика!
Ветлугин взял испорченное отношение и пошел было в машинное бюро, но на пороге столкнулся с директором.
– Я вернусь сию минуту, – сказал он, здороваясь с нею.
«Вот женщина, не расположенная к меланхолии, – размышлял он, идя по коридору. – Мне бы так! Ей, наверное, и в голову не приходит, что ее Андрюша может ей изменить. С другой женщиной он, возможно, и не изменил бы, но Валентина… Она и его приручила. О, злая, злая, рыжая ведьма!»
– Я к вам по очень серьезному делу, – сказала Анна, придвигаясь к столу вместе с креслом. – Только что получен запрос из треста о разведке Долгой горы. Просят дать наше окончательное заключение. – Анна чуть помедлила, рассеянно перебирая по столу пальцами. – Неудобно, если это придется сделать без Подосенова. Но требуют ответа срочно. Андрей сам писал туда… Теперь нужно решить. Мои соображения вам известны. Как там сейчас, на Долгой?
Ветлугин пожал плечами, сделал неопределенное движение рукой.
– В том-то все и дело – пусто!
– Значит?..
Ветлугин вспомнил разведчиков и старателей, работавших на свой риск на канавах Долгой горы.
«Не фанатики же они, в самом деле! Что их привязало там? „Целеустремленность“, – вспомнил он словечко Валентины. – Но какие надежды поддерживают эту целеустремленность»?
Разведка россыпи по ключу под горой давала хорошие данные: золото шероховатое, яркое; попадается с кварцем – золото явно местного происхождения. Выхода пород на Долгой тоже обещали многое, хотя жилы и выклинивались.
– Ну, что вы думаете? – поторопила Анна.
– Я думаю… Нужно еще раз съездить туда, посмотреть, – сказал Ветлугин.
Лицо Анны заметно просветлело: проклятая гора, затянувшая Андрея, доставляла ей немало тревог, да и Ветлугину тоже. Однако он не был ни мстительным, ни мелочным, и директор управления особенно оценила это сейчас.
«Но как он изменился, – подумала она. – Такой был веселый, говорун, а сейчас поблек. И постарел, пожалуй».
– Поедемте туда… завтра, – предложил Ветлугин после небольшого молчания, нервно играя незажженной папиросой; белоснежный рукав нижней рубашки выглянул из-под манжеты его ковбойки.
– Лучше подождем представителя треста, – сказала Анна, краем глаза успев заметить ловко пригнанную заплаточку на ковбойке Виктора. «Следит за собой, будто опрятная вдовушка», – подумала она доброжелательно, но, недовольная тем, что отвлеклась посторонней мыслью, добавила: – Он приезжает на днях. Правда, по другому вопросу… ознакомиться с введением новой системы на руднике, но он работал и по разведкам. А я договорюсь с правлением треста подождать с заключением до возвращения Подосенова.
Анна пошла к двери, но вернулась и сказала серьезно:
– Мне хочется, чтобы у вас все было хорошо. – Она вспыхнула до корней волос под быстрым взглядом Ветлугина и добавила: – Так радостно видеть счастливых людей.
55
Главный инженер ехал, небрежно кинув поводья. Глаза его рассеянно блуждали по сторонам: по этой дороге проезжали весной Валентина с Андреем.
«Как она обрадовалась тогда поездке с ним! Даже скрыть не сумела, – вспомнил горестно Ветлугин. – И меня приласкала: „Мы будем друзьями“. Вечное утешение для влюбленных неудачников! Благодарю покорно!»
Ветлугин сердился, но в то же время представлял, с какой радостью отправился бы он к Валентине при первой возможности.
«Да, Виктор Павлович, – говорил он себе, почти не глядя на дорогу, предоставляя лошади везти себя, как ей вздумается. – Вы, конечно, сразу полетели бы сломя голову, но возможности отлучиться с работы не предвидится! Ну-ка, я завтра махну в тайгу, а у меня восемь тысяч рабочих, сборка драг, введение новой системы на руднике… Размахнулась Анна Сергеевна, ничего себе! Почти на четыреста квадратных метров. В одну отработанную камеру колокольню Ивана Великого упрятать можно! И поеду я, отыщу свою хорошую где-нибудь в якутском таборе. А она сурова, занята: или палатку ставит, или с больным возится».








