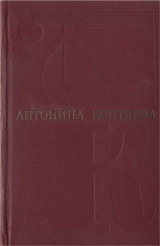
Текст книги "Собрание сочинений. Т.1. Фарт. Товарищ Анна"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
– Какой его нога, ваша мадама?
– То есть как это?
– Ну, толстый… тонкий?
– Ага… Ноги как полагается. У обеих средние.
Китаец по-куриному заклокотал от смеха.
– Ваша два мадама имеете? Очень даже вы роскошно живете!
Глядя на него, и Рыжков рассмеялся.
– Эх, как тебя разобрало! Одна-то дочь моя, Марья… Афанасьевна. Ленту и подвязки отдельно посчитай. Сколько? Шесть тридцать? Здорово дерешь! А еще об убытках толкуешь! Знал бы, так лучше в магазине купил.
– Ну, ладна, – как будто и взаправду устыдился китаец, – давай ровно шесть рубли.
Рыжков положил покупку в карман, вышел на улицу и крупно зашагал к Верхне-Незаметному, удивляясь тому, как далеко продвинулась за лето драга.
Возле базара он неожиданно столкнулся с китайцем Санькой.
Саньку Рыжков знал еще по зейской тайге, знал, что он и сейчас занимается контрабандой. Когда же бывало, чтобы прииски существовали без спиртоносов?
– Тебе куда ходи? – крикнул Санька и весело оскалился, хватая Рыжкова за рукав. – Пойдем моя хитрушка посмотри! Денежка есть, можно погуляй, всякий разный евушка близко живи. Шикарный мадама: черный, белый… Какой хочу, какой надо, могу позови! Деньга есть – Иван Петрович, деньга нет – парышивый сволочь.
– А ты что, хитрушку содержишь? – спросил Рыжков, поглядывая на лавчонки базарных рядов. Многие были закрыты совсем и заколочены накрест длинными досками – видно, купец говорил правду. Другие еще торговали, и лавочники убирали развешанные под навесом товары.
– Нет, наша компания. Моя туда только водочка таскает. Пойдем! Твоя хочу, моя могу деньга взаймы давати. Мадама жирный – шибко шанго.
– Нет, я, брат, не охотник до такого бабья. Смолоду брезговал, а теперь вовсе.
Санька хитро засмеялся, толкнул Рыжкова в бок локтем.
– Тебе, Афанаси, плохо живи. Ваша русски люди хорошо есть сказати: сединой ходи в борода, беса ходи под ребрушко.
Рыжков улыбчиво сощурил синие глаза:
– Ох, и штукарь же ты! Все на свете знаешь!
– Правда, – убежденно подтвердил Санька. Он и не подумал отстать от Рыжкова и продолжал болтать на ломаном языке, идя за ним следом: – Тебе люди знакомый, я тебя не боиса. Нынче моя опий приноси – десять фунта! Только милиция попадай. Кругом забери, как раза Степаноза! Три месяца посиди. Там много знакома люди есть. Ваша артели Васька тоже сиди.
– Забродин? – спросил Рыжков с живостью.
– Угу, Забродина! – Санька совсем забыл попечение о «евушках», шагая рядом со старателем, рассказывал о новостях и, увлекаясь, все время хватался за его рукав.
22
Дальние горы от лесных пожаров подернулись тусклой дымкой. Лето шло на убыль. Каждый день, возвращаясь с работы, Маруся забиралась в голубичник и ела ягоды, пока не защиплет язык. Приисковые бабы, звякая ведрами и котелками, с восходом солнца уходили в горы. Собирали голубику и чернику, а потом заливали ее сладкой водой или варили варенье, а то просто сушили на зиму.
Акимовна тоже ходила по ягоды, но в ельнике сухой веткой повредила глаз, и теперь поневоле домовничает. А Марусе ягодничать некогда: сегодня она, не заглянув домой после работы, отправилась в вершину Пролетарки и пошла с узелком под мышкой от барака к бараку, заходя в каждый, где жили женщины.
На ней легкое платье, жакетка и туфли на низком каблуке. Голова повязана белым платком, надвинутым на самые брови, что придавало ей деловой и озабоченный вид.
У порога одного из бараков ее встретила толстая, опрятно одетая женщина.
– Проходи, милушка, садись на лавку. Чьих ты будешь-то?
– Да Рыжкова я…
– Чего же я тебя не признала? Эка краля выровнялась! Невеста уж, поди-ка? А я вот с бельем вожусь. Прохворала на неделе, а сегодня мужики поразбрелись: кто по ягоды, кто в гости, я без помехи и управилась. Как это ты к нам забрела?
– Ликвидатором неграмотности буду у вас. Вот записываю, кто хочет занятия посещать.
– Кто это там, Ивановна? – спросил осиплый голос.
Ситцевый полог в углу колыхнулся. Выглянула взлохмаченная голова женщины, затем крупная фигура в помятом сером платье вылезла из-за занавески.
– Ликвидатор? – с усмешкой повторила женщина и потянулась, шумно позевывая. Волосы у нее были черные, не очень длинные и страшно всклокоченные. С завистливым любопытством осмотрела она девушку плутоватыми карими глазами. – Это зачем еще?
– Видите ли… – заговорила Маруся, свертывая тетрадку трубкой и снова бережно разглаживая ее ладонью. – Ленин сказал, чтобы у нас в Союзе не было неграмотных. Нужно, чтобы все женщины учились управлять государством. Если вы научитесь читать и писать, вам интереснее будет жить. Сколько есть на свете умных, хороших книг (она сама прочитала за последнее время стихи Лермонтова и рассказы Короленко), а для неграмотных они ничего не представляют. Женщинам нужно включаться в общественную работу, развиваться, изучать политграмоту.
– Я не знаю, – замялась Ивановна, – вот Катерина разве. – Она подумала и добавила с виноватой улыбкой: – Темная я, это верно. Мое дело что, известно – мамка: то у плиты, то у корыта.
– А раз мамка, с тебя и спросу нет, – сказала Катерина. – Мужик узнает, он тебе задаст: всю политграмоту вышибет. Меня не пиши, я без вас развитая. Мне много не надо. Ежели вам больше нашего требуется, ну и читайте, пишите на здоровье.
Катерина еще раз зевнула, почесала в голове и снова полезла на койку. Вид красивых девчонок привлекал и огорчал ее: она завидовала юности, еще нетронутой свежести. Ей хотелось снова и снова быть молодой и переживать все сначала.
– Ишь чего удумали! – ворчала она, ожесточенно взбивая подушку и укладываясь. – Государством управлять! Тут в пору с собой управиться. Без развития вздремнуть некогда.
– Вот халда, так уж халда! – сказала Ивановна огорченной Марусе, выходя за нею из барака. – Ты в какую сторону пойдешь? Вниз? Ну-к я тебя провожу маленько, сито надо взять у соседки. Меня ты не зови, я и вправду не могу.
Маруся досадливо покусывала яркие губы.
– Дело твое, только потом жалеть будешь. Другие тоже мамки, а записываются.
– Да ну? Али уж записаться?.. Совестно чегой-то! Работы у меня невпроворот, но ежели… Вечером разве?.. Народ у нас больно неспокойный. Одна Катерина чего стоит. Не люблю я ее, истинный Христос. Вот кабы ей мужа-то такого, как у Забродихи! Мой Кононов, когда тверезый, тихий, а попадет эта дурничка в голову, ну и зашумит. На днях занял денег у ребят… Гляжу, приходит, весь бутылками обтыкался. Прогуляли полдня, а вчера сдали золото – только на хлеб осталось.
Закончив свой обход, Маруся по дороге домой неожиданно встретила Егора. После того как он заступился за Надежду, девушка стала относиться к нему более внимательно.
– Гулять пошел?
– Погода хорошая, вот и хожу… А тебе все некогда?
– Почему некогда? Я тоже хожу.
– Поговорили! – сказал Егор с горечью и остановился возле кучи бревен, сложенных у тропинки. – Давай посидим.
– А чего мы сидеть-то будем? Надо ужинать да на репетицию бежать.
– Опять на Орочен?
– Опять. – Маруся взглянула на Егора. Он стоял хмурый, ломая сухую былинку, руки у него слегка дрожали. – Была бы твоя воля, ты бы меня не пустил? – спросила она насмешливо.
– Сама ты не знаешь, что говоришь! Была бы моя воля… я бы взял тебя сейчас на руки и унес на горку.
– Похоронить, что ли?
– Смейся! – Егор сел, опираясь упрямым подбородком на жесткие ладони, посмотрел снизу на Марусю. – Капризная ты… Видишь, что страдает об тебе человек, ну и куражишься, а еще комсомолка! Фыркать-то каждая барышня умеет.
– Да разве я фыркаю? – возразила Маруся. Она уселась на бревнах повыше, достала из кармана жакетки пачку «Пушки» и закурила, неумело держа папироску.
– Маруся, да что же это такое?! – сказал Егор оторопев.
– Ничего особенного. Если я хочу курить, так это мое личное дело. Я еще остриглась и… – тут смелость на минутку покинула ее, – и покрасилась. Я отсюда поеду в город, буду играть в кино. Мне в тайге надоело жить.
– Для чего покрасилась-то? – уже сердито спросил Егор.
Вместо ответа Маруся сняла платок, тряхнула короткими волосами и они рассыпались черными, как смоль прядями, странно изменив ее немножко смущенное лицо.
Егор махнул рукой и отвернулся: стриженая, с накрашенными бровями, она показалась ему некрасивой.
– Выходит, что ты… мещанин, – сказала девушка уже совсем неуверенно. – Длинные волосы для гигиены неудобно, и голове тяжело. Вот пожалуйста! – И она, не то заигрывая, не то с досадой бросила узелок в спину Егора.
Тот, не оборачиваясь, нащупал его и развязал у себя на коленях.
Тяжелая коса, свернутая мягким, блестящим жгутом, соскользнула на примятую у его ног траву. Он поднял ее и, держа в ладонях, грустно посмотрел, как ярко золотились на солнце отдельные волоски. Горечь обиды и нежность боролись в его душе. Потом он опустил голову, прижался губами, всем лицом к милой ему косаньке. Она еще хранила еле уловимую теплоту.
– Глупая ты! – сказал он, с трудом обретая дар речи. – Артисткам длинные волосы нужны, вся красота в них. И курить – неподходящее баловство для женщины. Краситься тоже срамота одна. – Он опять умолк, но, испугавшись наступившего молчания, придвинулся к девушке и заговорил умоляюще: – Марусенька, голубушка моя, зачем ты это на себя напускаешь? Ведь ты хорошая, вот ты и на себя непохожая, а я все равно жалею тебя.
– Отстань! – Маруся, сердито поведя плечом, сбросила Егорову руку, положила лицо на сжатые кулачки и пригорюнилась, глядя, как тлела на западе заря. – Об чем бы разговор ни шел, всегда ты его на свою любовь переведешь! Нужна она очень!
– Как же без любви жить? – спросил Егор, теребя воротник рубашки. – Я теперь и жизни не рад стал! Хорошо, когда оба любят, а в одиночку… Это ведь маета одна!..
23
– Забрали твоего Василия, – сказал Рыжков Надежде. – Связался он там с жульем… Известно, беспутная жизнь деньгу требует, вот они и смекнули одну старуху ограбить. А старуха водкой приторговывала и от кого-то вызнала, что к ней гости собираются. Сообщила, значит, в милицию, их и накрыли, и старуху тоже посадили за компанию. – С этими словами Рыжков вынул из кармана свернутую бумажку, передал ее растерявшейся Надежде. – Василий тебе из домзака пишет, денег просит, чтобы переслала. Он теперь надолго сел, до старухи-то они еще склад какой-то подламывали.
– Сам, что ли, видел его? – спросил Зуев.
– Не, Санька Степаноза сказывал, у него и записка была.
– Дошерамыжничал! – сказал Точильщиков, перестав пиликать на гармошке. – Выселить бы его из района.
Заинтересовались и другие старатели, бывшие в бараке, заговорили оживленно:
– Денег ему посылай, баба! Во-от здорово удумал!
– Этакий стервец, уж провороваться успел.
– Ему, поди, не впервой, у него взглядка-то воровская.
– Маруся где? – спросил Рыжков жену, разыскивая в обширных карманах шаровар пакетики покупок. – Вот тебе заказ, подвязки обеим и ленту дочке купил. Надежда-то рада, поди-ка, что мужика запрятали?
– Может, и рада. Чего она с ним хорошего видела? Экий цепучий шелк-то на корявые руки! – Акимовна пересчитала пуговки, попробовала даже зубом, определяя качество.
Надежда, прочитав записку Забродина, ужасно расстроилась. Раз он еще пишет ей и требует денег – значит не хочет отступиться от нее. И ее тянет за собой! Жаркая злоба охватила женщину.
– Сдох бы ты там, ворюга проклятый!
Выйдя из барака за дровами, она встретила Марусю.
– Вернулся отец с Незаметного?
– Давно уж.
– А что ты такая невеселая?
Надежда неожиданно заплакала.
– С чего мне быть веселой? Василия-то арестовали!
– Так почему же ты плачешь? Освободилась, по крайней мере.
– Кабы освободилась!.. Вот-вот опять явится. Навязали его черти на мою головушку!
Маруся прошла в свой угол. После разговора с Егором Нестеровым она уже раскаивалась в совершенном поступке и была бы счастлива, если бы коса каким-нибудь чудом приросла обратно. Широкая спина отца еще более смутила девушку. Он лежал, прикрыв голову и плечи пиджаком, слегка подогнув ноги, и густо всхрапывал. Что-то еще он скажет? Маруся скинула платок, жакетку и остановилась возле своей постели: на подушке лежала яркая лента. Маруся схватила ее с детской радостью. «Отец, наверно, принес! Опоздал, тятенька», – подумала она со вздохом и, положив ленту на столик, посмотрела на свои руки. Пальцы были синие от голубики, но выйти к умывальнику сейчас, когда в бараке полно рабочих, Маруся не решилась: взялась за прядь волос, покосилась на нее и зажмурилась: «Черная-пречерная, аж страшно!»
– Отец-то тебе, доченька… – заговорила радостно Акимовна, откидывая занавеску, но, глянув на Марусю, охнула и села на скамью. – Косы… косы-то где, бесстыдница? – Слезы так и закапали, сразу смочив бледные щеки Акимовны. Она ловила их краем фартука, тоненько приговаривала: – Чем ты начернилась-то, го-осподи! Была головка, как маковка, а теперь чистый китаец!
– Ну и пускай китаец! Жалко тебе?
– Что у вас случилось? – сонным голосом спросил Рыжков.
Акимовна вскочила, хлопнула себя по бедрам, ссыпая с фартука мучную пыль.
– Ты погляди-ка, отец, погляди, чего она наделала! Косу обрезала, а что уцелело на голове, сажей напачкала али чернилками.
– Вот не знаешь, а судишь, – оборвала ее, вся вспыхнув, Маруся. – Выкрасила у парикмахера специальной краской, хна-басмоль называется. Я спрашивала секретаря ячейки. Он говорит: «Остричься очень даже советую, а насчет краски, говорит, я не разбираюсь, это, говорит, твое личное дело».
Рыжков тоже не понимал, почему дочери захотелось стать черноволосой, но раз жена плакала – значит ему следовало сделать какое-нибудь внушение.
– Ну-ка подойди, – приказал он и, притянув Марусю за дрогнувшую руку, потрогал ее остриженный колючий затылок. – А я тебе ленту принес, – сообщил он, не сообразив, что сказать по данному поводу, и досадливо хмыкнул. – Крашеные-то волосы еще повылезут. Куда тебя тогда, плешивую?
– Батюшки, да у ней папироски! Коробка початая… и со всем припасом!
Девушка оглянулась через плечо и увидела в руках матери свою жакетку. Акимовна уже не плакала: негодование, охватившее ее, сразу высушило слезы. Она давно привыкла к «табашникам», но вид курящей женщины возбуждал в ней отвращение. А тут родная дочь… «Статочное ли дело девчонке палить проклятое зелье!» Фанатичная душа раскольницы пробудилась в Акимовне. Чужое лицо с неистово горящими глазами и скорбно поджатым ртом приблизилось к Марусе, которая, невольно опешив, прижалась к отцу.
Рыжкова тронуло доверчивое движение дочери: она как бы признавала вину и искала защиты.
Но раздумывать было некогда: он сел на постели, заслонил дочь и легонько оттолкнул разъяренную жену.
– Чего шумишь, не разобравшись. Мои это папироски! Мне она купила… за ленту, – неумело соврал он и для пущей верности пошутил: – Правду говорят, бабий ум что коромысло – и косо, и криво, и на два конца, хоть к чему прицепится.
– Так початая ведь…
Маруся, обрадованная неожиданным исходом дела, сказала тихонько:
– Я Егора угощала, и спички его.
Однако мать еще не успокоилась.
– А ну-ка, дыхни!
Озорница дыхнула. Табаком почти не пахло, и Акимовна ушла, покачивая головой, терзаемая печалью и сомнением.
– Ты вправду думал, что я тебе купила? – спросила Маруся, присев на край постели.
– Ничего я не думал. Драть бы тебя надо, да большая уж – совестно!
– Не сердись. – Маруся погладила тонкими пальцами его выпуклую бровь. – Не дали мы тебе подремать.
– Я и не дремал, только всхрапнул да присвистнул.
Девушка счастливо рассмеялась, взяла тяжелую руку отца и, как в детстве, прижалась к ней щекой.
24
Акимовна шила старателям рубахи. Швейная машинка была старая и, несмотря на частую смазку, стучала вовсю. Даже внутри у нее что-то звякало. То и дело ослабевал винт, скреплявший переднюю часть изношенного станка, и колесо начинало вихлять в стороны. Тогда Акимовна хмурила красивые темные брови и почерневшими, тоже расхлябанными ножницами начинала завертывать проклятый винт.
– Оскудело хозяйство, подь ты совсем!
По другую сторону стола, у окошка, Надежда прометывала петли у готовых рубах. После того как Забродин поломал ее машинку, она лишилась приработка и прокармливалась только около сынков. Из старых, ничего не уплатив, ушло четверо, взамен ушедших прибавилось пятеро новых, но и они пользовались ее услугами в долг. Жилось трудно и невесело. Правда, в барак частенько захаживали старатели из богатых артелей: многих привлекала миловидная женщина, но она «не чаяла, как с одним развязаться».
Вспоминая годы, прожитые с Забродиным, Надежда еще сильнее ненавидела его. До встречи с ним она работала в Благовещенске прислугой. Прельстясь цветущим видом дальневосточницы, Василий долго, словно ястреб, кружил возле нее. Но Надежду смущало то, что он не сватался, а явно норовил обойти ее, как простушку. Раздосадованный неудачей, пригрозил вымазать дегтем ворота. Она не поверила, но у него слово с делом не расходилось… Надежде пришлось перейти к другим хозяевам. Забродин выжил ее и оттуда, прибегнув к испытанному средству. Переменив несколько мест, она, вволю наплакавшись, согласилась стать его сожительницей.
На шестой день совместной жизни он напился пьяный, поколотил ее, и они поехали к его матери на Зею.
– Она там в своем дому живет, – хвастался Василий.
Приехав домой, он сначала лодырничал, шлялся по городку, а потом неожиданно исчез, оставив свою молодуху с выжившей из ума матерью в пустой избенке, одиноко торчавшей в бурьяне среди глухого огорода.
Надежда оторвалась от дум, когда проколола иглой палец, с минуту смотрела на растущую алую ягодку, стряхнула ее, пососала уколотое место и снова начала вспоминать, растравляя старую тоску.
После исчезновения Забродина она нанялась поденщицей на дальний покос… Однажды, сметав последнюю копну, она взяла кузовок и пошла по лугу к лесу, где во множестве росли белоногие подосиновики с очень твердыми желтыми шляпками; изредка наклонялась, срывая красневшие на кочках ягоды княженики, сладкие и душистые. На поляне, за частым перелеском, ходили спутанные лошади хозяина покоса. Тонконогий жеребенок со звездочкой на лбу бегал по лесному окрайку. Кобыла то и дело беспокойно оглядывалась, роняла с губ клочья объеденной травы и зеленую пену, подзывая его тихим ржанием: день уже клонился к вечеру, звери поднимались на кормежку, и хищный их шорох слышался матери из тенистых чащоб.
Буланый жеребец с темным ремнем по хребту и пышным черным хвостом вдруг перестал есть, тревожно всхрапнув, повернул к лесу гривастую голову. Женщина отвела рукой ветки ольхи и тоже взглянула в ту сторону. Какой-то человек, крадучись за кустами и на ходу целясь из ружья, подбирался к лошадям. Надежда от страха застыла на месте, даже зажмурилась, и в это время громыхнул выстрел…
Раненый жеребенок, обливаясь кровью, завертелся волчком по поляне, за ним с испуганным ржанием тяжело скакали взрослые лошади. Бандит помедлил минуту, потом вышел из кустов, и Надежда узнала в нем Василия… Забродин воровато огляделся, выломил дубинку, начал отгонять лошадей.
Жеребенок кружился все медленнее… Один глаз у него был выбит, и кровавые слезы катились по коротенькой шерстке. Мотая раненой головой, он рухнул на колени, ткнулся боком в траву, дрогнул раз, другой и замер. Отогнав лошадей, Забродин вернулся, но в лесу захрустели шаги, и он припал к земле возле жеребенка.
Из чащи раздался тихий свист. Василий приподнялся и тоже свистнул, потом перебросил ружье через плечо, ухватил добычу и поволок ее в ту сторону. Навстречу ему выскочил другой варнак в широкой опояске, с котомкой за спиной, и они быстро исчезли за деревьями.
Утром хозяин долго ходил по тайге, разыскивая напуганных лошадей; видел кровь и помятую траву на поляне, но следы затерялись на кочковатой земле у ключа. Жесткая осока за ночь выпрямилась, и мужик решил, что жеребенка зарезали волки или медведь.
Когда Надежда приехала с покоса, Забродина дома не было. Он явился только через два месяца, злой и оборванный: попался со спиртоносами в станице Черняевой и сидел в тюрьме. Надежда сказала ему, что жить с ним не будет, и, осмелев от возмущения, назвала его разбойником. Василий выслушал молча, а потом набросил ей на голову одеяло и так избил, что она с неделю не могла подняться…
– Рано сегодня смеркается: все небо обложило, – сказала Акимовна, подбирая обрезки материи. – Устаю смотреть ушибленным глазом, так вот заломит в висках. Как это я на сук-то напоролась, батюшки! Могла ведь и вовсе окриветь. Давай уж бросай. Чай пить охота, а Маруся где-то запропала.
Акимовна помешала в печке короткой клюшкой. Крыша возле трубы протекала, и грязные ручейки, шипя, сползали по нагретому железу, испаряясь и оставляя ржавые потеки. Дождь шел с самого утра и к вечеру усиливался.
Маруся на этот раз не заставила ожидать себя слишком долго и явилась еще засветло в чужом мужском дождевике. Из-под наброшенного на голову капюшона влажно блестело ее гладкое личико.
Повесив дождевик поближе к печке, она, морщась, стащила разбухшие сапоги и пробежала к столу с книгой, захватив по пути материну шаленку.
– Опять принесла. – Надежда с любопытством взяла книгу и посмотрела картинку на обложке.
– Ты погоди с чтением, – сказала Акимовна дочери, – поешь сперва. Будет уж голову-то забивать!
– Я не хочу есть: пила чай у ребят.
– Беда с тобой, право! Нашла у кого чаи распивать. Они ведь, поди-ка, все холостежь?
– Ну и что из этого? Бросьте вы со своими предрассудками! Для меня они не холостежь, а товарищи.
Акимовна презрительно хмыкнула:
– Гусь свинье не товарищ.
Маруся обиделась:
– Рассуждение у тебя… совершенно отсталое. Лицемерность одна. Вроде старых девок: ах, ох, а сами в щелочку на парней заглядывают. – Маруся помедлила, отыскивая заложенную страницу, потом сказала вслух, но как будто рассуждая сама с собой: – Надо, однако, перейти на горные работы. Чего я в конторе с моей грамотой добьюсь? Лучше учиться на десятника, все-таки можно до смотрителя дослужиться.
– Куда тебе на горные работы, – испуганно всплеснув руками, сказала мать. – Девушке да по ямам лазить! Еще оборвешься, искалечишься. Да и народ на старании разный… то пьяные, то с похмела…
– А в актрисы-то раздумала уже? – спросила Надежда.
– Ну, какая из меня актриса!
Крашеные волосы Маруси приняли зеленоватый оттенок, от корней уже посветлели, и, глядясь по утрам в зеркало, девушка каждый раз испытывала чувство стыда и досады. Недавний разговор с Черепановым особенно поколебал ее намерение пойти в кино. Черепанов сказал ей:
– Чтобы быть артисткой, нужно иметь талант.
Есть ли у нее талант, Маруся не знала и очень приуныла, когда узнала, какое трудное дело стать кинозвездой. Черепанов – человек серьезный, не станет обманывать.
Надежда как бы угадала ее последнюю мысль.
– Говорят, секретарь партийного комитета ухаживает за тобой?
– Сплетни, – строго отрезала Маруся.
Черепанов ей нравился, но он был намного старше и вел себя по-товарищески просто, да и сама она еще не задумывалась по-настоящему о семейной жизни.
«Путное образование дать не смогли, специальности нет. Остаться ученицей в конторе… До восемнадцати лет еще далеко, но на какую должность зачислят потом? Ведь научилась только подшивать бумаги да принимать телефонограммы. Проситься на рабфак – не на что ехать».
На улице шумно и тоскливо свистел ветер, трепал клок моха, повисший над окошком. Крупные капли дождя стекали по стеклу, как слезы.
– Вот в такую-то слякоть небольшая радость на горных-то работах грязь месить… А зимой вовсе беда, – доносился от печки голос матери, заглушаемый потрескиванием дров. Акимовна старалась протолкнуть в дверку суковатое, измочаленное топором полено и, когда искры брызгали ей на фартук, сердито отряхивалась и что-то еще ворчала себе под нос.
– Знаю, что нелегко, да ведь надо чем-нибудь толковым заняться, – сказала Маруся.
– А я так вовсе без толку живу, – промолвила Надежда и, облокотясь на стол, положила на руки пышноволосую голову. – Мне бы сейчас в самый раз уехать отсюдова, пока Василий сидит. В деревню он не поедет. Сестра-то меня ждет, поди. Мы с ней дру-ужно жили!
Марусю никто нигде не ждал, о деревне она и представления не имела. Ее душа жаждала увлекательных путешествий, приключений, романтики, поэтому девушка с особым интересом открыла принесенную книгу.
Фамилия автора не совсем хорошая, вроде даже ругательная – Скотт, но, читая его книги, Маруся уносилась из своего барака бог знает куда Нарядные красавицы важно шествовали перед нею по комнатам замков; в мрачных подземельях томились пленники; звенело оружие на рыцарских турнирах, скакали лошади, сверкая дорогой сбруей. Рыцари, завоевывая сердца прекрасных дам, безжалостно пронзали друг друга копьями и мечами. Мрачная история Англии, походы крестоносцев, битвы и завоевания ошеломляли Марусю. Огромный, полный движения мир распахивался перед нею, приковывая к себе ее неискушенный ум. Она неуверенно пробиралась в этом мире, следя за судьбами милых сердцу героев и коварных злодеев, сердилась на свою неразвитость.
Вот норманны!.. Почему она никогда не слыхала о таком народе? Что это за страна, где сражались за господний гроб, и каким образом гроб там очутился?
Мать собрала на стол, с трудом оторвала Марусю от занимательной книги.
К чаю ржаные шанежки с пшенной кашей… А сколько кушаний подавалось на рыцарских пирах! Маруся, похрустывая корочкой и сверкая глазами на сидевшую напротив Надежду, пила с блюдца чай, обжигалась и рассказывала о прочитанном. Надежда ела не торопясь: она любила слушать, когда рассказывали.
– Выдумки, наверно? – заметила она осторожно. – Неужели взаправду такое было?
– Почему выдумки? Раз исторический роман – значит, все взаправду. Вот у нас история рабочего движения – записано то, что происходило в жизни.
Акимовна рассудила по-своему.
– И распустить нашу сестру – хорошего мало. Эко добро какое: мужики кололи друг дружку, а они любовались! У нас тоже бои бывали, стенкой на стенку выходили на кулачки… Сначала шутя, а после в колья. Чего уж тут бабе глядеть? Со страха душа мрет!
25
Черепанов любил бывать среди людей, но, переступив порог рыжковского барака, вдруг ощутил чувство странной неловкости и только тогда подумал, что заходить не следовало: старатели еще на работе. Его выручила Маруся. Она в этот день пришла домой раньше обычного и сидела на своей постели, накрыв пальтишком босые ноги. Голова ее была повязана мокрым жгутом платка, глаза лихорадочно блестели.
– Ты меня пришел проведать? – простодушно спросила она, протягивая ему горячую руку. Я вправду расхворалась. Голова болит, тряхнуть ею не могу, будто она гвоздями набита.
Черепанов сел на скамейку, беспокойно огляделся.
– Купалась, наверно?
– Купалась на Орочене, за дамбой. Там теперь глубоко стало, но вода страшно студеная. Смотри, как сразу ощетинилась! – говорила Маруся, поеживаясь и удивленно разглядывая на свет обнаженную до локтя руку.
– Ты ляжь да укройся! – сказала Акимовна.
– Разлеживаться хуже… Однако, в конторе я и сидеть не смогла, смотрю на бумаги, а у меня слезы, слезы…
– А вообще в конторе тебе нравится?
– Нет, не нравится. Скучно! Входящие, исходящие, полдня на телефоне висишь, и ничего интересного.
– Что же тебя интересует? – спросил Черепанов и быстро обернулся: в барак вошла Надежда, нагруженная свертками.
Одним взглядом он охватил ее всю, от белокурой непокрытой головы до стройных ног, обутых в черные на низком каблуке башмаки.
– Конфет купила? – спросила Маруся.
– Купила дешевеньких.
– Ну, будем пить чай с дешевенькими, а в другой раз Черепанов принесет нам хороших. Принесешь?
– Принесу, – пообещал он и снова пристально взглянул на Надежду. Она смотрела на него доброжелательно и спокойно. – Значит, в конторе тебе не нравится? – переспросил он Марусю, невольно вздохнув.
– Нет. Пожалуй, из меня совсем ничего не получится. Поживу, поживу, выйду замуж и стану самой простой бабой. Мне раньше казалось – чем так жить, лучше умереть, а теперь нет-нет да и подумаю! Можно ведь стать не простой бабой, а хорошей. Мужа жалеть, беречь, и чтобы обязательно дети. Всякие… черненькие, беленькие, вот как у жены фельдшера. Я бы их штук шесть родила, тогда был бы смысл…
Черепанов слушал болтовню девушки с любопытством, Надежда одобрительно, мать смущенно.
– А что, если тебе сразу подбросить человек пятьдесят? – спросил Черепанов после небольшого раздумья.
Маруся удивленно посмотрела на него:
– Почему пятьдесят?
– Любишь ты их?
– Я маленьких всегда любила. Но мне некогда было с ними. А теперь… Вот у жены фельдшера… Я после работы к ним забегаю и хоть минуточку подержу на руках Вальку – это самый младший, еще грудной. Однако, он меня хорошо знает и всегда мне улыбается.
– Тебе надо идти работать в детский сад.
Маруся ответила не сразу: в замешательстве стащила с головы повязку и, старательно свернув, положила ее на столик.
– В детский сад?.. Шутишь, Черепанов?
– Без всяких шуток.
– Но я не умею… Ведь не уборщицей же ты мне предлагаешь? – Маруся прижала ладони к горящим щекам. – Нужно ведь быть педагогом.
– Научишься. И не педагогом. Мы тебя поставим заведующей.
– Ой!
– Что ой? Ты подумай, зря-то не волнуйся. В сентябре на Незаметном будут открыты при райкоме союза горняков курсы работников по дошкольному воспитанию. Подучишься и начнешь действовать. Луша Ли собирается в детских яслях работать. И своего будущего младенца туда же определит.
Забыв о болезни, Маруся начала торопить Акимовну с чаем. Сама принесла варенье из черники, шаньги. И так много говорила и смеялась, что щеки у нее стали совсем пунцовые.
– Не суетись! Без тебя обойдется, – сказала Акимовна. – Набегаешься и вовсе свалишься.
Когда Егор пришел с работы, он испугался, увидев за столом Черепанова. «Сватается к Марусе», – подумал он, вешая спецовку на деревянный гвоздь у дверей, хотел было уйти из барака, но, пересилив диковатую робость, достал кружку и начал наливать воду для бритья из чайника, стоявшего на печке. Руки его дрожали, нечаянно он толкнул железный лист и опрокинул ведро с супом, отставленное Надеждой. Почти с отчаянием смотрел Егор на лапшу, поплывшую по неровному полу. Суетня женщин вывела его из оцепенения. Он быстро прошел мимо них и смеявшихся старателей и выбежал из барака.
– Вот чудной Егор, господь с ним! – сказала Надежда. – Подумаешь, какая беда случилась! Сейчас только консервы открыть, и новая похлебка готова.
* * *
Черепанов засиделся у Рыжковых допоздна. Явились старатели из соседнего барака, и время в разговорах прошло незаметно. Когда Черепанов собрался идти домой, Зуев пошел с ним вместе. Старик проводил его по прииску и стал подниматься в гору.
– Легкий ты человек, Мирон Устинович, нет на тебе накипи никакой: ни злобности, ни зависти, – говорил он. – Потолкуешь с тобой – жизнь ровно на ладошке. Этак все ладно получается. А нутро твое для меня непонятно. Какая в тебе пружина действует? Заработок у тебя небольшой, хлопот много… А ведь мог бы ты по своему положению на богатую делянку попасть. Да с твоим-то здоровьем, да с молодостью! Сказывают, будто сам царь не побрезговал на Урале в забое покайлить. И выкопнул он там самородку с конскую голову. Только это механика была у тамошнего начальства, чтобы отличиться перед царем. А самородку ту раньше нашел шахтер один, а вместе с ней смерть себе нашел. Почему фарту не ищешь? – Старик Зуев остановился, и Черепанов, шедший сзади по узкой тропинке, наскочил на него.








