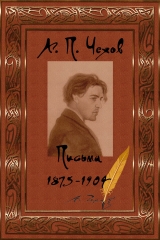
Текст книги "Письма 1875-1904"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 267 страниц)
218. М. В. КИСЕЛЕВОЙ
14 января 1887 г. Москва.
14-го янв.
Ваш "Ларька" очень мил, уважаемая Мария Владимировна; есть шероховатости, но краткость и мужская манера рассказа всё окупают. Не желая выступать единоличным судьею Вашего детища, я посылаю его для прочтения Суворину, человеку весьма понимающему. Мнение его сообщу Вам своевременно… Теперь же позвольте отгрызнуться на Вашу критику… Даже Ваша похвала "На пути" не смягчила моего авторского гнева, и я спешу отметить за "Тину". Берегитесь и, чтобы не упасть в обморок, возьмитесь покрепче за спинку стула. Ну, начинаю…
Каждую критическую статью, даже ругательно-несправедливую, обыкновенно встречают молчаливым поклоном – таков литературный этикет… Отвечать не принято, и всех отвечающих справедливо упрекают в чрезмерном самолюбии. Но так как Ваша критика носит характер "беседы вечером на крылечке бабкинского флигеля или на террасе господского дома, в присутствии Ма-Па, фальш<ивого> монетчика и Левитана", и так как она, минуя литературные стороны рассказа, переносит вопрос на общую почву, то я не согрешу против этикета, если позволю себе продолжить нашу беседу.
Прежде всего, я так же, как и Вы, не люблю литературы того направления, о котором у нас с Вами идет речь. Как читатель и обыватель я охотно сторонюсь от нее, но если Вы спросите моего честного и искреннего мнения о ней, то я скажу, что вопрос о ее праве на существование еще открыт и не решен никем, хотя Ольга Андреевна и думает, что решила его. У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в "навозной куче", но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, к<ото>рые не стыдились воспевать любовь такою, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлита, Пьера Бобо? Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и проч., этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем, решать же его – значит выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших "навозную кучу", не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает; ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только "негодяев с негодяйками", но даже и описание мужиков и чиновников ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние названного направления тоже не решает вопроса. Всё на этом свете относительно и приблизительно. Есть люди, к<ото>рых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в псалтири и в притчах Соломона пикантные местечки, есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейскою грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны за безнравственных; писатели-реалисты чаще всего бывают нравственнее архимандритов. Да и в конце концов никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь; одною рюмкою Вы не напоите пьяным того, кто уже выпил целую бочку.
2) Что мир "кишит негодяями и негодяйками", это правда. Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников. Думать же, что на обязанности литературы лежит выкапывать из кучи негодяев "зерно", значит отрицать самое литературу. Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание "зерен", так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, "зерно"– хорошая штука, но ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью; взявшись за гуж, он не должен говорить, что не дюж, и, как ему ни жутко, он обязан бороть свою брезгливость, марать свое воображение грязью жизни… Он то же, что и всякий простой корреспондент. Что бы Вы сказали, если бы корреспондент из чувства брезгливости или из желания доставить удовольствие читателям описывал бы одних только честных городских голов, возвышенных барынь и добродетельных железнодорожников?
Для химиков на земле нет ничего не чистого. Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые.
3) Литераторы – сыны века своего, а потому, как и вся прочая публика, должны подчиняться внешним условиям общежития. Так, они должны быть безусловно приличны. Только это мы и имеем право требовать от реалистов. Впрочем, против исполнения и формы "Тины" Вы ничего не говорите… Стало быть, я был приличен.
4) Я, каюсь, редко беседую со своею совестью, когда пишу. Объясняется это привычкою и мелкостью работы. А посему, когда я излагаю то или другое мнение о литературе, себя в расчет я не беру.
5) Вы пишете: "Будь я редактором, я для Вашей же пользы вернула бы Вам этот фельетон". Отчего же не идти и далее? Отчего не взять на цугундер и самих редакторов, печатающих такие рассказы? Почему бы не объявить строгий выговор и Главному управлению по делам печати, не запрещающему безнравственных газет?
Плачевна была бы судьба литературы (большой и мелкой), если бы ее отдали на произвол личных взглядов. Это раз. Во-вторых, нет той полиции, к<ото>рая считала бы себя компетентной в делах литературы. Я согласен, без обуздывания и палки нельзя, ибо и в литературу заползают шулера, но, как ни думайте, лучшей полиции не изобретете для литературы, как критика и собственная совесть авторов. Ведь с сотворения мира изобретают, но лучшего ничего не изобрели…
Вы вот желали бы, чтобы я потерпел убытку на 115 рублей и чтобы редактор учинил мне конфуз. Другие, в том числе и Ваш отец, в восторге от рассказа. Четвертые шлют Суворину ругательные письма, понося всячески и газету, и меня, и т. д. Кто же прав? Кто истинный судья?
6) Далее Вы пишете: "предоставьте писать подобное разным нищим духом и обездоленным судьбою писакам, как-то: Окрейц, Pince-nez, Aloe…" Да простит Вам аллах, если Вы искренно писали эти строки! Снисходительно-презрительный тон по отношению к маленьким людям за то только, что они маленькие, не делает чести человеческому сердцу. В литературе маленькие чины так же необходимы, как и в армии, – так говорит голова, а сердце должно говорить еще больше…
Уф! Утомил я Вас своей тянучкой… Если б знал, что критика выйдет такой длинной, не стал бы писать… Простите, пожалуйста!
Мы приедем. Хотели ехать 5-го, но… помешал съезд врачей; за сим помешал Татьянин день, а 17-го у нас вечер: "он" именинник!! Блистательный бал с жидовками, индейками и Яшеньками. После 17-го назначим день для поездки в Бабкино.
Вы читали мое "На пути"… Ну как Вам нравится моя храбрость? Пишу об "умном" и не боюсь. В Питере произвел трескучий фурор. Несколько ранее трактовал о "непротивлении злу" и тоже удивил публику. В новогодних нумерах все газеты поднесли мне комплимент, а в декабрьской книге "Русского богатства", где печатается Лев Толстой, есть статья Оболенского (два печатных листа) под заглавием "Чехов и Короленко". Малый восторгается мной и доказывает, что я больше художник, чем Короленко… Вероятно, он врет, но все-таки я начинаю чувствовать за собой одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых журналах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих критиков-такого примера еще не было… "Наблюдатель" выругал меня – и досталось же ему за это! В конце 86-го года я чувствовал себя костью, к<ото>рую бросили собакам…
Пьеса Влад<имира> Петровича печатается в "Театр<альной> библиотеке", откуда будет разослана но всем большим городам.
Я написал пьесу на 4-х четвертушках. Играться она будет 15 – 20 минут. Самая маленькая драма во всем мире. Играть в ней будет известный Давыдов, служащий теперь у Корша. Печатается она в "Сезоне", а посему всюду разойдется. Вообще маленькие вещи гораздо лучше писать, чем большие: претензий мало, а успех есть… что же еще нужно? Драму свою писал я 1 час и 5 минут. Начал другую, но не кончил, ибо некогда.
Алексею Сергеевичу напишу, когда он вернется из Волоколамска… Поклон всем нижайший. Вы, конечно, простите, что я пишу Вам такое длинное письмо. Рука разбежалась…
Поздравляю Сашу и Сергея с Новым годом.
Получает Сережа "Вокруг света"?
Преданный и уважающий
А. Чехов.
219. Ал. П. ЧЕХОВУ
17 января 1887 г. Москва.
17 янв.
Ваше Целомудрие!
Чтобы благодарить за труды по переводу денег, надо обладать слогом дяди Митр<офана> Егор<овича>. Спасибо! Если бы не ты, то деньги пришли бы неделей позже. Извиняю тебя за беспокойство и буду рад, если ты согласишься взять по 1/100% за комиссию…
Племяша и его родителей поздравляю: первого с андилом, а вторых с именинником. Желаю всего, всего!!!
С сокрушенным сердцем ожидаю Лейкина. Он опять утомит меня. С этим Квазимодо у меня разладица. Я отказался от добавочных и аккуратного писания, а он шлет мне слезно-генеральские письма, обвиняя меня в плохой подписке, в измене, двуличии и проч. Брешет, что получает письма от подписчиков с вопросом: отчего Чехонте не пишет? На тебя он зол за то, что ты не работаешь… Буду требовать 12 коп. со строки.
Рад бы вовсе не работать в "О<сколк>ах", так как мне мелочь опротивела. Хочется работать покрупнее, или вовсе не работать. Татьянин день провели отчетливо. Вечером у меня вечер. Приходи.
Видаешь ли Суворина? Пишешь ли? Что пишешь? Не предлагал ли суворинцам утилизировать твое писанье? Вообще, тебе надо выскакивать, не щадя живота. Голике прелестный немец. Никак не соберусь написать ему. Билибин тоже хорош, но на непривычного ч<елове>ка действует, как серый круг, к<ото>рый вертят: вял, бледен, скучен. Но если привыкнешь к нему, то не будешь каяться.
Три рубля теткою получены.
Так как в конце января я опять буду без денег, то, во избежание нытья домочадцев и займов, к<ото>рые действуют на меня болезненно, я опять буду беспокоить тебя насчет перевода. Помогай, а за это я тебе рецепт пришлю.
Какое глупое положение! Получил я переводом 220 руб. да из "Будильника" в тот же день 20, а осталось теперь только 30 р., да и те к 22 янв<аря> уйдут. Скажи, пожалюста, душя моя, когда я буду жить по-человечески, т. е. работать и не нуждаться? Теперь я и работаю, и нуждаюсь, и порчу свою репутацию необходимостью работать херовое.
Видал Сувориху? На праздниках у меня был с визитом муж ее сестры. Поневоле пришлось отдать визит и познакомиться с ее сестрой и маменькой.
В чем заключается твоя работа в "Новом времени"? Носит ли она творческий характер?
Пиши мне обязательно. Ввиду твоего бедственного состояния и дабы не умножать пролетариата, не роди больше. Этого хотят Мальтус и Павел Чехов.
Будь здоров и поклонись всем. Кокоше и Тотоше мое благословение; пусть работают: папаше и мамаше кушать нада… Петербург деньги любить.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь любящие брат и сестра
Антоний и медицина Чеховы.
Кроме жены-медицины, -у меня есть еще литература – любовница, но о ней не упоминаю, ибо незаконно живущие беззаконно и погибнут.
220. М. Е. ЧЕХОВУ
18 января 1887 г. Москва.
18-го.
Дорогой Дядя
Митрофан Егорович!
Вчера имел я удовольствие получить дорогой подарок: по письму от Вас и от Георгия. Оба письма так хороши и ласковы, что не откладываю ответа в далекий ящик и пишу.
Прежде всего поздравляю с Новым годом и приношу великое спасибо за память о Вашем искреннем почитателе и за снисходительность, с какою Вы относитесь к моему упорному молчанию. Виноват я перед Вами и Вашей семьей без меры. Оправдываю себя только тем, что я утомлен массою письменной работы и деловой перепиской. Несколько раз собирался писать Вам, но всё не удавалось. На Ваши именины я ехал с сестрой в Петербург, где прожил целую неделю и в вихре житейской суеты не имел ни одной свободной минуты; на праздниках я был завален работой до такой степени, что на именинах матери едва не падал от утомления.
Надо Вам сказать, что в Петербурге я теперь самый модный писатель. Это видно из газет и журналов, которые в конце 1886 года занимались мной, трепали на все лады мое имя и превозносили меня паче заслуг. Следствием такого роста моей литературной репутации является изобилие заказов и приглашений, а вслед за оными – усиленный труд и утомление. Работа у меня нервная, волнующая, требующая напряжения… Она публична и ответственна, что делает ее вдвое тяжкой… Каждый газетный отзыв обо мне волнует и меня и мою семью… В декабре, например, в журнале "Русское богатство" была статья критика Оболенского под заглавием: "Чехов и Короленко", где на 15 – 20 страницах критик превозносит меня до небес и доказывает, что я выше и лучше другого молодого писателя, Короленко, который гремит у нас в обеих столицах. Эта статья сделала у нас в доме переполох. "Новое время" и "Петербургские ведомости"– две большие питерские газеты-тоже треплют Чехова… Рассказы мои читаются публично на вечерах, всюду, куда ни явлюсь, на меня тычут пальцами, знакомства одолели меня своим изобилием и т. д., и т. д…. Нет дня покойного, и каждую минуту чувствуешь себя, как на иголках. А потому Вы делаете мне большое благо, что не сетуете на меня за молчание… Бог даст, увидимся и пополним беседою то, что пропущено в редкой переписке.
Пушкин, обещаемый "Лучом", не стоит 6 р. Это издательская уловка. Если Вы еще не успели подписаться на "Луч", то напишите мне: я вышлю Вам всего Пушкина (в подарок Георгию за его письмо). Мой хороший знакомый, Суворин, издатель "Нового времени", выпускает в продажу Пушкина 29-го января по баснословно дешевой цене – 2 рубля с пересылкой. Такие дела может обделывать только такой великий человек и умница, как Суворин, который для литературы ничего не жалеет. У него пять книжных магазинов, одна газета, один журнал, громадная издательская фирма, миллионное состояние – и всё это нажито самым честным, симпатичным трудом. Он родом из Воронежа, где когда-то был учителем уездного училища. Всякий раз, когда мы видимся, у нас бывает речь об Ольховатке, Богучаре и проч. Вижусь я с ним 2 раза в год, когда бываю в Питере. Мне он платит по сто рублей за один рассказ. В доказательство посылаю редакционный счет, по которому я за рождественский рассказ получил 111 рублей.
Георгий просит у меня газет, где я работаю. Охотно бы исполнил его просьбу, но увы! В юмористических журналах я почти уже не работаю, да и не годятся они для чтения. Я не люблю их. Самая серьезная работа у меня в "Новом времени". Выслать эту газету ничего не стоит, но дело в том, что мне неловко обращаться с просьбой к Суворину. Он в декабре сделал мне так много подарков, что теперь рука не поднимается просить его даже о пустяке… Пусть Георгий потерпит. Если Вы не подписались на "Луч", то непременно вышлю Пушкина. Даю слово. Это послужит Георгию утешением. Вместе с Пушкиным вышлю Вам свою книгу – сборник моих несерьезных пустячков, которые я собрал не столько для чтения, сколько для воспоминания о начале моей литературной деятельности. Книги будет высылать папаша, а потому в случае неполучения будете обращаться к нему: с него требуйте.
То, что нравится в моей книге, я отмечу в оглавлении синим карандашом. Остальное же заслуживает внимания только как образец того балласта, который приходится иногда творить под давлением безденежья.
Володя прав. Умнее писать в слове Владимир и, но не i. Это совсем лишняя буква. Если б от меня зависело, я упразднил бы и ять, и фиту (дурацкая буква!), и ижицу, и i. Эти буквы мешают только школьному делу, вводят в конфуз деловых людей, которым нет времени учиться грамматическим тонкостям, и составляют совершенно излишнее украшение нашей грамматики. Владеть нельзя мiром, это правда. Нельзя владеть и миром, но называть человека владыкою мipa можно. Скажите Володе, что из чувства благодарности, из благоговения или из восторга перед достоинствами лучших людей, теми достоинствами, которые делают человека необыкновенным и приближают его к божеству, народы и история имеют право величать своих избранников как угодно, не боясь оскорбить величие божие и возвысить человека до бога. Дело в том, что в человеке величаем мы не человека, а его достоинства, именно то божеское начало, которое он сумел развить в себе до высокой степени. Например, выдающихся царей именуют "великими", хотя телесно они не выше И. И. Лободы; папу зовут "святейшеством", патриарха звали вселенским, хотя он, кроме земли, не знался ни с какой другой планетой; князя Владимiра звали владыкою всего мipa, хотя он владел только клочком земли, князей зовут сиятельными и светлейшими, хотя шведская спичка светлее их в тысячу раз, и т. д. Употребляя эти названия, мы не лжем, не преувеличиваем, а выражаем свой восторг, как мать не лжет, когда говорит ребенку: "Золотой мой!" В нас говорит чувство красоты, а красота не терпит обыденного и пошлого; она заставляет нас делать такие сравнения, какие Володя по разуму раскритикует на обе корки, но сердцем поймет их. Например, принято сравнивать черные глаза с ночью, синие глаза с небесною лазурью, кудри с волнами и т. д., даже свящ<енное> писание любит эти сравнения, например: "чрево твое пространнее небес" или "воссия солнце правды", "камень веры" и т. д. Чувство красоты в человеке не знает границ и рамок. Вот почему русский князь может называться владыкой мipa; это имя может носить и мой приятель Володя, потому что имена даются не за заслуги, а в честь и в воспоминание когда-то живших замечательных людей… Если Ваш грамотей не согласится со мной, то у меня есть еще одна "закавычка", которая, наверное, проймет его: возвеличивая людей даже до бога, мы не грешим против любви, а напротив, выражаем ее. Не следует унижать людей – это главное. Лучше сказать человеку "мой ангел", чем пустить ему "дурака", хотя человек более похож на дурака, чем на ангела.
Вот и всё. А за сим примите от меня выражение самой искренней преданности. Поклонитесь тете, сестрам, братьям, Иринушке и всем знакомым.
Ваш А. Чехов.
Мой адрес: Москва, Кудринская Садовая, дом Корнеева.
Одновременно посылаю письмо Георгию.
Вчера у меня было очень много гостей. Был, между прочим, А. А. Долженко, игрок на скрипке и на цитре; из него вышел прекраснейший человек. Он бывает у нас раза 2 в неделю и очень привязан к нам. Он необыкновенно остроумен, честен и порядочен. Беднягу сбивают только ять, фита и i… Пишет прескверно и немало горюет по этому поводу. Талантлив он, как покойный Иван Яковлевич.
221. А. С. ЛАЗАРЕВУ (ГРУЗИНСКОМУ)
23 января 1887 г. Москва.
Вы напрасно поспешили уехать, добрейший коллега. Во-первых, у меня 17-го было многолюдно и весело, во-вторых, я готовил Вам медицинское свидетельство, и, в-третьих, Ваше усердие по службе совершенно бесполезно: насколько мне известно, за то, что Вы поспешили, Вас не произвели в действ<ительные> статские советники.
Лейкин сердит на Вас. На меня тоже. (Я потребовал прибавки.) Что ж, будем с покорностью сносить гнев наших начальников! Несть власти, аще не от бога… Посылая еще раз упрек за Ваше усердие * по службе, пребываю уважающим
А. Чехов.
На обороте:
г. Киржач (Владимирск<ой> губ.)
Его высокоблагородию
Александру Семеновичу Лазареву.
В учительской семинарии.
* Ведь на Вашу долю была закуплена провизия!
222. Н. А. ЛЕЙКИНУ
26 января 1887 г. Москва.
26-го янв.
Добрейший
Николай Александрович!
Сегодня получил Ваше письмо и немедленно отвечаю. Прежде всего констатирую тот факт (как говорят ученые жиды), что я нездоров. Вот уже целая неделя, как я чувствую во всем теле ломоту и слабость; сейчас ходил слушать лекцию Захарьина (о сифилисе сердца), простоял не более 1 1/2 часов, а утомился, точно сходил пешком в Киев. Работать нужно, но не работается, и всё, что я пишу, выходит плохо. Вот причина, почему я не послал Вам рассказа. В понедельник Билибин получил от меня письмо, в к<ото>ром я, во избежание траты на телеграмму, просил его немедленно уведомить Вас, что рассказа не будет.
Насчет Литературного фонда-с удовольствием. Если выбаллотируют, то уплатите им не из январского гонорара, а из будущего февральского, ибо сейчас не имею ни гроша. Буквально: ни гро-ша! Брать взаймы еще не научился – большое неудобство!
Относительно поездки в Питер на 2-й неделе поста не знаю, что сказать Вам. Я очень рад быть полезным, но, представьте, мои домашние уверяют меня, что читаю я отвратительно, да и сам я чувствую всякий раз, что после 40 – 50 строк у меня начинают сипеть и сохнуть голосовые связки. Как бы мне не проехаться даром и не наехать на скандал! Подумайте…
Алекс<андр> Пав<лович> писал мне о том, что он уже не служит в "Судоходстве". Судя по его письмам, живется ему недурно и он доволен.
У нас погода тоже скверная. Вчера была оттепель, сегодня мороз, а завтра будет дождь. Очевидно, природа стала работать в мелкой прессе. Иначе было бы непонятно такое ее поведение.
Вы пишете, что у Виктора Викторовича своеобразные требования по отношению к рассказам и повестям. Мне всякая своеобразность правится, а особливо такая, к<ото>рая долго держится в человеке. Виктор Викторович по-своему прав.
Отчего петербургская литературная братия не служила панихиды по Надсоне? Надсон – поэт гораздо больший, чем все современные поэты, взятые вместе и посыпанные богами Лиодора Иваныча. Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трех: Гаршина, Короленко и Надсона. За сим поклон Вашим.
Ваш А. Чехов.
Насчет одиннадцати копеек – merci!








