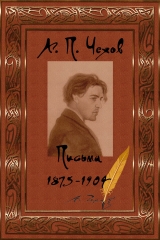
Текст книги "Письма 1875-1904"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 106 (всего у книги 267 страниц)
1225. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ
22 октября 1892 г. Мелихово.
22 окт. Ст. Лопасня.
Уважаемый
Анатолий Александрович!
Николай Михайлович письменно разрешил мне поступить с "Палатой № 6", как мне угодно. Я послал к нему в редакцию письмо и 500 р., взятые мною авансом, прося возвратить мне рукопись "Палаты № 6" и мою расписку. Но мой посланный не застал Николая Михайловича и вообще получил крайне неопределенный ответ. Убедительно прошу Вас на сей раз не отказать моему посланному, т. е. возвратить мою рукопись и принять 500 рублей.
Искренно Вас уважающий
А. Чехов.
1226. В. М. ЛАВРОВУ
22 октября 1892 г. Мелихово.
22 октябрь.
Многоуважаемый
Вукол Михайлович!
Корректуру получил. Благодарю и извиняюсь за беспокойство. Дорога ужасная, отвратительная, и мне жаль Вашей посланной, которая должна была два часа болтаться в грязи, смешанной со снегом. Повесть того не стоит. Сейчас я буду посылать нарочного на станцию, завтра – тоже, и таким образом муки, какие приняла на себя Ваша Пелагея, являются излишними. Ведь я говорил сестре, что на станции будет мой нарочный и что рукопись надо было отдать начальнику станции. Ну, да что делать!
29-го окт<ября> у меня в Серпухове Санитарный совет и обед с докторами, а 30-го я буду в Москве вместе с корректурой. Остановлюсь в "Лоскутной".
В "Русском обозрении", очевидно, хотят пуститься на какой-нибудь фокус. Уж не напечатать ли повесть? Храни создатель. Посылаю письмо на имя редактора Александрова.
Корректуры не задержу, будьте покойны. Желаю всего хорошего и кланяюсь.
Ваш А. Чехов.
1227. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
24 октября 1892 г. Мелихово.
24 окт. Ст. Лопасня, Моск.-Курск. д.
Если бы не штурман "Недели", приславший мне Ваш адрес и писавший о Вас, то я не знал бы, на какой Вы планете и что с Вами. Давно уже я не писал Вам, милый Жан, и давно, давно не видел трагического почерка.– Ну-с, как Вам известно, я уже выбрался из Москвы и живу в благоприобретенном имении. Я залез в долги (9 тысяч!!), погода аспидская, нет проезда ни на колесах, ни на санях, но в Москву не тянет и никуда не хочется из дому. В доме тепло, а на дворе просторно; за воротами лавочка, на которой можно посидеть и, глядя на бурое поле, подумать о том, о сём… Тишина. Собаки не воют, кошки не мяукают, и только слышно, как девчонка бегает по саду и старается водворить на место овец и телят. Я плачу проценты и повинности, но это обходится вдвое дешевле, чем квартира в Москве. В качестве холерного доктора я принимаю больных, они подчас одолевают меня, но это всё-таки втрое легче, чем беседовать о литературе с московскими визитерами. И тепло, и просторно, и соседи интересные, и дешевле, чем в Москве, но, милый капитан… старость! Старость, или лень жить, не знаю что, но жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело. Словом, душа вкушает хладный сон.
А Свободин-то каков! Этим летом он приезжал ко мне два раза и жил по нескольку дней. Он всегда был мил, но в последние полгода своей жизни он производил какое-то необыкновенное, трогательное впечатление. Или, быть может, это мне казалось только, так как я знал, что он скоро умрет. Я, да и Вы тоже потеряли в нем человека, который искренно привязывался и искренно любил, не разбирая, великие или малые дела мы совершаем. Он за глаза всегда называл Вас Жаном и любил сказать о Вас что-нибудь хорошее. Это был наш приятель и наш заступник.
Ну что Вы поделываете? Что пишете? Был бы рад прочесть или Вашу повесть, или пьесу. Мои сверстники интересуют меня гораздо больше, чем все новые. Как ни ругали за границей Вашу "Около истины", но мне эта повесть кажется на 10 голов выше, чем все лучшие вещи Потапенко. Ничего не поделаешь, старость! А старость брюзжит и упряма… Кстати о Вашей повести. То, что писали о ней за границей, конечно, сущий вздор. Это не критика, а травля писателя. Но в повести тяжело с внешней стороны – это форма, а с внутренней – тон повести. Письма и дневники форма неудобная, да и неинтересная, так как дневники и письма легче писать, чем отсебятину. Тон же с самого начала взят неправильно. Похоже на то, как будто Вы заиграли на чужом инструменте. Нет именно того, что составляет необходимую примесь во всем, что я раньше читал: ни добродушия, ни Вашей сердечной мягкости. Может быть, так и нужно; может, и нужно казнить людей, но… наше ли это дело? Я грубый и черствый человек и не могу передать Вам свои мысли именно в той форме, в какой нужно, но Вы и без передачи поймете, что именно я хотел сказать, но не сумел. Досадно было мне главным образом, что Ваша повесть попала в "Р<усский> вестник", которого не читают даже критики, не говоря уж о публике. Этот журнал считает своих подписчиков сотнями.
Что касается меня, то я написал за лето две тугие повести, которыми я поправлю немножко свои финансы, но славы – увы! – не преумножу. Не писалось, да и медицина всё лето мешала. А может быть, и отвык писать. Я уже давно не писал с удовольствием, а это дурной знак. Сунулся я было в "Неделю" с рассказом ("Соседи"), но вышло нечто такое, что не следовало бы печатать: ни начала, ни конца, а какая-то облезлая середка.
Нам бы потолковать, Жан! У Тестова бы посидеть! А? Что Вы на это скажете? Если Вы охладели ко мне почему-либо, то вспомните, что я по-прежнему Вас люблю и что нас немного осталось, и натяните свои нервы в мою пользу.
Жене Вашей поклонитесь. Читала ли она про себя в "Неделе"?
Будьте, голубчик, здоровы и благополучны.
Ваш А. Чехов.
Скажите Вашей жене, что у меня свои гуси, куры, утки, овцы, телки… Моя мать утешается.
1228. С. Ф. РАССОХИНУ
24 октября 1892 г. Мелихово.
24 октябрь. Ст. Лопасня.
Многоуважаемый
Сергей Федорович!
Я был недавно в Москве и хотел зайти к Вам, чтобы возвратить 10 лишних экземпляров "Юбилея" и поговорить об "Иванове", но не успел. "Иванова", конечно, печатайте. Если у Вас нет печатного экземпляра, то я могу прислать. То, что печаталось в "Северном вестнике" в типографии Демакова, разрешено обеими цензурами.
Уважающий
А. Чехов.
1229. В. М. ЛАВРОВУ
25 октября 1892 г. Мелихово.
25 окт.
Многоуважаемый
Вукол Михайлович!
Да будет воля Ваша! Печатайте вперед "Палату № 6", хотя мне это будет немножко стыдно, так как я говорил Боборыкину, что беру повесть от него только для того, чтобы подержать ее у себя год и переделать. Я ему не врал, а теперь выйдет так, что соврал. Ну, да чёрт с ним! А в самом деле "Палату" следовало бы перекрасить, а то от нее воняет больницей и покойницкой. Не охотник я до таких повестей…
Если время терпит, то погодите высылать мне корректуру "Палаты". Я буду в Москве непременно 29-го вечером или 30-го утром и прочту ее, сидя в номере. На прочтение уйдет дня два или три. Я думаю, что успеем. Мне жаль Ваших посланников, которым приходится ездить по отвратительнейшей дороге.
А знаете? Я тогда опоздал к Мюру и Мерилизу. Подъезжаю – заперто… Еду на Басманную и вдруг вспоминаю, что забыл у Вас свой портфель. Скачу к Вам. От Вас опять на Басманную.
Я не читал "Русской мысли" за 92 г. и рад, так как теперь у меня есть местечко, куда я могу спрятаться от скуки. Читать сразу за год веселее, чем за месяц. Только жаль, нет начала Сенкевича.
Кланяюсь Виктору Александровичу и Митрофану Ниловичу.
Искренно преданный
А. Чехов.
1230. А. С. СУВОРИНУ
27 октября 1892 г. Мелихово.
27 октябрь.
Покачивания, пошатывания с потемнением в глазах и даже с потерей сознания на несколько секунд, а также чувство ветра и вихря в голове – явление почти обычное у людей ваших лет, у женщин и у дурно питающейся молодежи. С этим надо мириться и, памятуя о своих летах, быстро не ходить, когда голова работает и когда надета на Вас тяжелая шуба. Меня самого пошатывало, когда я был студентом 2-го курса, и это мучило меня, теперь же у отца бывают головокружения с потерей сознания на 10 – 20 секунд, и это меня нисколько не беспокоит. У крестьян-стариков это обыкновенная болезнь, и я лечу ее тем, что велю не пугаться, не менять образа жизни и, буде не лень, пить валериановые капли по десяти 4 раза в день. Последнее при слабом и среднем пульсе. Впрочем, каждый случай приходится индивидуализировать, но во всех случаях не бывает надобности лгать больному, как это случается, когда лечишь рак или чахотку. Вам теперь, пожалуй, месяц или два, пока не привыкнете, всё будет казаться, что Вы сейчас упадете, и Вы нарочно будете ходить по-под забором, чтоб было за что ухватиться, но Вы не позволяйте себе этого, а напротив, когда приходит охота упасть, говорите себе: "Падай, падай"… Не упадете. Народу по улице много ходит, но никто не падает. А главное не мешайте себе ездить в театр и куда угодно. Когда бываете на выставках, то берите с собой легкий складной стул, похожий на букву Х и стоящий 90 коп. Через каждые 2 – 3 картины садитесь и сидите. От долгого разговора, требующего усиленного прилива к легким, а стало быть, отлива от головы, бывает утомление мозга, а посему помалкивайте. Хорошо также, чтоб запоров не было. Если бы Вы не были похожи на Анну Ивановну и верили в мой медицинский гений, то я прислал бы Вам хороший рецепт – пилюли от запоров. Но Вы в этом деле считаете меня "мужичонкой" и даже не хитрым. Аллах Вам судья! Кстати о моем гении… За это лето я так насобачился лечить поносы, рвоты и всякие холерины, что даже сам прихожу в восторг: утром начну, а к вечеру уж готово – больной жрать просит. Толстой вот величает нас мерзавцами, а я положительно убежден, что без нашего брата пришлось бы круто. В 30 верстах от меня заболело холерой 16 человек и умерло только 4, т. е. 25%. Такой малый процент я объясняю прямо-таки тем, что дело не обошлось без вмешательства моих коллег Петра Иваныча и Ивана Корниловича, с которыми, кстати сказать, 29-го я буду обедать. Даем торжественный обед серпуховскому доктору и его жене, которые летом во время санитарных советов кормили нас обедами.
Прочтите, пожалуйста, в "Русской мысли", март, "Несколько лет в деревне" Гарина. Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону, и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно и конец приподнят, но зато середка – сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй.
Рассказ в "Новое время" непременно пришлю. Пришлю Вам также в наказание за грехи корректуру своего рассказа, отданного в "Р<усскую> мысль". Он пойдет в мартовской книжке (печатать до подписки боятся – цензура), а мне невтерпеж, хочется Вас угостить поскорее.
Читаю "Дневник" Башкирцевой. Чепуха, но к концу повеяло чем-то человеческим.
Я приеду к Вам, конечно, но не раньше Рождества. Что же касается моего основательного сиденья в "Новом времени" с основательным содержанием, как Вы пишете, то на первое, т. е. на сиденье, у меня не хватит пороху, ибо я плохой и ленивый журналист, а второе я уже взял.
Мишу из Алексина переводят в Серпухов. Будет жить в своем участке, т. е. у меня. Про Александра слышал, что он стал вегетарианцем и бросил пить. Иван получил повышение и похудел от избытка работы.
Погода отвратительная.
Ну, будьте здоровы и не бойтесь своей болезни. Моренгейм вельможа, имеет Почетного Легиона 1-й степени, да и с тем во время пасхальной утрени произошла неприятность…
Ваш А. Чехов.
А Амфитеатров хорошо пишет.
1231. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
30 октября 1892 г. Москва.
30 окт.
Милый Жан, сейчас я в Москве. Сегодня же еду в Петербург; не еду, а скачу, так как получил известие о болезни Суворина. Насколько могу понять из писем, угрожающего пока нет ничего, явления чисто старческие, но ехать все-таки надо. Но если дела в самом деле так плохи, как думает Суворин, то… уже я не знаю, что сказать Вам, и не буду знать. Для меня это была бы такая потеря, что я, кажется, постарел бы лет на десять!
Вернусь я из Питера, вероятно, 6 – 10 ноября. Приехав в Москву, поезжайте к брату учителю на Новую Басманную в Петровско-Басманное училище, рядом с каланчой; тут Вы встретите брата и сестру М<арию> П<авловну>. Они скажут Вам, где я. Если я 10-го буду уже в деревне, то ничтоже сумняся поезжайте Вы ко мне. Быть может, Вас проводит ко мне сестра. Живу я в трех часах езды от Москвы. Близко.
Ну, будьте здоровехоньки, милый Жан.
Кланяйтесь Вашей жене.
Ваш А. Чехов.
1232. Н. Н. ОБОЛОНСКОМУ
Конец октября 1892 г. Москва.
Моя добрая знакомая, учительница Лидия Федоровна Михайлова просила меня рекомендовать ее Вам. Наши кланяются.
Всего хорошего!
Ваш А. Чехов.
На конверте:
Тверская,
Долгоруковский переулок, дом Лобачева
Доктору Николаю Николаевичу Оболонскому.
1233. И. И. ЯСИНСКОМУ
31 октября 1892 г. Петербург.
Уважаемый Иероним Иеронимович, не хотите ли сегодня пообедать со мной где-нибудь и вечер провести вместе? Хотелось бы поговорить. Если можно, то до 6 часов дайте ответ: Мл. Итальянская, 18, кв. Суворина.
Ваш А. Чехов.
Я приехал на 2 – 3 дня.
1234. В. Л. КИГНУ (ДЕДЛОВУ)
2 ноября 1892 г. Петербург.
2 ноябрь.
Милостивый государь
Владимир Людвигович!
Письмо Ваше я получил у себя дома (Ст. Лопасня Моск.-Курск. д.), отвечаю же из Петербурга, куда я попал совсем случайно и ненадолго.
"Попрыгунью" отдаю в Ваше полное распоряжение. В. А. Тихонов вчера говорил мне, что в декабре Вы будете в Петербурге. Я был бы очень рад повидаться с Вами. Странно, что мы с Вами до сих пор еще не знакомы, хотя давно уже работаем вместе на одном поприще и имеем общих друзей и приятелей. И странно, что я до сих пор еще не имел случая поблагодарить Вас лично за то внимание, какое Вы мне так часто и, говоря по совести, так незаслуженно оказываете.
От души желаю Вам всего хорошего.
Преданный А. Чехов.
1235. И. Л. ЛЕОНТЬЕВУ (ЩЕГЛОВУ)
3 ноября 1892 г. Петербург.
3 ноябрь. Петербург.
Не беспокойтесь, милый Жан, я не напишу Вам ничего дурного. А<лексей> С<ергеевич>, правда, нездоров, но в здоровье его нет пока ничего серьезного и угрожающего. У него бывают головокружения, пошатывания и т. п., но всё это для городского жителя в пожилые годы составляет явление почти нормальное. Старость, ничего не поделаешь. Меня спросили: нужно ли ехать к Захарьину? Я по совести ответил: нет. Простите пачкотню. А<лексей> С<ергеевич> выглядит бодро, работает каждый день, гуляет, много говорит, и вообще в его жизни не замечается никаких перемен. Организация у него не из слабых, но… все под богом ходим!
Будьте здоровеньки и не забывайте меня. Завтра уезжаю домой.
Ваш А. Чехов.
1236. Н. Н. ОБОЛОНСКОМУ
5 ноября 1892 г. Петербург.
Четверг.
Суворина раза два или три пошатывало на улице, он испугался и написал мне унылое и безнадежное письмо. Теперь он успокоился, по-видимому, совершенно здоров и забыл о своих головокружениях. Я передал ему содержание Вашего письма, он был очень и очень тронут и сказал, что непременно воспользуется Вашим предложением, когда опять заболеет, и надеется, что Вы не раздумаете.
Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Николай Николаевич! Я хожу в Милютин ряд и ем там устриц. Мне положительно нечего делать, и я думаю только о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи.
Я был у Вас, чтобы пригласить Вас к себе в имение и рассказать Вам про свою новую жизнь, но дома Вас не застал. Хотел я также поблагодарить Вас за Лидию Федоровну. Она мне с восторгом говорила о Вас.
Когда же мы, наконец, увидимся? Я должен уехать в Москву на сих днях. Пробуду в Москве не дольше одного дня, а потом, недели две спустя, опять приеду. Перед святками поеду в Питер… Не желаете ли прокатиться вместе? Полечили бы Лескова, который очень болен, и повидались бы с Вашим приятелем Гнедичем, которого я в сей приезд не видел. В Питер я двинусь около 15 декабря.
Софье Виталиевне и Необыкновенному Уму – мой нижайший поклон. Будьте здравы и небесами хранимы.
Ваш А. Чехов.
1237. А. С. СУВОРИНУ
22 ноября 1892 г. Мелихово.
22 ноябрь.
Передайте Анне Ивановне, что не присылал я ей до сих пор своей новой повести, потому что не отдавал еще в набор последней главы, которую исправляю. Повесть, или, как выражается Анна Ивановна, "труд", выйдет в свет в марте.
Передайте Алексею Алексеевичу, что я послал ему письмо насчет статьи д-ра Святловского и нетерпеливо жду ответа. Статья хорошая, и я боюсь, как бы Алексей Алексеевич не охладел к ней.
Днем валит снег, а ночью во всю ивановскую светит луна, роскошная, изумительная луна. Великолепно. Но тем не менее все-таки я удивляюсь выносливости помещиков, которые поневоле живут зимою в деревне. Зимою в деревне до такой степени мало дела, что если кто не причастен так или иначе к умственному труду, тот неизбежно должен сделаться обжорой и пьяницей или тургеневским Пегасовым. Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи – всё это располагает к лени, равнодушию и к большой печени. Если Вам когда-нибудь случится в своих "маленьких письмах" посылать интеллигенцию в деревню, то ставьте непременным условием, чтобы люди, не умеющие писать, читать, лечить, работать на фабрике, учить в школе или, как покойный Голохвастов, копаться в истории, оставались бы в городе, иначе они очутятся в дураках. Один мой сосед, молодой интеллигент, сознавался мне, что он очень любит читать, но не в состоянии дочитать книгу до конца. Что он делает в зимние вечера, для меня непостижимо.
Как Ваши головокружения? Если Вы уже забыли о них, то слава небесам. Пишите роман! Пишите роман! Пусть у Вас кружится голова, но пишите романы и пьесы.
Мережковский ничего не писал мне о журнале. Литературный журнал составляет теперь гвоздь его мечтаний, и, очевидно, он согласен со мной, что я не гожусь в редакторы. Сотрудником и советником я был бы охотно, и охотно отдал бы 4 – 5 зимних месяцев новому делу, если бы оно обещало быть серьезным.
"Дон-Жуан" в прозе – волшебная штука. В этой громадине всё есть: и Пушкин, и Толстой, и даже Буренин, похищавший у Байрона каламбуры. "Манфред" эффектен по обстановке, но в сравнении с гётевским "Фаустом" совсем жидок. Я видел "Манфреда" на сцене Большого театра, когда в Москве был Поссарт, и тогда он произвел на меня сильное впечатление.
Из Петербурга в последний раз я ехал в спальном вагоне III класса. Сосед курил вонючую сигару, спать пришлось наверху, рядом с полкой, которая всю ночь резала мне бок. У меня были деньги на курьерский поезд, и почему мне пришла охота разыграть из себя скрягу, не могу понять.
В Москве такая масса охотников покупать небольшие имения, а имений продажных так мало, что я, если б захотел, мог бы устроить хороший гешефт. За второй участок мне дают уже дороже, чем он стоит, но я бегу от финансовых искушений. Со временем десятин десять я отдам под земскую больницу, а остальное разделю между членами своей фамилии. Я подохну старым холостяком.
Холеры в Московской губ<ернии> уже нет.
Напишите мне что-нибудь веселенькое. Жажду Вас видеть. Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов.
1238. Л. С. МИЗИНОВОЙ
23 ноября 1892 г. Мелихово.
Милая Ликуся, Вы пишете, что Вам было досадно уезжать из Мелихова и что в Москве Вам некуда деваться от тоски. Вы хотите, чтобы я Вам поверил? Извольте, ангел мой! Вы вскружили мне голову до такой степени, что я готов верить даже тому, что дважды два – пять. Могу себе представить, как Вы, бедняжка, тоскуете в обществе Архипова, Куперник, кн. Урусова и проч., как противен Вам коньяк и каким раем представляется Вам Мелихово, когда Вы в Симфоническом щеголяете в своем новом голубом платье, которое, говорят, Вам очень к лицу.
Неужели Вы не скоро приедете? Не скоро? Да?
Ваш А. Чехов.
23 ноябрь, Европа.
Пишите!
1239. А. С. СУВОРИНУ
25 ноября 1892 г. Мелихово.
25 ноябрь.
Вас нетрудно понять, и Вы напрасно браните себя за то, что неясно выражаетесь. Вы горький пьяница, а я угостил Вас сладким лимонадом, и Вы, отдавая должное лимонаду, справедливо замечаете, что в нем нет спирта. В наших произведениях нет именно алкоголя, который бы пьянил и порабощал, и это Вы хорошо даете понять. Отчего нет? Оставляя в стороне "Палату № 6" и меня самого, будем говорить вообще, ибо это интересней. Будем говорить об общих причинах, коли Вам не скучно, и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 30 – 45 лет дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо, Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рождать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которая для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет "чего-то", это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и Вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные – бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше – ни тпрру ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет – дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского. Не знаю, что будет с нами через 10 – 20 лет, тогда, быть может, изменятся обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-нибудь действительно путного, независимо от того, талантливы мы или нет. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут… Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, в не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром… Недаром, недаром она с гусаром!
Ну-с, теперь об уме. Григорович думает, что ум может пересилить талант. Байрон был умен, как сто чертей, однако же талант его уцелел. Если мне скажут, что Икс понес чепуху оттого, что ум у него пересилил талант, или наоборот, то я скажу: это значит, что у Икса не было ни ума, ни таланта.
Фельетоны Амфитеатрова гораздо лучше, чем его рассказы. Точно перевод со шведского.
Ежов пишет, что он собрал, или, вернее, выбрал, рассказы и хочет просить Вас издать его книжку. У него инфлуэнца, у дочери тоже инфлуэнца. Закис человек.
Я приеду и, если не прогоните, буду жить в Петербурге почти месяц. Быть может, выберусь в Финляндию. Когда приеду? Не знаю. Всё зависит от того, когда напишу повесть листов в пять, чтобы весною опять не обращаться к кредиту.
Да хранит Вас небо!
Как Вы насчет Швеции и Дании?
Ваш А. Чехов.








