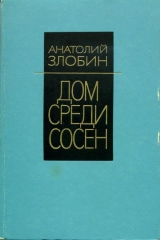
Текст книги "Дом среди сосен"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
Никита мылся под краном, когда прибежал диспетчер и сообщил ему, что его срочно требует начальник автобазы.
«Теперь уж все равно», – подумал Никита, поворачиваясь всем телом под холодной струей. Тело мучительно болело и ныло во многих местах, особенно в правом боку. На щеке, под правым глазом выросла шишка.
– Где это тебя разукрасило? – спросил диспетчер.
Никита ничего не ответил и направился в комнату. Диспетчер шагал за ним, как привязанный.
– Пошевеливайся, Кольцов. Приказано сейчас же.
Никита не спеша оделся. Они вышли во двор. Один за другим самосвалы выезжали за ворота, весь двор был заполнен плотным гулом их моторов.
Никита перебежал дорогу и едва не столкнулся с Ирошниковым.
– Как дела, Коля?
– Эх, Никита, не захотел ты мне помочь... А теперь уволили меня...
– Так я со всей душой...
– Ты только не думай, я не жалуюсь. Я так не оставлю. И увольнение мое незаконное. Я в местком пойду, я в суд на них подам, все их махинации разоблачу, я решил окончательно...
Подбежал диспетчер:
– Не задерживай, Кольцов. У меня ведь тоже свои дела есть. Мне с тобой некогда.
– На минутку, – Ирошников потянул Никиту в сторону.
– Зовут меня, – виновато сказал Никита.
– Холуем стал, – с неожиданной злостью сказал Ирошников и оттолкнул Никиту. – Не хочешь со мной...
– Куда же ты? Постой. Дождись меня.
Ирошников даже не обернулся, быстро, почти бегом, направляясь к воротам.
Из кабинета Мурашева доносились громкие голоса. Диспетчер знаком остановил Никиту, осторожно приоткрыл дверь, вытянул голову и просунул ее в щель.
– ...Сейчас поздно. Он уже там, – слышалось за дверью.
– Сам лапки поднял в вышину. Сам!
– Главное, чтобы он не раскололся...
Голоса смолкли. Диспетчер распахнул дверь, пропуская Никиту.
Он вошел в кабинет, оглядываясь по сторонам. Мурашев сидел в кресле и стучал по столу спичечным коробком. За его спиной стоял Васька Силаев. А у окна, свесив голову на воротник пальто, сидел необычно тихий Кравчук.
«Это он из-за Бориса такой, – подумал Никита, – сын его, наверное».
Он поздоровался. Ему никто не ответил, один Силаев несильно кивнул головой.
– Прошу, Кольцов, докладывай, – враждебно проговорил Мурашев, ломая пальцами спичку.
– А чего докладывать...
– Почему на работу опоздал?
– Больной я...
– Бюллетень есть? Нет. Где ты был?
– Да уехали вчера далеко. Пешком до станции шел. Там вздремнул малость. Проспал первый поезд.
– Надо было следовать на машине. Почему покинул машину? За это знаешь что бывает?..
– Дезертир с рабочего места, – вставил Силаев, строго глядя на Никиту.
– Ничего я не покидал.
– На тридцать пять минут опоздал на смену, – продолжал Мурашев, перечисляя по очереди проступки Никиты. – За это тебя тоже по головке не погладят.
– Делайте что хотите, – отсутствующим голосом сказал Никита.
Кравчук оторвал голову от пальто и тусклыми глазами посмотрел на Никиту.
– Ты Бориса видел? Как взяли его, видел?
– Мы ведь далеко были, – как бы оправдываясь, сказал Никита. – Метров шестьсот. Не видно было. Стреляли они. В воздух...
– Ладно, – перебил Мурашев, тяжело дыша. – Слова теперь бесполезны. Мы, конечно, сочувствуем, но давайте думать дальше. Ты сейчас поезжай, Григорий Львович. Прямо туда.
Кравчук заторопился: вскочил, стал крутить пуговицу на пальто, шарить по карманам, приговаривая:
– Да, да, я побежал, побежал. Узнаю, где он находится. Мне в одном месте обещали... Я звонил... У меня еще один телефончик есть...
– Непременно позвони к нам, – напомнил Мурашев. – А мы тут... – он покосился на Никиту.
Кравчук суетливо побегал по комнате, пока наконец не натолкнулся на дверь и не выбежал в нее. Никита молча наблюдал за происходящим. «Засуетились теперь», – со злобной радостью думал он.
– Что же мне с тобой делать? – спросил Мурашев, глядя на спичечный коробок.
Никита промолчал.
– Ладно, Кольцов. Я тебе зла не желаю и потому прощаю тебя. Проси у меня, что хочешь. Да ты садись.
– Чего мне просить, – сказал Никита, – продолжая стоять.
– Вот Силаев говорил, что домой, в колхоз, хочешь. Что ж, пиши заявление по собственному желанию. Характеристику хорошую напишем. Выходное пособие дадим. Премируем за образцовую работу. Выйдет сотни полторы, а то и больше. Не пустой домой приедешь.
– Никуда я не поеду, – спокойно ответил Никита.
– Как так? – Белая рука Мурашева взметнулась кверху и тут же упала на стол, раздавив коробок. – Что же ты собираешься делать?
– Работать буду.
– В лагерях? – Василий сделал прыжок от кресла и подскочил к Никите, выставив вперед кулак. – Иди, иди. Там таких работяг только и поджидают. С объятиями встретят. Добро пожаловать!
Никита сделал шаг вперед и отвел кулак Василия.
– Ничего вы со мной не сделаете, – торжественно проговорил он. – Не боюсь я вас. Я в народный контроль пойду.
– Ты думаешь, народный контроль пьяниц станет покрывать? Ошибаешься, дорогой товарищ, – Мурашев поболтал в воздухе бумажкой. – Вот она, справка: задержан за рулем в пьяном виде...
– Ничего, там разберутся, – Никита решительно повернулся и пошел, слыша за спиной злобное шипение Силаева. Мурашев шелестел бумажками.
На дворе он вспомнил про Ирошникова и бросился искать его. Ирошникова нигде не было: ни в мастерской, ни в гараже, ни в диспетчерской. Запыхавшись, Никита прибежал в общежитие и понял, что опоздал. Койка Ирошникова была пуста. Комендант уже унес матрац и подушку.
Вечером, едва поставив машину в гараже, Никита поехал на Парковую, где после свадьбы с Машей жил Буровой. Его приняли радушно, потчевали вкусными домашними пирогами, поили крепким пахучим чаем. Буровой сидел против Никиты и все время улыбался и заглядывал ему в лицо, безмолвно спрашивая: «Ну как, хороша моя Маша?» Никита соглашался, усердно хвалил пироги, хозяйку и завидовал Буровому.
И он ничего не рассказал ему, хотя приезжал только за этим.
В общежитии его поджидал Василий. Увидев Никиту, он полез под кровать и стал копаться в чемодане. Никита молча стянул телогрейку и принялся собирать вещи.
– Надумал в деревню? – спросил Василий, вылезая из-под кровати. – Пламенный привет землякам.
– Я пока туда не собираюсь.
– Постой, как же ты не собираешься? Не едешь? А это достояние? – Василий кивнул на чемодан Никиты.
– Сдам на хранение.
– А сам?
– Пойду правду искать.
– Ой, Никита, правда, она разная бывает.
– У воров она разная, у честных – одна.
– Так, так. Значит, пойдешь искать? – Василий задумчиво почесал ухо. – Решил присоединиться к Борису?
– Про Бориса тоже вспомним, – вежливо ответил Никита.
Василий осекся, поняв, что сболтнул лишнее. Он торопливо побросал вещи в чемодан и закрыл его, придавив коленом. У двери он с яростью поглядел на Никиту:
– Последнее слово: едешь?
– Я свое слово сказал, повторять не буду. Остаюсь, – твердо сказал Никита. Он принял решение, и теперь ничто не могло остановить его.
Никита вышел на улицу.
За углом его поджидал Буровой. Никита забрался в кабину, поставил чемодан под ноги, и они поехали.
Они увозили последний снег с московских улиц, сбрасывали его с набережной в Москву-реку, снова подъезжали к снегопогрузчикам, а Никита все рассказывал и рассказывал Буровому про свои дела.
– Да, – заговорил наконец Буровой. – Какую же тайну они вокруг развели. И чего же они с коммунизмом делают? А вот Ирошникова ты зря оттолкнул. Это верно. Вдвоем вам легче было бы...
– Обиделся он. Ушел. Узнать бы, где он теперь. И присоединиться к нему. Правду он сказал: надо с ними помериться.
– Постой, постой! – воскликнул Буровой, – Коля мне говорил, что у него брат есть и он пойдет к нему в случае чего.
– А где он, брат этот? – спросил Никита, загораясь надеждой.
Буровой не мог вспомнить. Он хлопал себя по лбу, закрывал глаза, чесал себе подбородок и все равно не мог вспомнить, что говорил ему о своем брате Ирошников.
Они подъехали к реке. Среди высоких грязных сугробов Никита увидел Зою и пошел к ней.
Некоторое время они молчали.
– Болит? – спросила Зоя, мягко притрагиваясь к синяку на лице Никиты.
– Эх, Зоя, Зоя, – Никита тяжело вздохнул, так, что заболело в боку. – Прямо не знаю я, что придумать, что предпринять. Не знаю, право. Про себя решил, а про тебя не знаю. Ушла бы ты от него.
– Присохла к нему, – просто и грустно сказала Зоя. – Мне теперь всю жизнь с ним маяться. У меня ребенок скоро будет. Ну и пусть.
Никите стало не по себе.
– Может, не идти мне тогда? Как ты скажешь?
– Нет, Никита, ты обязательно иди. Раз ты решил, надо идти.
– А что там расскажешь? Что Кравчук этот дачу построил? Он ведь в кубышку ее не прячет, она у всех на виду. Теперь все зависит от того, какие показания начнет давать Борис. Ну и пусть дает... Или та дача, в Апрелевке, – размышлял вслух Никита, – тоже на виду стоит. Хорошая дача. Еще лучше, чем в Пахре.
Зоя крепко схватила его за руку.
– Я откажусь, Никита, вот увидишь, откажусь, – быстро зашептала она, почему-то озираясь по сторонам. – Сегодня же скажу дяде Боре. И к нотариусу пойду, дарственную отнесу. – И, видя, что Никита с недоумением глядит на нее, торопливо пояснила: – Ведь дядя Боря эту дачу на мое имя записал. А деньги мне как будто бабушка дала, у нее облигация есть. Я и сама не знала, они только недавно мне сказали. Когда к нотариусу пошли...
Из подъехавшего самосвала послышался громкий возбужденный крик:
– Вспомнил! Про Ирошникова вспомнил!
Буровой выскочил из машины и подбежал к ним.
– Порядок! Коля рассказывал, что на Песчаной брат его живет. Он туда и поехал. Это верно.
Зоя подтвердила. Оказалось, она тоже слышала, как Ирошников рассказывал, что он был у брата в новом доме на Песчаной улице. Высоко только, на пятом этаже.
– На пятом? – переспросил Никита. – Это я учту.
– А на какой Песчаной? Ты не помнишь? – спросила Зоя у Бурового.
– Кажется, на первой. Или на четвертой, – обескураженно ответил тот.
– Разве она не одна? – растерялся Никита. – Сколько же их?
– Уже шестая Песчаная есть, – ответила Зоя.
Никита сжал кулаки.
– Не беда. Я все шесть обойду. Каждый дом, каждую лестницу. Я его разыщу.
– Ты в справочное, в справочное бюро сначала, – говорил Буровой.
...На просторной, с каменным обелиском в центре площади Никита вылез из самосвала.
– Чемодан я прихвачу, – говорил Буровой. – А ты вечером приходи. Поживешь у нас.
В четыре стороны от площади расходились широкие бульвары.
Дома высились перед ним, огромные, величественные, как океанские корабли, – с сотнями, тысячами окон, поблескивающими на солнце. И где-то за одним из этих окон находится человек, встреча с которым так нужна Никите.
Сырой мартовский ветер хлестнул его по лицу. Он зябко поежился, всунул руки поглубже в рукава телогрейки и прибавил шагу.
1958—1966
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Автобус ровно катился по асфальту; внутри все было чистое, свежее. Поручни сверкали, голубоватая обивка на сиденьях скрипела и сладковато пахла – проехаться в такой машине одно удовольствие даже без дела.
Пассажиров было немного. Катерина Ивановна сидела впереди, рассеянно глядя в окно. Пейзаж был уже не городским и еще не пригородным: скелеты недостроенных зданий, распоротые котлованы, кое-как сбитые заборы, вздыбившиеся краны – строят, строят, откуда только деньги берутся?
– «Комбинат». Следующая «Школа». – У водителя был усталый голос, он произносил слова как неоконченные фразы, и Катерина Ивановна подумала, что работа у водителя, видно, тяжелая и нервная.
А кому-то сейчас легко, привычно-спокойно думала она, у всех работа, у всех нервная. Тут она вспомнила о том, куда едет, и улыбнулась, как научилась за эти годы – редкой невидимой улыбкой: лишь чуточку дрогнули уголки губ, а лицо осталось задумчивым и строгим.
Что и говорить, с этой поездкой ей повезло. Послезавтра – первое сентября. Верочка пойдет в школу, надо купить тетради, учебники, а главное, новый передник для платья. Старый форменный передник едва держался после стирки, и Верочка категорически заявила, что не наденет его ни за какие деньги. Катерина Ивановна пыталась доказать, что передник еще вполне приличный, – и в эту минуту раздался телефонный звонок. «Тебя», – крикнула Верочка и убежала на улицу. Звонили из общества, предлагая выступить в субботу вечером в клубе трикотажной фабрики. Катерина Ивановна записала адрес, поблагодарила и радостно подумала – лишь чуточку дрогнули уголки губ, – что с Верочкой теперь все в порядке. Как быстро бежит время, Верочка уже в десятом классе, уже пятнадцать лет, как их освободили из лагеря, пришла победа.
Автобус притормозил. Освещенное низким вечерним солнцем здание школы высилось среди деревянных домиков, как каменный необитаемый остров. Послезавтра сюда придут сотни Верочек, Петь, Сереж, пустое здание враз гулко оживет, наполнится гомоном и жизнью. Вместе с подругами и Верочка пойдет в свою школу, и на ней будет новый белоснежный передник.
– «Школа», – устало сказал водитель, и Катерина Ивановна стала думать о том, как будет выступать сегодня в клубе.
Вначале Катерина Ивановна на выступлениях терялась и робела до дрожи в коленках. Она вообще не могла представить, как выйдет на сцену и будет что-то говорить, однако вышла и говорила. Ее слушали, затаив дыхание. Напряжение зала передалось ей, но под конец она не выдержала, голос ослаб и сорвался. Она не помнила, как кончила, чужие женщины долго успокаивали ее в артистической уборной, и три пары пугающе застывших глаз глядели на нее из мутного тройного зеркала.
Лиха беда начало. Катерина Ивановна стала выступать по рабочим клубам, ее выступления пользовались успехом, и, бывало, программу вечеров приходилось расписывать на месяц вперед.
Потом пошло на убыль. Город, в котором жила Катерина Ивановна, был не велик, и в конце концов она выступила чуть ли не в каждом клубе. Несколько раз она ездила по районам, но эти поездки утомляли ее, и она отказалась от них.
Лето вообще не сезон для таких выступлений. Кому охота просиживать вечер в душном клубе: люди стремятся на воздух. За все лето Катерина Ивановна выступила два раза. И вот позавчера раздался звонок: видимо, начинался новый сезон.
– Следующая «Трикотажная», – сказал водитель, и Катерина Ивановна пошла к выходу, перехватывая руками сверкающие поручни.
В клубе ее уже ждали.
– Вы Калашникова? – спросила высокая полнотелая женщина в строгом сером костюме, и Катерина Ивановна тотчас определила, что перед ней директор клуба. – Прошу вас.
Они молча прошли через фойе и по коридору. Люди стояли группами или поодиночке, разговаривая, разглядывая плакаты и фотографии на стенах.
В кабинете директора на большом старомодном диване сидели двое мужчин. Женщина подошла к столу, покрытому куском зеленого сукна, села в кресло. Катерина Ивановна прошла к дивану.
– Значит, так, товарищи, – строго объявила женщина, беря в руки карандаш и пристукивая им по столу. – Сегодня в нашем клубе первый вечер из цикла «Давайте познакомимся». Выступают: геолог Семенов, так? – Один из мужчин склонил голову. – Далее, композитор Сапаев...
– Извините, пожалуйста, – привскочил второй мужчина с круглым лицом. – Саптаев, после «пэ идет «тэ». Сап-таев Николай Никанорович. Очень трудная фамилия.
– Сап-таев, – по складам повторила женщина. – Затем Калашникова, правильно? Вы будете читать по тексту? – Директриса строго посмотрела на Катерину Ивановну.
– Да уж не знаю, – ответила Катерина Ивановна, – расскажу просто, от души.
– Простите, вы не из детского театра? – кругло улыбаясь, спросил композитор.
– Я из общества, – сказала Катерина Ивановна. – Какая из меня актриса?
– А я подумал – вы травести, – жизнерадостно говорил композитор. – Такая маленькая, тонкая, совсем девочка.
– Скажете тоже, – ответила польщенная Катерина Ивановна.
Геолог перелистывал блокнот и молчал.
– Учтите, товарищи, – сказала директриса, – у нас на фабрике народ дружный, через пять минут начинаем. Сначала будете выступать вы. – Она посмотрела на геолога. – Потом расскажет Калашникова. Потом сделаем перерыв, и второе отделение предоставим вам, товарищ Саптаев. Берите сорок минут. Возьмете?
– Если желаете, я могу два раза по сорок, – сказал композитор и посмотрел на Катерину Ивановну.
– Тогда пойдемте.
На сцене они осторожно, стараясь не стучать стульями, рассаживались по указаниям директрисы. Стол был такой же, как в кабинете, только покрыт красным сукном. Перед столом волнисто висел занавес, весь в синих застиранных пятнах. За занавесом слышалось хлопанье стульев, покашливанье, отдаленно размытый говор. И они на сцене почему-то тоже переговаривались шепотом.
Три раза прозвенел звонок. Директриса подала знак, и занавес раздвинулся в обе стороны, собираясь в глубокие складки. Из зала дохнуло человеческим теплом и сдержанными шорохами. Все ряды были заполнены, лишь в первом ряду выделялись несколько пустых кресел.
Директриса представила гостей – кто они такие и что будут рассказывать сегодня на встрече. О Калашниковой она сказала – участник Великой Отечественной войны, и Катерина Ивановна запомнила это на всякий случай.
Геолог вышел к трибуне. Заглядывая в блокнот, он рассказывал о том, как искали нефть. Территория области давно изучена, местность плотно заселена и обжита, и тем не менее удалось сделать большое геологическое открытие: открыть значительные запасы нефти. Уже создаются промыслы, строится нефтеперерабатывающий комбинат.
Катерина Васильевна рассеянно слушала геолога: собираясь с мыслями перед выступлением, она старалась думать о чем-либо далеком и непохожем. Ей вспомнилось, как позапрошлым летом они с Верочкой выезжали в деревню. Купались в реке, ходили в лес по ягоды и грибы, и там, за сосновым бором, стояла в поле буровая вышка. Верочка все спрашивала – что там такое? Что они ищут? Однако идти через поле было далеко, дорога из бора шла стороной, и они так и не сходили к вышке, чтобы спросить, что ищут геологи.
Раздались аплодисменты. Геолог возбужденно опустился на стул рядом с Катериной Ивановной и тут же вскочил, пропуская ее.
Катерина Ивановна подошла к трибуне, поднялась на ступеньку, чтобы быть повыше, осторожно переставила стакан с водой и, еще не зная, как начать, видя десятки выжидающих глаз, сказала:
– Вот тут ваш директор говорила, будто я участница Отечественной войны. Так я вам расскажу, какая я участница. Орденов и медалей у меня нет. – Катерина Ивановна посмотрела в сторону президиума, увидела там размытое ожиданием лицо композитора и продолжала: – Вы не смотрите, что я такая маленькая и худенькая. Когда война началась, мне двадцать три года было и две девочки у меня уже росли и воспитывались. А потом обычное дело, одно слово, война была...
Война застала Катерину Ивановну в Белоруссии, муж служил лейтенантом в артиллерийском полку. Женщин и детей эвакуировали. Грузились в эшелон под бомбежкой. Наконец сели в эшелон и поехали, только недолго: опять налетели самолеты, эшелон загорелся.
– Как завоет бомба немецкая, прямо в наш вагон. Не приведи господь такое испытать. Обе девочки были убиты, сначала одна, а через минуту другая, младшая. Я к ним бегу, а кругом огонь трещит, я тоже загорелась, ничего больше не помню...
Очнулась Катерина Ивановна через несколько суток в чистой крестьянской горнице, добрые люди из огня вытащили и спрятали. В деревне, как и всюду в округе, были немцы, обычное дело.
Когда подсохли ожоги, Катерина Ивановна связалась с партизанами и стала связной на млечарне. Доставляла в отряд и масло и планы, где какие немецкие части стоят. А в то масло, которое немцам шло, толченое стекло подсыпали.
– Стали немцы замечать, что масло куда-то пропадает, наблюдение установили. Только я в лес свернула, «Хальт!» – кричит и автомат наставляет. А у меня в корзине пять килограммов масла спрятано. Ведут меня в гестапо, а я все думаю, как назваться, партизанской связной или спекулянткой. Приняла грех на свою душу, объявилась воровкой, будто для базара выкрала масло, а в жизни чужого куска не взяла. Ну они, конечно, не поверили, бить стали, обычное дело...
Трехмесячное пребывание в белорусской тюрьме вспоминалось ей впоследствии как дом отдыха. На нее заполнили карточку, дали номер, стала Катерина Ивановна «хефтлингом» – лагерным человеком – и пошла по этапам. Три года и пять месяцев провела она в немецких лагерях, раскиданных по всей Европе, и каждый день был как ночь, как смерть, как наваждение смерти. В двадцать четыре года она столько узнала, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
– В Грюненсберге-лагере у немцев такая игра была: отбирали самых слабых, и чтобы, значит, ползком наперегонки. Кто первым приползет, тому хлеба ломоть. А кто отставал и позади полз, тех собаки за пятки кусали. А немцы хохочут, им весело...
Заключенных, прибывавших в лагерь Зоэст, поливали лизолом прямо из шланга, как дезинфицируют мебель, стены помещения. В Майданеке всех женщин раздевали догола и стригли машинками, как баранов стригут, обычное дело.
В лагере Бальзенберг Катерина Ивановна полгода работала у печей, подносила трупы к топкам и заталкивала их в пылающий огонь, так отупела, что даже запаха не чувствовала, обычное дело.
В Освенциме она сама была расстреляна, два дня и ночь лежала во рву с убитыми, а потом очнулась, карабкаясь по трупам, выбралась наверх с простреленной ногой. Ее поймали и судили как за побег, сорок ударов дубинкой по голому телу.
– А в лагере Равенсбрюк меня на десять суток в бункер посадили, что не выдержала ихних издевательств и в лицо ауфзерке плюнула. И сидела в том бункере с дрессированной собакой. Бункер темный, холодный, ни зги не видать, а овчарка специально немцами выучена. Десять суток мне ни крошки, а ей каждое утро таз с мясом. И мясо для запаха особо разварено и лавровым листом присыпано. Овчарка ест, а мне нельзя. Она наестся и в угол заползает. А мясо пахнет, мочи нет. Я в углу сижу, и собака тихо сидит, так ее выучили. А как только к миске подползу, только руку протяну, она как бросится, как зубами залязгает. А ухватишь кусок, она в руку впивается, пока не отпустишь. Так вот и сидела...
Так продолжалось десять суток, двести сорок часов, а всего три года и пять месяцев, свыше тысячи дней. Если она не валялась в лагерном лазарете, умирая от тифа или дизентерии, если не стояла на коленях в карцере, не лежала во рву расстрелянных, не заталкивала трупы в огнедышащие печи, то ее изнуряли тупой, бессмысленной работой, истязали побоями, пытками, страхом, убивали человеческий дух – обычное дело... Необычным было то, что Катерине Ивановне удалось выжить. Миллионы людей прошли через лагеря смерти, остались в живых – тысячи.
В лагере Грюненсберге надзирательница, эсэсовка Эльза Бинц увидела на ее руке золотое обручальное кольцо, последняя память о муже. Бинц намылила ее руку, тянула из всех сил, кольцо не снималось. Тогда Бинц схватила медицинские щипцы и откусила кольцо вместе с пальцем.
– Вот она, рученька моя беспалая, помнит до сих пор о том «золотом» денечке. – Екатерина Ивановна подняла растопыренную ладонь и показала ее залу.
Она вела рассказ ровно и спокойно, не меняя интонации, на одной тягучей ноте, словно заунывная песня, горестная и бесконечная, как смерть. Она говорила тихо, а голос звучал как набат. Когда она показала руку с откусанным пальцем, кто-то всхлипнул в углу, и тяжкий вздох судорожной волной прокатился по рядам.
Катерина Ивановна все еще не опускала руку.
– Теперь вы знаете, какая я участница Отечественной войны, все вам рассказала, как было, ничего про себя не скрыла, ничего не прибавила. – Она закончила так же неожиданно, как начала, и, мелко семеня, пошла к столу.
Зал проводил ее молчанием. Ей была знакома эта гнетущая тишина: ее всегда провожали так. Она спокойно села на место, положила руки на стол, сцепила пальцы. Сотни глаз напряженно следили за каждым ее движением, и она знала это и оставалась невозмутимой – лишь чуточку дрогнули уголки губ оттого, что она невидимо улыбнулась про себя, как научилась теперь улыбаться.
Директриса строго глянула за кулисы. Занавес послушно сдвинулся, расправляя складки и открывая синие застиранные пятна.
Закрывшийся занавесом зал все еще мертво молчал. С решительным видом директриса прошла на авансцену, и было слышно, как она объявляет там перерыв. Только тогда тишина надломилась – невидимый зал пришел в движение, облегченно задышал, зашумел.
Геолог встал перед Катериной Ивановной, протянул к ней руку.
– Спасибо вам. Простите меня. Это я... Это мы. Пожалуйста, простите, прошу вас. – Он больно сжал ее руку и поспешно, почти бегом, бросился за кулисы.
Катерина Ивановна недоуменно смотрела вслед геологу. Только сейчас она заметила, что он волочит правую ногу.
– Замечательное выступление, замечательное, – сказал круглолицый композитор, подходя к ней с другой стороны стола и с чувством пожимая руку. – Вы прирожденная актриса, я сразу определил. Какая дикция, какое придыхание. Как вы держали публику. Превосходно! Я потрясен.
– Прошу вас, – сказала директриса. Она уже вышла из-за занавеса и стояла перед столом. – Вам надо отдохнуть. А тут сцену убирать будут.
– Да, да, – заторопился композитор. – Простите меня, я должен познакомиться с инструментом.
Катерина Ивановна шла через фойе, чувствуя на себе десятки настороженных взглядов и стараясь не замечать их. Так они прошли в кабинет. Директриса нервно размяла сигарету, строго посмотрела на Катерину Ивановну.
– Ни за что бы вас на сцену не пустила, – сказала она с кривой усмешкой, – если бы знала, что вы такое будете говорить. Наши работницы теперь спать не будут. Вы и сами, верно, не заснете?
– Я хорошо сплю, – ответила Катерина Ивановна. – Привыкла.
– Где работаете?
– Какая из меня работница? Инвалидка я. В справочном киоске работала, цветы бумажные с Верочкой делала для артели. Вот и вся моя работа...
– Вера – это дочь? Ваши же погибли? – сурово допытывалась директриса.
– А я в лагере Верочку взяла. К нам последней зимой польку привезли, беременную на седьмом месяце. Пани Ядвига, жена польского офицера. Мы ей тайком помогали, складывались – кто корочку, кто кусочек сахара. Подкармливали. Когда она родила, дежурство установили. Увели Ядвигу, сожгли в крематории. Я девочку к себе взяла, телом ее согревала, через тряпочку кашку давала сосать. А потом, когда освободили, я заявила: Вера Калашникова. Вот и выросла со мной, послезавтра в десятый класс пойдет.
– И она об этом знает? – спрашивала директриса.
– А как же. – Катерина Ивановна отвечала спокойно и покорно: она знала, что должна отвечать именно так. – Недавно ходили паспорт получать. Так и записали, место рождения – Равенсбрюк. Ко мне из Комитета ветеранов приезжали, из Москвы – фотокопию с этого паспорта делали. В Равенсбрюке теперь музей открыли. Так, значит, это туда. И нас с Верочкой сфотографировали для экспозиции.
Директриса посмотрела на часы:
– Пожалуй, пора. Вы что-нибудь желаете? У нас есть буфет.
– Нет, нет, – торопливо ответила Катерина Ивановна.
Дверь отворилась. В кабинет быстро вошла невысокая полная женщина. На ней была светлая юбка и розовая вязаная кофта, на голове уложена тяжелая коса.
– Нет, нет, сюда нельзя, – говорила женщина, обернувшись и закрывая за собой дверь. – От людей прохода нет. Я не помешаю? – Женщина раскинула руки и пошла на Катерину Ивановну.
– Так вот ты какая?! Я в прошлом году на химкомбинате тебя слушала. Дай обниму тебя, голубушка, пожалею тебя, героиню нашу. – Она села на диван и прижалась к плечу Катерины Ивановны.
– Хозяйка наша, – сказала директриса. – Председатель фабричного комитета.
– Зови меня Варварой. Или Варварой Сергеевной – как тебе удобнее. – Она положила руку на плечо Катерины Ивановны и с ожиданием смотрела в ее глаза. – Ужас, сколько тебе вынести пришлось.
– Не я одна...
– Наши все переживают, – продолжала Варвара Сергеевна, не слушая Катерину Ивановну. – Я сама чуть не разревелась. А Макарова – из вязального – прямо в слезы. Ее муж в Бухенвальде погиб. По книгам-то люди знают, по радио слышали, а тут своими глазами увидели героиню.
– Какая же я героиня, – виновато сказала Катерина Ивановна. – Я за родину не боролась, я за родину страдала только.
– Героиня, героиня, – твердила Варвара Сергеевна. – За свои страдания ты и есть героиня.
В дверь просунулась круглая кудрявая голова и с любопытством уставилась на Катерину Ивановну.
– Чего тебе, Нина? Дай отдохнуть человеку.
Нина хихикнула и исчезла.
Прозвенел звонок. Директриса встала:
– Пойду композитора выводить. Пусть сыграет для успокоения.
– Иди, Наташа, иди. Я тут все сделаю. Ты только Мусе скажи, чтобы сюда зашла.
– У нее и так работы хватает.
– Не беспокойся, Наталья Петровна, фабком за все сразу ответит. Иди, выводи своего композитора.
Директриса поджала губы и вышла.
– Зря вы это, – запротестовала Катерина Ивановна. – Ни к чему. Что я, начальница какая? Или кинозвезда?
– А тебя не спрашивают, голубушка. Тут мы хозяева. Расскажи лучше про себя. Пенсия большая?
– Третий год как выписали. А то и вовсе ничего не давали.
– Как инвалид войны получаешь? Ты же в партизанском отряде связной была, наравне с фронтовиками должна проходить.
Катерина Ивановна села поудобнее и с готовностью принялась рассказывать.
– Справку никак не могу достать. Я ведь связной работала, только два человека меня и знали, Ткаченко и Петрусь. И оба погибли. Ткаченко Иван Фомич и Петрусь Василий, не знаю как по батюшке. И оба погибли день в день. А отряд весь разгромили в сорок втором, никаких архивов не осталось. Пишу в Молодечно, они отвечают – подтвердить не можем, дайте свидетелей. Уж куда я не писала...
– Вот бюрократы, – рассердилась Варвара Сергеевна, выслушав рассказ Катерины Ивановны. – Приходи на той неделе. Юриста вызовем, заявление напишем.
Дверь снова распахнулась. Вошла нарядная девушка с наколкой на голове, в белом кружевном фартуке, с подносом в руках. Увидев белый фартук, Катерина Ивановна вспомнила о Верочке и улыбнулась про себя уголками губ. Варвара Сергеевна захлопотала у стола, расставляя стаканы, тарелки с пирожными, конфетами. Катерина Ивановна только сейчас почувствовала, как сильно устала и проголодалась.
– Спасибо, Муся, – сказала Варвара Сергеевна. – Я тебя потом крикну.
– А скажите, пожалуйста, – виновато спросила Муся. – Эсэсовка та, что кольцо ваше забрала... Ее не поймали потом?
– Эльза Бинц, – сказала Катерина Ивановна. – Судили ее в сорок седьмом году и повесили в гамельнской тюрьме.
– Ой, – обрадовалась Муся, – побегу, нашим расскажу. – Она схватила поднос и выбежала из комнаты.
Две женщины сидели за казенным столом, покрытым зеленым сукном, и пили чай. Им было радостно, что они встретились, и они ничуть не задумывались о том, что скоро расстанутся. Катерина Ивановна радовалась торопливому говорку своей собеседницы, хорошим делам на трикотажной фабрике, вкусным пирожным и конфетам. Она пила чай и рассказывала о Верочке, о своей жизни после лагеря.







