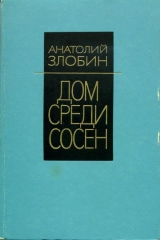
Текст книги "Дом среди сосен"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
– Бери левее, – сказал Шестаков. Он говорил одними губами, но Войновский услышал, понял его. Шестаков вонзил лопату, железо звякнуло о камень; оба застыли, подняв головы, вглядываясь в черноту обрыва. Прямо над ними работал крупнокалиберный пулемет, тот самый, против которого они лежали на льду. Верхний накат нависал над обрывом, язычки огня остро выскакивали, бились под бревнами. Хлопнув, взлетела ракета.
Шестаков осторожно вытащил лопату и посмотрел в ту сторону, куда бил пулемет. Лед незаметно переходил в береговую отмель, лишь по пологому заснеженному подъему можно было догадаться – это уже не лед, а берег. Два больших валуна торчали из-под снега. Сразу после валунов отмель кончалась. Берег поднимался обрывистым уступом, заметенным до самого верха.
Войновский и Шестаков копали нору в снежном намете под обрывом, замирая каждый раз, когда ракета пролетала над ними и мертвый свет заливал обрыв, снег, лед у берега.
– Увидят, – быстро сказал Шестаков одними губами, Войновский опять понял, но ничего не ответил. Шестаков передал лопату, отталкиваясь руками от Войновского. Снег был сухой, он скрипел, легко приминался под грузным телом Шестакова. Шестаков поерзал задом, усаживаясь поудобнее, потом двинул плечом, вдавливая снег в сторону. Войновский протиснулся спиной на выдавленное место. Оба часто дышали, вслушиваясь, как бьет пулемет над обрывом.
Теперь их можно было увидеть лишь со стороны озера. Ракеты освещали его поверхность призрачными кругами, темнота за этими кругами казалась еще плотнее.
– Вот и устроились, – сказал Шестаков, прижимаясь к Бойцовскому, часто дыша ему в ухо. – Здесь еще лучше, чем на льду, в снегу закопаться можно.
– Тише, – сказал Войновский.
– Лишь бы не увидели, а услышать не услышат.
В черной глубине возникли, перескакивая с места на место, неяркие вспышки. Выстрелы дошли до берега, в ответ забили пулеметы. И вдруг сквозь выстрелы до Войновского дошел еще один звук, тонкий, взвизгивающий, чмокающий, – чуть ближе, чуть дальше – и снова чмок-чмок-чмок. Войновский все еще не понимал, что это.
– Господи, помилуй, – зашептал Шестаков. – Наши... Прямо в нас... Маслюк бьет. – Шестаков схватил лопату, принялся выбрасывать из-под себя снег. Войновский загребал снег каской. В снегу за валуном образовалась дыра, и они полезли туда, приминая снег спинами.
– Пронесло, кажется, – выговорил Шестаков.
– Мокро, – сказал Войновский. – За ворот попало.
– В снегу-то мы не замерзнем, – Шестаков деловито ворочался, отстегивая гранаты. – Сейчас разберемся, осмотримся. Гранатой вот надо разложить.
– Сколько у нас?
Итак, на двоих было шесть гранат и четыре магазина с патронами. Шестаков раскладывал гранаты в ногах, поворачивая их кольцами вверх. Сбоку положил диски, вдавив их в снег до половины. Автоматы сняли, поставили у валуна.
– Время сейчас такое – не разживешься.
– Какое время?
– Военное время. Нехватка изобилия. Даже на снаряды карточный счет заведен.
– У меня еще секундомер есть, – сказал Войновский, запуская руку в карман. Секундомер был пробит пулей, стрелки остановились на двенадцатой минуте. Шестаков испуганно схватился за флягу. Фляга была целая и почти полная. Они выпили по очереди, фляга сделалась заметно легче. Шестаков вдавил ее в снег рядом с дисками.
– Убьют – и не выпьешь перед смертью, – сказал он и вздохнул.
Водка согрела, приободрила их. Поджав колени к подбородку, прижавшись друг к другу, они сидели в снежной норе и вели тихий разговор.
– Не страшно умереть, – говорил Шестаков, – а страшно, что вот умрешь так и бабу перед смертью не обнимешь.
– А как их обнимают? – Войновский не знал этого и боялся спрашивать, но водка придала ему храбрости.
– Как все, так и я. Ох, моя горячая была. Огонь! Уж мы с ней баловались, баловались...
– Горячая любовь? Да?
– Любовь не любовь, а баловались. Для жизненного интереса. Как сойдемся с вечера, так до самой зорьки балуемся. Ты не смотри, что я в годах, я мужик крепкий. А Даша – кровь с молоком. Любила баловаться. Просто страсть как баловалась. Вспомню – сердце заходится.
– Жена?
– Я на стороне не баловался, упаси господи. Как перед богом говорю – своя, законная. Вот что страшно – законная, а не обнимешь. Как баловалась...
– А дети у вас есть?
– Три дочки. Я мужчина сильный, от меня одни дочки рождались. Старшая, Зина, с тебя почти. Рослая. Волосы русые, гладкие, а сама сильная, гибкая. Я ведь тебя сам выбрал, всю правду говорю.
– Как – выбрал? – удивился Войновский.
– А тогда, в Раменках, где рыбу глушили. Старшина велит – иди к командиру роты, сапоги возьми на чистку, который у окна спит. Я подошел – выбираю себе по душе. Ты так сладко спал, губами чмокал, совсем как моя Зина. А тот человек служебный, я к нему не пошел. Старшина потом сильно ругался.
– Вы мне тогда, на берегу, жизнь спасли, Шестаков. Я этого никогда не забуду. После войны мы обязательно поедем к моей матери.
– Зачем? Если жив буду, домой поеду. Ах!..
Снаряд полковой пушки ударил по валуну, обдав их огненными брызгами, снегом, каменной крошкой. Они в испуге прижались друг к другу, ожидая новых снарядов. В воздухе резко запахло жженым кремнем.
– Опять по своим бьет...
Войновский не успел ответить. Пули часто застучали по каменистому обрыву. Войновский втянул голову в плечи. Голова Шестакова билась о его плечо.
– Даша, Даша. – Тело Шестакова сотрясалось от рыданий. – Прощай, Даша.
– Замри! – Войновский схватил Шестакова, принялся трясти. Шестаков поднял голову и с тоской посмотрел на Войновского.
– Ах, зачем я побежал за тобой, лейтенант? Лежал бы сейчас у воронки со всеми вместе и горя не знал.
– Молчать! – сказал Войновский. – Приказываю вам замолчать.
– Теперь уж все равно. Если свои не убьют, утром немцы следы увидят и возьмут нас. Зачем я в Раменках к тебе подошел-пожалел...
– Будем драться. Живыми не сдадимся. – Холодный озноб бил Войновского – пули продолжали стучать по камням.
– Ты тоже хорош. Бежишь и не смотришь, что позади делается. Все легли, а ты бежишь. И я, дурак, за тобой бегу. Пропадет, думаю.
– Замолчите, Шестаков. Как вам не стыдно говорить так про себя?
– Дурак и есть. Стайкин правильно говорил. – Шестаков ткнулся головой в колени, замолчал.
Перестрелка внезапно прекратилась. Войновский осторожно выглянул из-за камня, но ничего не увидел в непроницаемой глубине озера. Ракета взлетела над берегом, в снегу на отмели стал виден глубокий извилистый след, который оставили они, подползая к обрыву. Войновский вздрогнул. Сверху донеслись голоса немцев.
– Es friert[4] 4
Подмораживает (нем.).
[Закрыть], – сказал первый немец, стоявший в окопе.
– Die Russen sind nicht zu sehen, – сказал второй. – Will mal Leuchtkugeln holen[5] 5
Что-то русских не видно. Пойду за ракетами (нем.).
[Закрыть].
– Заметили, – прошептал Войновский и схватил гранату; он услышал два слова: «Die Russen» и «sehen», и ему показалось, будто немец говорит, что видит русских.
Голоса стихли. Немцы прошли по ходу сообщения. Было слышно, как хлопнула дверь блиндажа. Войновский положил гранату, придвинулся к Шестакову.
– Ушли, – сказал Шестаков.
– Ушли.
– Это нас за Ганса господь наказывает.
– При чем тут Ганс? Какие глупости.
– Истинно так. Недаром старики говорят: не бей собаки, и она была человеком.
– Какие старики? – не понял Войновский.
– Обыкновенные. Которые долго в мире жили и старыми стали. Нам уж до стариков не дожить. Все лето загорали на берегу, теперь расплата подошла – край жизни...
– Перестаньте, Шестаков. Мы обязаны что-то предпринять. Может быть, поползем к своим?
– Не пройти. Пулемет как раз напротив и два поста ракетных. Нет, обратно нам не пройти. Раз попали сюда – смирись!
Войновский выглянул из-за камня, и ему сделалось страшно – он сам не понимал отчего. Напряженная тишина сгустилась над озером. Ракеты беззвучно падали на лед, освещая стылую пустоту.
– А вдруг наши ушли?
– Куда же они денутся? – спросил Шестаков. – Лежат и горя не знают.
– Вдруг получен приказ на отход. Полковник увидел, что это бессмысленно, и отдал приказ на отход. Наши уже ушли. А мы здесь.
Шестаков посмотрел из-за камня на озеро, но там ничего не видно. Вдруг он вскрикнул, принялся торопливо вспоминать господа. Войновский увидел, как в черной глубине возникли расплывчатые тени. Пулеметы на берегу оглушительно заработали. Солдаты поднялись в рост, побежали. Фигуры бегущих возникали то в желтом, то в красном, то в зеленом прыгающем свете, пулеметы били в освещенные пятна и разрывали цепь на куски.
– Приготовить гранаты, – прошептал Войновский.
Наверху сухо щелкнуло. Все вокруг переменилось. Сильный свет облил ледяное поле, цепь атакующих осветилась из конца в конец, неровная, тонкая, слабая цепочка людей, бегущих к берегу под струями пулеметов.
Над озером неподвижно висела на парашюте ослепительная белая ракета. Бегущие вздрогнули, остановились. Донесся дробный перестук автоматов, пули застучали по камням. Больше Войновский ничего не видел: хрупким вздрагивающим комком прижался к холодному камню, всем телом ощущая, как пули свистят и шлепаются в обрыв, осколки сыплются, бьют по спине, и каждый удар кажется последним – камень снова бьет по спине – снова в последний раз – он был еще жив и слушал...
Осколки перестали сыпаться, а он все лежал и вздрагивал. Шестаков прильнул к нему, жарко дышал в шею. Пулемет над обрывом продолжал бить длинными очередями, и это тоже было страшно: пулемет бил туда, где были товарищи.
– Ушли, – сказал Шестаков.
Войновский с трудом оторвался от камня. Ракета на парашюте все еще висела, искры осыпались с нее и гасли в воздухе. Вдалеке на правом фланге горела вторая ракета. Цепь уходила в темноту, унося раненых и убитых. Фигуры солдат скоро смешались с темнотой, стали расплывчатыми и смутными, вовсе исчезли. Ракета догорела. Тлеющий уголек опустился на лед и зашипел. Зеленые, красные ракеты поднялись над берегом. Несколько темных бугорков неподвижно лежали на льду.
– Слава те господи, – сказал Шестаков. – Живы пока. Наши, верно, отдыхают. А нас в расход списали... Старшина водку-то на нас получит, может, помянут нас...
– Холодно, – сказал Войновский. – Говорят, замерзнуть очень легко. Самая хорошая смерть.
– Всякая смерть нехороша. Потому сказано в Писании: «Не убий!»
– Обидно было бы погибнуть от своей пули. – Войновский до сих пор не мог прийти в себя и забыть то страшное чувство, когда он лежал под холодным камнем и ждал конца.
– Всякая смерть человеческая несправедлива. Замерз, сгорел, утонул, взорвался, от пули помер – все одно несправедливо.
– Хорошо бы умереть сразу, неожиданно для самого себя. А потом уже ничего не будет, ни боли, ни страха.
– Вот оно и есть самое страшное, – сказал Шестаков. – Горе лютое.
– Знаешь что, Шестаков. Давай подороже продадим свои жизни. Если что, вылезем наверх и прямо к этому блиндажу, закидаем его гранатами – и погибнем. Ладно?
– Все одно уж, – равнодушно сказал Шестаков. Он сложил руки крестом на груди, откинул назад голову, закрыл глаза.
– Хочешь, я первый наверх полезу? А ты за мной, ладно? – Войновский дрожал от холода и возбуждения. – Об одном прошу тебя, Шестаков. Если ты останешься после меня, забери мой медальон, он на груди висит. А потом, после всего, напиши письмо. В кармане лежит конверт с обратным адресом. Напиши, пожалуйста, по этому адресу в Горький, как ты видел мою смерть. Это невеста моя, пусть она тоже узнает.
– Тебя как звать-то? – спросил Шестаков, не открывая глаз.
– Юрий.
– А по батюшке?
– Сергеевич.
– Юрий Сергеевич, значит. А я Федор Иванович. Вот и обратались, значит, на краю...
– Ой, что это? – невольно вскрикнул Войновский.
Пулемет под обрывом давно не стрелял, в тишине стало вдруг слышно, как немец в блиндаже заиграл на губной гармошке. Немец играл «Es geht alles vorbei»[6] 6
«Все проходит мимо», немецкая солдатская песня.
[Закрыть]. Они не знали этой песни, ее протяжная горестная мелодия показалась им чужой и враждебной. Но и эта чужая песня говорила о человеческом страдании и надежде, и ее печальная мелодия зачаровала их. Они подвинулись теснее друг к другу, зачарованные чужой песней и страшась ее, потому что она снова напоминала им о том, как близко они от врага.
– Они убьют нас, – прошептал Войновский.
– А ты надейся, Юрий Сергеевич. Прижмись ко мне крепче, теплее будет. Ты не думай, вспоминай что-нибудь хорошее.
– Как только рассветет, они тотчас увидят наши следы.
– До утра дожить – и то спасибо.
– Холодно. Ой, как холодно, – сказал Войновский и закрыл лицо руками.
ГЛАВА XIVСтаршина Кашаров полз вдоль цепи. Кашаров вовсе не хотел идти под огонь пулеметов и мог бы не делать этого, послав другого, но дело касалось водки, а водку старшина боялся доверить даже себе. Старшина Кашаров исполнял свой долг: полз вдоль цепи, раздавая водку солдатам.
– Старшина?
– Он самый. – В свете ракеты Кашаров увидел худое синее лицо, заросшее щетиной. Солдат смотрел на старшину, глаза горели лихорадочным блеском. Ракета упала, глаза солдата потухли.
– В атаку скоро подымать будут? – спросил Проскуров. – Не слышал у начальства?
– Озяб? Грейся. – Кашаров откинул крышку термоса, зачерпнул водку алюминиевой кружкой.
– Поднеси сам, старшина. А то руки совсем закоченели, боюсь расплескаю.
Старшина поднял чарку. Зубы Проскурова стучали по кружке. Он кончил пить, крякнул.
– Вкусна. А я уж думал, конец пришел. Замерзну.
– Наркомовская, – сказал Кашаров.
– Может, еще поднесешь? Об одной чарке хромать будешь.
– Норма, – сказал старшина и захлопнул крышку.
Пулемет на берегу дал очередь, пули засвистели неподалеку. Старшина спрятал голову за термос.
– Хочешь, я рядом поползу, – быстро говорил Проскуров, – от пуль тебя закрывать буду, как командира. У нас многие так закрываются. А ты мне за это чарочку поднесешь.
– Ишь ты, – только и сказал старшина.
Они подползли к солдату, лежавшему ногами к берегу. Проскуров дернул солдата за ногу. Тот лежал ничком и не шевелился.
– Эй, проснись, – сказал старшина.
– Не буди, старшина, не добудишься. – Проскуров поднял голову солдата, заглянул в лицо. – Он самый. – Проскуров отнял руку, голова глухо стукнулась о лед. – Из студентов.
– Переверни его. Медальон надо забрать.
Проскуров вытащил медальон. Кашаров спрятал медальон в сумку, открыл термос.
– Хорош напиток, – сказал Проскуров, опорожнив кружку, – недаром им покойников поминают. Еще полчаса назад живой был, мы с ним разговор вели. Образованный. Много фактов знал. Всю жизнь по книгам учился. А вот все равно замерз. Застыло сердце. За что только? Мне-то не жалко. Я пожил. И водки попил, и с бабами поспал. Все было. Не учился, правда. Но вот, видишь, живу пока. – Проскуров отдал пустую кружку старшине, привстал на колени.
– Может, еще чарочку выпьешь? – спросил Кашаров.
– Спасибо, старшина, но боюсь. Как тепло станет, заснешь – и конец. А ведь за меня и выпить некому будет. Ты уж теперь сам ползи, тут дорога прямая. – Проскуров быстро задвигал ногами, уползая в темноту.
Сержант Маслюк лежал на боку за щитком пулемета и набивал ленты патронами.
– Живой? – спросил старшина.
– Я всегда живой, – отозвался Маслюк.
– Выпей наркомовской.
Маслюк взял чарку, выпил. Старшина предложил вторую.
– Не откажусь, – Маслюк выпил и вторую.
– Сколько народу побило. – Старшина тяжело вздохнул. – У санитаров три термоса полных стоят: давать некому, раздаю по горло – и все равно осталось. На всю войну водкой запасся. – Кашаров снова вздохнул.
Через два человека старшина снова наткнулся на мертвого. Рядом валялось погнутое противотанковое ружье. Белые бинты, обматывавшие ствол, распустились, покрылись гарью, свисали лохмотьями. Убитый лежал на спине. Он был толстый и короткий. Старшина полез за медальоном, и ему показалось, что он никогда не доберется. Под полушубком были две телогрейки, потом две гимнастерки. Старшина расстегивал и расстегивал одежды, а пальцы опять натыкались на пуговицы.
– Мародер несчастный. – Кашаров выругался.
– Зачем бога крестишь? – Голос над ухом прозвучал так близко, что старшина вздрогнул, испуганно выдернул руку. Перед ним стоял на коленях Стайкин.
– Разрешите представиться, товарищ старшина. Командир второго взвода старший сержант Стайкин. Жду повышения по службе.
– Где же лейтенант? – испуганно спросил старшина.
– Тю-тю. – Стайкин присвистнул и показал рукой на небо.
– И Шестаков?
– Ефрейтор свое дело знает: куда лейтенант, туда и он. Вдвоем веселее...
– Эх, ругал я его. А зачем? – Старшина со вздохом подтащил к себе убитого. Стайкин схватил автомат.
– Не тронь, – быстро сказал он. – Зачем трогаешь моего друга детства? Он мой.
– Интересно, – сказал старшина.
Та-та-та, – застучало над ухом Кашарова. Автомат, лежавший на животе убитого, содрогался в руках Стайкина. Почти сразу же на берегу заработал пулемет. Старшина вжался в лед за телом убитого и услышал, как пули ударяются во что-то мягкое. Стайкин выпустил весь магазин, с усмешкой посмотрел на Кашарова.
– Вот так и воюем, товарищ старшина. Это вам не водку раздавать.
– Студент тут один накрылся, – сказал старшина как бы между прочим.
– Нет правды на земле, – продекламировал Стайкин. – Хорошие люди погибают, а трепло всякое живет.
– Говорят, он специально по студентам бьет. Как увидит в стереотрубу – студент или недоучка какой вроде некоторых, так и бьет из всех видов. Очень любит по студентам бить. – Старшина постучал пальцем по льду.
– Тсс, – сказал Стайкин и поднял руку. Старшина замер, смотря на Стайкина. – Тсс. Военная тайна. Личный приказ Гитлера. В трехдневный срок вывести из строя всех русских старшин. Берегись. Доверил по старой дружбе.
– Студентов он раньше выбьет. Приказ о студентах еще раньше вышел. Но ты не вешай нос, Стайкин, – погребение тебе организуем по первому разряду. Генеральские похороны тебе устрою, хоть ты в чинах пониже. Это я, Кашаров, тебе обещаю.
– Идет. А я некролог про тебя напишу в ротный боевой листок: «Нелепая смерть вырвала из наших славных рядов...» Прибавляется только одно слово впереди: «Наконец-то...»
– Силен, бродяга, – с восхищением сказал старшина. – Налью?
– Прошу вас, – сказал Стайкин. – Вот моя боевая фляга.
– Кто это? – спросил старшина, зачерпывая водку и кивая на мертвого.
– Ох, старшина, не задавай острых вопросов. До скорого. Родина зовет меня. – Стайкин вскочил и, пригнувшись, вихляя задом, побежал вдоль цепи.
Старшина Кашаров полез за медальоном. Ему пришлось расстегнуть еще гимнастерку и рубаху. Наконец пальцы нащупали медальон на холодном теле. Старшина потащил медальон и вдруг почувствовал под рукой еще один такой же футлярчик. Не веря себе, он выхватил оба медальона, обрезал шнурки ножом, чувствуя, как руки коченеют от холода. Два продолговатых черных футляра лежали на ладони Кашарова, и он не знал, какой открывать первым. Потом отвинтил крышки. Две свернутые в трубки бумаги вывалились из медальонов. Кашаров накрылся плащ-палаткой, трясущимися руками развернул бумажки, чиркнул зажигалкой. «Григорий Степанович Молочков» – было написано на первом листе, далее следовал адрес. Почерк на втором листке был другой: «Михаил Васильевич Беспалов». Старшина прочитал оба листка до конца, чувствуя на руках свое жаркое дыхание, потом резко откинул плащ-палатку.
«Молочков и Беспалов, – твердил он про себя. – Кто же лежит здесь? Беспалов и Молочков – который из них? Кто? Молочков? Или Беспалов?» Ракета поднялась над берегом. Старшина быстро приподнялся на локтях. Лицо убитого было сметено взрывом, ничего, кроме смерти, не осталось на этом лице. Старшина схватил термос, пополз прочь от этого места.
Стайкин лежал на льду, спрятавшись за телами убитых, и ему было скучно.
– Передать по цепи! – крикнул Стайкин. – Рядовой Грязнов! Ко мне!
Грязнов подполз, с опаской глядя на сооружение, которое сотворил Стайкин.
– Неплохо устроился, – сказал Грязнов.
– Как в Азове на пляже, – охотно согласился Стайкин. – Нечто среднее между окопом полного профиля и неполной братской могилой. Приобщайся. Принимается предварительная запись...
Двух убитых Стайкин положил перед собой друг на друга, спинами вверх, головами в разные стороны. Тела убитых закрывали берег, защищали Стайкина от пуль и осколков. На спине у верхнего лежала снайперская винтовка, из которой Стайкин вел огонь по берегу.
Стайкин отцепил флягу, протянул Грязнову.
– Выпей, Грязнов, за моих верных боевых друзей, которые не оставили меня даже после смерти.
Грязнов выпил, хотел было ползти обратно.
– Постой, куда же ты? – закричал Стайкин.
– Да мне по нужде, старший сержант. Мочи нет.
– Эх, Грязнов, я душу перед тобой излить хотел. Нет в тебе тонкости. Один я пропадаю здесь в расцвете сил и талантов. Я не могу воевать в такой обстановке.
– Мало? – спросил Грязнов. – Поди собери еще.
– Никто меня не понимает. Я – человек, и я желаю воевать в человеческих условиях, как все люди, а не как людоед. Убивайте меня по-человечески. Уберите от меня мертвецов. Я не могу воевать вместе с мертвецами, они отрицательно действуют на мою психику. Я требую человеческого отношения. Иначе я отказываюсь воевать.
– Старший сержант, отпустите меня. По нужде надо сходить.
– Веселый ты паренек, с тобой не соскучишься. Спасибо тебе, Грязнов, утешил ты меня. – Стайкин повернулся к Грязнову спиной и стал стрелять из винтовки в амбразуру дзота, где стоял немецкий крупнокалиберный пулемет. Он выпустил две обоймы, взялся за флягу.
Стайкина грызла тоска. Он подождал, когда над берегом загорится ракета, и приподнял голову, осматриваясь. Грязнов сидел на льду и перематывал портянки. За ним, свернувшись в комок, лежал Севастьянов.
– Севастьянов! – крикнул Стайкин.
Севастьянов лежал на боку, поджав ноги к животу, просунув меж колен руки. Глаза его были закрыты, на лице блуждала непонятная улыбка. Стайкин подумал, что Севастьянов не слышит, и крикнул громче:
– Севастьянов! Иди греться в мой окоп.
– Ничего, мне уже не холодно, – ответил Севастьянов.
Стайкин не услышал, снова закричал:
– Что же ты молчишь?
Севастьянов замерзал. Во время последней атаки, когда над озером зажглась немецкая ракета на парашюте, Севастьянов согрелся, но как только снова лег на лед, тепло стало быстро уходить из тела. Кто-то сказал, что к холоду нельзя привыкнуть. Можно привыкнуть к славе, богатству, к подлости и изменам. А к холоду не привыкнешь. Севастьянов пытался вспомнить – кто же сказал это?..
Кругом был холод: в воздухе, во льду, в воде подо льдом; холода кругом было очень много, а тепла в человеческом теле, в сущности, совсем мало. Холод притягивался к теплу, просачивался сквозь одежды. Холод питался теплом. Он пожирал его, высасывал из тела.
Первыми стали замерзать пальцы на ногах. Севастьянов лежал и быстро шевелил ими, но пальцы все равно замерзали.
Потом замерз нос. Лицо Севастьянова до самых глаз было закрыто, но пар, выходя изо рта, застывал на подшлемнике, шерсть покрывалась инеем, промерзала. Севастьянов быстро снимал рукавицу, оттягивал подшлемник, растирал нос рукой. Нос начинало покалывать, а рука быстро замерзала. Он прятал руку в рукавицу, чтобы согреть ее, и тогда нос замерзал еще быстрее.
Потом холод проник в колени и в живот, и как только Севастьянов пытался пошевелиться, чтобы согреться, холод острыми иглами колол тело. Тогда Севастьянов понял, что бороться бессмысленно. Он закрыл глаза и старался не думать; ведь для того, чтобы видеть, думать, тоже нужно тепло, которого у него уже не было. Он поджал ноги к животу и лежал не шевелясь. Замерзли руки, он не выдержал, зажал руки меж колен, и это движение забрало последние остатки тепла. Он почувствовал колючие прикосновения белья, и оно стало сдавливать его все сильнее; он лежал, пытаясь нагреть холодную ткань в тех местах, где она плотнее прижималась к нему, и ему начало казаться, будто белье согревается и телу становится тепло. Он не знал, что это означает конец, и обрадовался, потому что ему становилось все теплее. Сначала он думал только о том, чтобы не замерзнуть. Потом ему сделалось тепло, и он вспомнил большой сумрачный зал Публичной библиотеки в Ленинграде и стал вспоминать прочитанные книги. Шелестели страницы, в зале было тепло, тихо. И тогда на лице его появилась улыбка. Он лежал на льду Елань-озера под огнем пулеметов, замерзая от холода, и улыбался: теперь было тепло, и мысли его были приятны ему.
Кто-то окликнул его:
– Севастьянов!
Голос Стайкина с трудом дошел сквозь то тепло, которое еще оставалось в нем.
– Я здесь, – ответил Севастьянов; ему показалось, что сосед по книгам зовет его, и он отвечает ему через стол и поэтому ответил полушепотом, как говорят в библиотеке. Стайкин не услышал, позвал снова:
– Севастьянов, иди греться в мой окоп.
– Ничего, мне уже не холодно, – беззвучно, одними губами ответил Севастьянов.
– Что же ты молчишь? – крикнул Стайкин, и Севастьянов удивился, что сосед не слышит его.
Стайкин схватил флягу, подбежал к Севастьянову. Он упал на него, изо всех сил колотя и толкая.
– Зачем? Зачем? Мне тепло, – беззвучно говорил Севастьянов, но Стайкин не слышал и колотил все сильнее; потом стал пинать ногами, катать по льду, словно бревно.
Севастьянов почувствовал колючий холод, острые иглы вонзились в тело – вместе с болью к нему вернулась жизнь, и он снова оказался на льду Елань-озера.
– Холодно, – сказал Севастьянов громко и открыл глаза.
– Выпей, Севастьяныч, выпей.
Севастьянов увидел, что Стайкин стоит на коленях и протягивает ему флягу.
– Я же не пью.
Стайкин больно схватил его, всунув флягу между зубами.
– Не надо, не надо. – Севастьянов пытался оттолкнуть Стайкина, но у него не было сил. Горячий огонь вошел в горло, вонзился в тело, стал разрывать внутренности. Севастьянов застонал.
– Порядок, – Стайкин влил в Севастьянова еще немного водки. Севастьянов закрыл глаза, затих. Стайкин сидел, поджав ноги, и смотрел влюбленными глазами на Севастьянова.
– Как теперь?
– Вы знаете, Эдуард. Оказывается, жить очень больно. А замерзать даже приятно, честное слово. Сначала только немного колет, а потом тепло и вовсе не страшно. Я вспоминал о чем-то хорошем, о чем давно уже не вспоминал, только забыл о чем.
Стайкин вскочил:
– Рядовой Севастьянов. Слушай мою команду. По-пластунски вперед!
– Зачем? – удивился Севастьянов.
– Вперед! – Стайкин решительно вытянул руку.
Севастьянов перевалился на живот и, неумело двигая ногами, пополз в ту сторону, куда указывала рука Стайкина. Стайкин полз следом и подталкивал Севастьянова, когда ноги его скользили по льду. Стайкин скомандовал встать, они побежали в темноту. Севастьянов бежал, нелепо вскидывая негнущиеся ноги. Стайкин устал и дал команду – шагом.
В темноте за цепью находился пункт боепитания. Севастьянов нагрузил волокушу коробками с патронами, они вместе впряглись в ремни, потащили волокушу.
– Теперь живи, – великодушно разрешил Стайкин.
– Ох, Эдуард, я устал. Я устал жить. Я устал лежать на льду. У меня такое чувство, будто я всю жизнь лежу здесь на чужой замерзшей планете и ничего нет, кроме нее. Жизнь – это усталость и боль.
– Вперед! – скомандовал Стайкин. – Быстрей!
– Нет, Эдуард, это не поможет. Ни вам, ни мне.
– Врешь! – закричал Стайкин. – Я в смертники записываться не собираюсь. Меня не так легко в смертники записать! Тащи! Быстрее!
Они добежали до цепи, начали разгружать волокушу. Солдаты один за другим подползали, чтобы забрать патроны и гранаты.
– Вспомнил! – Севастьянов неожиданно выпустил ящик с гранатами, и тот шлепнулся на лед. – Я вспомнил!
– Что ты вспомнил, чудило? – спросил Стайкин.
– Вспомнил то, что я читал.
– Где?
– Здесь, на льду. Только что...
– Эй, Маслюк! – крикнул Стайкин. – Подойди сюда, полюбуйся на этого сумасшедшего. Он что-то читал.
– Да, да. Я читал приказ главнокомандующего...
– Приказ? – удивился Маслюк.
– Да, да, – горячо говорил Севастьянов. – Он был главнокомандующим, но ему не нравилось – ди эрсте колонне марширт, ди цвейте колонне марширт... Но я не это... Слушайте, я вспомнил, я сейчас расскажу... – Он говорил сбивчиво, будто захлебывался; солдаты с удивлением смотрели на него. – Да, да, это очень важно... Об этом все знают, но не все понимают, как это важно...
– С ума сошел, – испугался Стайкин.
– Нет, нет, – перебил Севастьянов, – не мешайте, я скажу. Вот был бой, а потом пришли мысли. Слушайте. «Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?» – думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, – это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его и разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, он закрыл глаза...» – с каждой фразой Севастьянов говорил громче, спокойней. Солдаты сначала слушали с удивлением, а потом поняли, что Севастьянов говорит не от себя, а что-то вспоминает, они подвинулись ближе, затаились.
Пулеметы били вдалеке, на фланге.
Он продолжал:
– «Никому не нужен я! – думал Ростов. – Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый». – Он вздохнул и со вздохом невольно застонал. «Ай болит что? – спросил солдатик, встряхивая рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крикнув, добавил: – Мало ли за день народу попортили. Страсть!» Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистой шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всей любовью и заботой семьи. «И зачем я пошел сюда!» – думал он».
Севастьянов замолчал и закрыл глаза. Солдаты тоже молчали. Наконец кто-то сказал:
– Так это же про нас написано, братцы. Здорово дал. И не подумаешь.
– Похоже, а не про нас, – заметил Маслюк. – Костер там горит, видишь. А у нас дровишек нету...
– Да что я, не знаю, – обиделся солдат.
– Деревенщина. – Стайкин засмеялся. – Про нас? Это про Ростова Николая, понял?
– А разве у нас нет такого? – удивился первый солдат. – В третьем взводе Иван Ростовин, подносчик. Его же утром ранило. Как раз про него и есть. Все точно.
Севастьянов встрепенулся, быстро задвигал рукой, будто листая страницы книги.
– А вот еще. Только не помню, откуда. Кажется, из другого тома... «Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить – пойду дальше. И буду идти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где-нибудь, и приду, наконец, в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания!..»
В воздухе засвистело, запахло жженым. Снаряд шлепнулся вблизи. Испуганно пригибаясь, солдаты побежали в темноту.
Севастьянов и Стайкин остались одни.
– Все? – спросил Стайкин.
– Еще что-то было. Не помню. – Севастьянов закрыл глаза.







