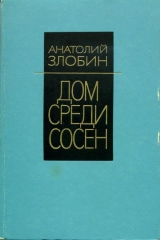
Текст книги "Дом среди сосен"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
– Хорошо живешь. – Капитан Мартынов оторвался от карты и оглядел блиндаж. – Все понятно, отсиживаешься.
– Пришел бы засветло, послушал бы, как мы тут хорошо живем...
– А тишина-то какая, – продолжал Мартынов. – Как на даче. Конечно, ты теперь отсиживаться будешь, а я должен твои грехи замаливать.
Шмелев почувствовал себя неловко под пристальным взглядом Мартынова и виноватым за то, что он отсиживается в блиндаже, а Мартынов скоро уйдет отсюда.
– Понимаешь, – Шмелев развел руками, – передышка.
– Какая по счету?
Передышка была недолгой, и она была последней. Впрочем, на войне каждая передышка может оказаться последней, и каждая пуля – последней пулей, и каждый вздох – последним вздохом. Но думать так на войне нельзя, иначе воевать было бы просто невозможно.
– Понимаешь, капитан, – говорил Шмелев, – оборона у них оказалась крепкая. Мы на льду, а они в земле. У них блиндажи, да еще с рельсами. Даже самолеты не могли их достать в этих блиндажах, а мы бились как рыба об лед. Одиннадцать раз поднимались...
– Зато теперь у тебя благодать. Теперь у тебя никаких забот.
Снаружи не доносилось ни одного звука. Впрочем, пока это обстоятельство не вызывало особых тревог у Шмелева, хотя он то и дело ловил себя на том, что слушает эту напряженную тишину.
– Воевали культурненько. – Мартынов снова оглядел блиндаж. – Это они умеют, сволочи.
Они сидели в блиндаже майора Шнабеля. Над столом горела яркая лампочка, питавшаяся от аккумулятора. Ящики письменного стола были раскрыты и выпотрошены. На полу валялись мятая бумага, гильзы, немецкие ордена. За ширмой виднелись две кровати, покрытые коричневыми одеялами. У ширмы лежал на боку ночной горшок, выметенный из-под кровати. На стене тикали ходики; гиря опустилась и свисала чуть ли не до пола. Картинки на стенах были дорисованы в разных местах красным карандашом. Портрет Гитлера Джабаров сорвал, чтобы растопить печку.
– Умеют, сволочи. С теплой уборной. – Мартынов усмехнулся и посмотрел на ночной горшок.
– Тоже с рельсами, – сказал Шмелев, задвигая ногой горшок под кровать. Он стоял босиком, в стеганых штанах, в гимнастерке без пояса. Валенки сушились у печки. Мартынов был в свежем маскировочном халате, на поясе – гранаты и пистолет. Только шапку он снял и откинул капюшон халата за спину. Автомат лежал на кровати.
– Четыре наката бревен и рельсы, – сказал Джабаров.
– Тогда все ясно. Из такого блиндажа тебя теперь век не выкурить. А мне твою кашу расхлебывать. Постой, постой. – Мартынов нахмурился и уставился в потолок. – Какие рельсы? Откуда? Ты что городишь? – Он строго посмотрел на Джабарова, возившегося у печки.
– Даже думать об этом боюсь, – подтвердил Шмелев. – Почти половина всех блиндажей на берегу усилена рельсами. После второго наката – слой рельсов. Крепость необычайная. Немцы весь день долбили и разбили только один блиндаж. А ведь им все координаты известны...
– Интересно. Весьма. Откуда они их взяли?.. – Мартынов посмотрел на Шмелева и усмехнулся: – Вот видишь, какой ты добрый хозяин: еще одну загадку мне загадал. Ну что ж, Мартынову не привыкать. Мартынов для того и существует, чтобы клубки распутывать да чужие грехи замаливать. Нечего сказать – кашу заварил. Специально для Мартынова.
– Я хозяин добрый, – согласился Шмелев, доставая бутылку. – Еще кое-чем угощу.
– Освоил? Со мной осторожней. А то раскисну тут, и мне уходить отсюда не захочется. Вот валенки сниму, как ты, и разлягусь на кровати. – Мартынов резко повернулся к столу: – Повторим? Для верности.
Они склонились над картой, расстеленной на столе. Мартынов вел карандашом по карте и приговаривал: «Здесь, здесь, потом сюда, выходим к речке – и сюда». Карандаш дошел до того места, где извилистая голубая линия Псижи пересекалась с прямой черной линией железной дороги – там, у моста, был разъезд. Мартынов перечеркнул мост крестом, карандаш сломался. Грифель отскочил в сторону и скатился на пол. – У, черт, – выругался Мартынов.
– Смотри, – сказал Шмелев, – на левом берегу насыпь, а на правом насыпи нет. Значит, правый берег с обрывом.
– Если насыпь, значит, быки высокие. – Мартынов принялся чинить карандаш финским ножом.
– Зачем тебе быки? – спросил Шмелев.
– Если подорвем быки, то это трое суток, не меньше. Даже если они ремонтный поезд вызовут. А мне задано двое.
– Двое суток? Почему двое? Говори.
Мартынов посмотрел на Шмелева и пропустил его слова мимо ушей.
Шмелев сложил карту, передал ее Мартынову. Джабаров подошел к столу, поставил дымящуюся сковороду, потом принес два стакана.
– Задабриваешь? – Мартынов налил в стаканы. – За твоего Александра Невского. Чтоб не последний.
– Спасибо за добрую весть.
– Ты в блиндаже сидишь, – сказал Мартынов, – и орден у тебя уже в кармане. А мне твою работу делать. Справедливо?
– Нет, – Шмелев вдруг не выдержал. – Несправедливо. Ты пришел сюда на готовенькое, а потом сделаешь свое дело и опять уйдешь на тот берег. А нам дорогу держать, пока здесь хоть один человек останется.
– Кто тебе сказал? – Мартынов быстро посмотрел на Джабарова. – Разве я тебе что-нибудь говорил?
– Нет. Я сам все знаю.
– С самого начала знал?
– Нет. На льду, ночью, перед последней атакой узнал. И тогда понял, что нам отсюда не уйти – надо брать.
– Ох, и силен, – сказал Мартынов, ставя стакан. – Где раздобыл?
– Французский коньяк Камю, – сказал Джабаров, – наш капитан немецкого не любит.
– Не знаю только – когда и где? – сказал Шмелев.
Мартынов снова посмотрел на Джабарова.
– При нем можно. Говори, – сказал Шмелев.
– А я и сам не знаю. – Мартынов опрокинул стакан в рот и принялся хватать куски мяса со сковороды. – Знал, да забыл. Я к немцу в зубы иду. И память потерял: когда, где, сколько дивизий – ничего не помню. Хоть убей – не помню. Всю память отшибло.
– Тогда я скажу. Завтра утром. На севере. Там будет главный удар. А наша задача – отвлекать силы...
Мартынов усмехнулся:
– Недаром тебе Александра Невского дали. Полководцем сразу заделался. А мне теперь твои грехи замаливать. – Мартынов посмотрел на часы: – Десять. Мои ребята ждут.
– Посты я предупредил.
– Кто там – Якушкин?
– Яшкин, – сказал Шмелев. – Младший лейтенант.
Мартынов встал, поправляя ремень на поясе, взял с кровати автомат. Он был свежий, чисто выбритый, подтянутый – полный сил и весь готовый к тому делу, на которое шел. Он уже не шутил, глаза стали узкими, злыми.
– Желаю оставаться, – сказал он, пристально глядя на Шмелева.
– Желаю и тебе.
Мартынов шагнул к двери и толкнул ее ногой. Мелькнула черная непроглядная темь. Дверь глухо захлопнулась. Лампочка над столом качнулась, тени забегали по стенам. Вот так, один за другим, нескончаемой чередой уходят живые. И надо только заглянуть в последний раз в их отрешенные глаза, чтобы увидеть там то, куда они ушли. Они уходят и уносят с собой свои мечты и печали, ожидание и верность, гордость и страх – все, что было с ними, пока они не ушли. А потом дверь захлопывается. Ушла лодка, упал снаряд, просвистела пуля – и дверь захлопнулась. Те, кто вышли в эту дверь, не возвращаются назад – дверь захлопнулась плотно и навсегда. Человек ушел.
Шмелев подошел к двери. Кто-то сильно рванул дверь из рук. На пороге стоял Обушенко, за ним Стайкин.
– Фу ты! Напугал, – лениво сказал Шмелев, почесывая поясницу.
Обушенко бросил автомат на кровать.
– Обошел все боевые порядки. Закопались по всему фронту. Дерябин привез боеприпасы – последний рейс. Послал за старшиной. Скоро приедет с обозом.
– Как там Яшкин? – спросил Шмелев.
– Молодцом. Политрук у него замечательный. Двенадцать человек в партию подали.
– Не много?
– Перед смертью – не много.
– Вот видишь, какой из тебя комиссар получился. Я же говорил.
– Поздравить надо нашего капитана, – сказал Джабаров.
Обушенко вопросительно посмотрел на Шмелева.
– С орденом Александра Невского, – добавил Джабаров.
– Серго! Дай лапу...
Джабаров достал из мешка новую бутылку, и они выпили, стоя у стола. Шмелев подошел к кровати и сел.
– Как немец?
– Тихо. Ракеты бросает. А снаряды экономит.
– Тишина на войне – это непорядок, – сказал Шмелев. – Надо усилить берег. Перебрось туда еще один взвод. К Войновскому. На правый фланг.
– Ложись, не волнуйся. Мне все равно наградные писать. А ты спи.
– Дай магазин.
Джабаров подал магазин, и Шмелев стал набивать его патронами. Он вставил магазин в автомат, перевел затвор на предохранитель и повесил его в изголовье. Потом вытащил из-под кровати ящик с гранатами, положил несколько гранат на табурет, встал. Подошел к печке, взял портянки, валенки, сел на кровать, намотал портянки, надел валенки, снова встал, потопал ногами, проверяя, хорошо ли легли портянки, застегнул телогрейку, затянул потуже пояс, поправил пистолет на поясе, положил рядом с гранатами шапку, каску, лег на кровать.
– Хорошо, – сказал он и закрыл глаза.
Джабаров и Стайкин смотрели, как Шмелев укладывается спать. Обушенко сел за стол, разложил бумаги.
Джабаров и Стайкин зарядили автоматы, приготовили гранат, повесили автоматы на грудь и тоже легли на полу у дверей, ногами к печке.
Старший лейтенант Обушенко сидел за столом. Он писал наградные листы, глаза слипались, и строчки расползались в стороны. Стайкин поднял вдруг голову.
– Товарищ старший лейтенант, надо взвод на берег послать. Капитан говорил.
– Я помню. – Обушенко положил голову щекой на стол, чтобы посмотреть, ровно ли легли на бумаге написанные им строчки, и глаза его закрылись сами собой.
– Не забыть бы, – сказал Стайкин и тоже опустил голову.
Измученные контратаками, оглушенные бомбежками, солдаты спали в блиндажах. А тишина над берегом стояла глухая, настороженная, такая тишина, какая бывает перед взрывом. Если бы Шмелев или Обушенко услышали эту тишину, они тотчас почуяли бы недоброе, но бодрствовали только часовые на постах и связисты у телефонов, и они радовались, что кругом тихо и спокойно.
Капитан Мартынов и его подрывники прошли через боевые порядки, попрощались с Яшкиным и направились по замерзшему руслу Псижи к железнодорожному мосту, который они должны были взорвать.
Капитан Шмелев крепко спал. Рука лежала на пистолете.
ГЛАВА VIIСтаршина Кашаров ехал на санях через озеро. Он вез на захваченный берег продукты, боеприпасы, письма.
Сначала по льду прошли солдаты, потом по той же дороге брели в обратном направлении раненые; аэросани сделали немало рейсов в оба конца, они накатали дорогу, размели лишний снег винтами; на дороге остались следы масла и бензина, темные пятна солдатской крови.
Лошади с вечера застоялись у маяка и споро бежали по дороге. Лед глухо цокал под копытами. Изредка сани наезжали на плотные валы снега, наметенные на льду, и качались.
Старшина сидел на облучке передних саней, до ушей завернувшись в тулуп, и дремал. Ему мерещились толстые жирные рыбины – как он глушил их осенью толовыми шашками и кормил солдат ухой, а офицеров – жареными судаками. Потом старшина услышал за спиной ржание и стал сонно размышлять о лошадях – перед выходом на лед было совещание в штабе и обсуждался вопрос: брать ли на лед лошадей, чтобы везти пушки и снаряды, и было решено не брать, потому что лошадь может явиться мишенью для вражеских пулеметов. «Вот и пригодились лошадки, – мечтательно думал сквозь сон старшина, – а то бы сейчас побило их – и хана. Где на фронте лошадей добудешь? Это не человек – лошадей на фронте нету...»
Громкое ржанье окончательно разбудило старшину. Он вскинул голову, осмотрелся. Кругом разливалась плотная мгла, дороги под ногой не было видно.
– Прозевал поворот, – ругался старшина. – Я же долбил тебе, там большая полынья будет от бомбы – где медсанрота стояла. Как до полыньи доехал – так и поворот. Ты куда смотрел?
Ездовой бессвязно оправдывался. Правая пристяжная громко заржала, начала рваться из постромок.
– Чует что-то, – сказал ездовой.
Задние сани наехали и остановились. Лошади жадно мотали головами.
– Я пошел в разведку, – сурово сказал старшина. – Смотри тут.
Старшина прыгнул на лед, зашагал в темноту. Пройдя метров двадцать, он оглянулся: лошадей не было видно. Старшине стало страшно. Он сделал еще несколько шагов, то и дело оглядываясь по сторонам, и остановился. Впереди темнели на льду неподвижные распластанные фигуры. Затаив дыхание, старшина осмотрелся. Чуть в стороне виднелась широкая воронка, затянутая льдом. Старшина всматривался в фигуры, распластанные на льду, и ему начало казаться, будто они шевелятся. Старшина подхватил полы тулупа, побежал назад.
Ездовые столпились у передних саней.
– Как раз медсанрота тут стояла, – бодро сказал старшина. – Полынья на льду. И мертвые там лежат. Не успели собрать.
– Вот я и говорю, – сказал ездовой, – кровь почуяла.
– Сколько народу на льду положили – страсть.
– Может, заберем их с собой. Все-таки братья наши. В земле похороним, по-человечески.
– Отставить разговоры, – скомандовал старшина. – По коням.
Первые сани повернули влево, проехали мимо черных теней на льду. Следом повернули вторые, третьи. И верно, скоро старшина Кашаров увидел под ногами дорогу, лошади побежали быстрей. На берегу одна за другой зажглись две ракеты.
Цокот лошадей и скрип полозьев замер в отдалении. Черные тени на льду зашевелились. У одной тени задвигалась нога, у другой приподнялся зад. Глухой картавый голос произнес:
– Vorwärts! Marsch![9] 9
Вперед! Марш! (нем.)
[Закрыть]
– Beinahe hätte ich ihn erschossen[10] 10
Я чуть не застрелил его (нем.).
[Закрыть].
– Ruhig, Paul, vorwärts[11] 11
Тихо, Пауль, вперед (нем.).
[Закрыть].
Черные тени на льду дружно задвигались, поднялись и, негромко лязгая железом, скрипя по снегу, пошли туда, куда поехали сани. За первой цепью двигалась вторая. Немцы несли с собой пулеметы, катили по льду небольшие длинноствольные пушки. Немцы шли к берегу, и им оставалось еще около часа ходу.
Лейтенант Войновский давно проснулся и лежал на нарах, не двигаясь, слушая, что происходит в блиндаже. Голова трещала, во рту пересохло, но он боялся пошевелиться и тем более попросить воды. «Как стыдно, – думал он, – боже мой, как стыдно. На столе лампа и кругом тихо. Наверное, сейчас ночь, а ведь тогда было утро, мы только что пришли на берег. Я напился в разгар боевых действий, как это стыдно». Он вспомнил склад, капитана Шмелева и как он говорил: «от чистого сердца». Вдруг он вспомнил, что получил пять суток ареста. «Наверно, я под арестом, – подумал он, – и часовые охраняют меня, как это ужасно».
Солдаты негромко переговаривались у дверей, голоса их были незнакомы Войновскому. Он приоткрыл глаза и увидел связиста, сидевшего у телефона. Рядом расположились кружком солдаты. Связист рассказывал вечную солдатскую историю о том, как он вышел из блиндажа под бомбежку и едва успел отбежать пять шагов, снаряд угодил прямо в блиндаж и убил всех, кто был там. «А я на открытом – и живой остался», – восторженно говорил связист, и чувствовалось, что это воспоминание и теперь доставляет ему огромную радость.
Громко хлопнула дверь, волна холодного воздуха дошла до угла, где лежал Войновский. Вошедшие громко затопали ногами.
– Смена пришла! – крикнул Маслюк.
– Насилу выстояли, – сказал Шестаков.
Войновский обрадовался, услышав знакомые голоса, но в ту же минуту вспомнил, что с ним, и глухо застонал от стыда и боли.
– Никак, проснулся? – спросил Шестаков.
– Спит, как малое дитя, – ответил связист.
– Крепко его укачало, – сказал Шестаков. – Непривычный еще для такого дела.
Войновский затаенно молчал. Несколько солдат оделись и вышли из блиндажа. Дверь хлопнула, холод снова окатил Войновского.
– Спасибо фрицам, – сказал Шестаков. – Блиндаж с рельсами для нас построили. Если бы не такой блиндаж, лежать бы нам в земле сырой.
– Интересно, братцы, откуда у них рельсы взялись? – спросил связист.
– Известное дело, от железной дороги. Она тут рядом проходит за лесом. У дороги всегда рельсы есть.
Никто не ответил Шестакову. Стало тихо. Маслюк возился у пулемета, набивая ленту, и было слышно, как постукивают патроны.
– У каждого солдата свое место, – сказал Шестаков, садясь на нары, – одеяльце с номерком. Вишь, номерок пришит, чтобы не перепутать – Ганс ты или Фриц. И нары березовые. Специально из березы сделали, чтобы вши не заводились. Культурная нация. С горшками воюют. Приближают войну к нормальной жизни, только это неправильно.
– Ложись лучше, – сказал Маслюк.
– Все равно уж, – печально сказал Шестаков. – Нам ту дорогу, говорят, брать надо. А мы не возьмем.
– Почему же?
– Не дойдем. Все здесь поляжем.
– Туда подрывники пошли, – сказал связист. – Специальный отряд из штаба армии. Будут мост подрывать на той дороге, у разъезда.
– Никто не дойдет. – Шестаков тяжко вздохнул.
Войновский неожиданно сел на нарах и сделал грозное лицо:
– Шестаков, почему вы ведете пораженческие разговоры? Приказываю немедленно замолчать.
Шестаков быстро встал и пошел к Войновскому, оглядываясь по сторонам. В руках у него была фляга.
– Проснулись, товарищ лейтенант? Желаете опохмелиться?
– Подай воды.
Шестаков зачерпнул котелком из ведра. Войновский долго пил, не отрываясь, потом зачерпнул сам и выпил еще полкотелка.
– Легче? – спросил Шестаков.
– Чтобы я больше не слышал подобных разговоров. Ясно? – Войновский отяжелел и часто дышал.
Шестаков посмотрел на Войновского долгим печальным взглядом. Глаза у него запали, лицо было усталым, в резких морщинах.
– А мне ведь все равно. Я ведь про себя говорю. – Он взял с нар котелок и вышел из блиндажа. Маслюк проводил его взглядом и покачал головой.
– О смерти задумался. – Маслюк взял с нар мешок и снова подошел к широкой бревенчатой тумбе, на которой был установлен станковый пулемет. На бревнах Маслюк расстелил чистое холщовое полотенце и принялся разбирать замок пулемета, протирая белые матовые части ветошью и раскладывая их на полотенце. На концах полотенца были вышиты большие красные петухи.
– Трофей? – спросил Войновский, подходя к пулемету. Солдаты спали на нарах. Связист тоже дремал в углу.
Маслюк обернулся, с неприязнью посмотрел на Войновского.
– Это мое полотенце, – неожиданно зло сказал он. – Не трогайте его.
– В чем дело, Маслюк? Мне так тяжело сейчас. Зачем вы сердитесь на меня?
Плечи Маслюка часто задрожали, он опустил голову, пряча глаза от Войновского.
– У вас тоже горе? Расскажите мне.
– Покоя мне нет, товарищ лейтенант, – Маслюк поднял голову, глаза у него были мокрые. – Зашел во фрицевскую избу – все там мое. Стулья будто мои стоят, со звездами на спинках, рубашки мои шелковые в шифоньере лежат, патефон мой в углу стоит, Коломенского завода. Полотенце висит, петухами вышитое. Ну точь мое полотенце, из моего дома взятое. Жена на базаре купила, как раз перед началом. И вывернуло меня всего – дом мой ограбили и порушили, семью мою сожгли, добром моим кровным услаждались. На каком огне их за это жечь надо?
– Да-да, – поспешно говорил Войновский. – Я понимаю вас. Мне тоже очень тяжело, я понимаю... Мы будем мстить им за все, будем мстить, правда?
Маслюк всхлипнул и ничего не ответил. Собрал замок, поставил его на место, аккуратно свернул полотенце, положил в мешок. Потом вставил ленту с патронами в пулемет, протащил ленту через замок. Патрон выскочил вверх, вертясь и описывая дугу, и упал на пол. Маслюк припал к пулемету и пустил короткую очередь. Войновский заглянул в узкую щель амбразуры и увидел там бездонную черную глубину озера. Из амбразуры тянуло холодом.
– Отдыхайте пока. Я пойду посты проверю. – Войновский нашел на нарах шапку, взял автомат, ракетницу и вышел.
Шестаков ждал его в окопе.
– Мне с вами идти? – спросил он.
– Почему ты опять «вы» говоришь? – удивился Войновский.
– Как же мне говорить, товарищ лейтенант?
– Под обрывом мы были на «ты». И ты сам первый говорил...
– Ничего такого я там не говорил.
– Как же не говорил? Я хорошо помню. Про Дашу рассказывал, про дочку Зину...
– Ничего я такого не помню, что там говорил. А если и говорил что, то и помнить не стоит. Нестоящее говорил. А перед смертью врать не полагается. – Шестаков стоял, упрямо пригнув голову, и не смотрел на Войновского.
– Как хочешь, Федор Иванович. Но в таком случае я тоже буду «вы» говорить.
– Воля ваша. Мне с вами прикажете идти?
– Оставайтесь. Я пойду один. – Войновский прошел мимо Шестакова и зашагал по окопу.
Ночь была темная, тихая. Далеко в стороне, за домами, за купами садов взлетали ракеты, потом опять опускалась темь.
Капитан Шмелев крепко спал в блиндаже. Он лежал на спине, раскинув руки, и часто дышал. Ему снились рельсы, бегущие под колесами электропоезда, широкий, залитый солнцем луг, на лугу паслись коровы и бегали, взметая гривы, лошади.
Обушенко испуганно вскинул голову над столом и схватился за автомат: ему показалось, будто на улице стреляют. Обушенко обзвонил все посты, и отовсюду ему доложили, что кругом тихо. Обушенко успокоился и снова взялся за наградные.
Маслюк набил патронами запасную ленту и лег спать. Ему снилось пепелище родного дома – на всей земле у Маслюка не осталось места более родного и близкого, чем это пепелище.
Шестаков выпросил у дежурного телефониста карандаш, сел за тумбу перед пулеметом и при свете плошки, припасенной с утра, стал писать письмо на родину. Каким-то неведомым чутьем он чувствовал свою близкую гибель; ему чудилось – смерть тихо и осторожно крадется за ним, и он не знал, куда деться от нее. Это необычное состояние охватило его вечером, как только наступила тишина. Шестаков сначала не понимал, в чем дело, а потом понял и смирился и потому спешил закончить свои земные дела.
На верхней площадке колокольни сидел наблюдатель и время от времени пускал ракеты. Ветер продувал колокольню, наблюдатель прятался за колокол, где ветер был слабее, потом подходил к карнизу, пускал ракету, осматривал прибрежную линию и снова прятался за колокол.
Немецкие цепи двигались по льду, и до берега им оставалось не более двух километров. Капитан Хуммель выслал вперед дозор. Черные тени вышли, крадучись, из цепи и скрылись в темноте.
Войновский шагал по окопу. Ночная предрассветная тишина казалась ему удивительной и непонятной. Нога его ткнулась во что-то твердое. На дне окопа лежал замерзший немецкий солдат. Войновский поднял его, перевалил через бруствер. Тело с шумом покатилось под обрыв. Войновский выпустил ракету, чтобы посмотреть, куда упал немец, и зашагал дальше.
Два солдата сошлись на берегу у разбитого немецкого блиндажа.
– Похоже, что подмораживает, – сказал первый часовой.
– Ветер с озера.
– Я на льду два пальца отморозил.
– Ничего. Была бы голова цела. Ты сам-то откуда?
– Из Ленинграда. Преподавателем был.
– Скучаешь небось по ребятишкам?
– Я читал лекции в институте. Там люди взрослые. Но теперь я никого не помню.
– Ишь ты. Что же ты читал им?
– Я забыл об этом. Об этом больно вспоминать.
– А я сам костромской. У нас в селе тоже учитель был. Культурный такой, обхождение имел. Где он теперь, не знаю.
Наблюдатель сидел за колоколом, и ему очень не хотелось вылезать оттуда на ветер. Со стороны озера донеслись протяжные крики. Наблюдатель подбежал к краю площадки, пустил ракету и увидел в ее зыбком свете санный обоз на льду. Передние сани въезжали на берег, ездовой с криком подстегивал лошадей. Наблюдатель выпустил еще несколько ракет, следя, как обоз поднимается на берег, втягивается в узкий проулок, ведущий к церкви.
Передние сани подъехали к колокольне.
– Кто тут живой? Отзовись! – крикнул старшина Кашаров снизу.
– Старшина? – крикнул наблюдатель.
– Он самый. Куда ехать-то?
– Почту привез?
– Привез. Куда везти-то, спрашиваю? Где капитан?
– Езжай налево, на площадь. Там склад трофейный для тебя есть. Часовой там стоит. Скажи ему, чтобы смену прислали.
– Посвети-ка еще.
Войновский смотрел из окопа, как санный обоз выезжает на берег. Сани проехали. Войновский вылез из окопа, пошел поверху, высматривая, где лучше спуститься, потом спрыгнул с невысокого уступа в мягкий снег и пошел вдоль берега низом. Он без труда нашел снежную нору, где они сидели с Шестаковым. Нора осыпалась, блиндаж над обрывом был разбит прямым попаданием. Толстые бревна косо торчали над краем уступа. Войновский подошел к валуну и улыбнулся, ощутив рукой шершавую поверхность камня, выщербленную пулями. Он мечтал о том, что совершит геройский подвиг, убьет много немцев и тогда все забудут, как он безобразно напился, и станут говорить, что он герой, и, может быть, он даже получит серебряную медаль за свой подвиг, наденет ее на новую гимнастерку, которую ему должны вскоре выдать. Он обязательно совершит подвиг, искупит свою вину, капитан вручит ему медаль и, разумеется, снимет дисциплинарное взыскание. Сотни, тысячи молодых лейтенантов на войне мечтали об этом до него и после него, много раз это было описано в книгах, но Войновский все равно мечтал о подвиге, потому что мечтать о нем было сладко; медаль будет сиять на его груди, с нею он придет после войны домой и крепко, не так, как прежде, обнимет мать. Тогда мать увидит, что он стал мужчиной.
Войновский услышал негромкий приглушенный звук губной гармошки, и мысли его прервались. Играли будто за стеной. Мелодия была точно такой же, как в прошлую ночь, протяжной и скорбной.
– Кто там? – громко крикнул Войновский; гармошка тотчас смолкла, сколько он ни прислушивался.
Он поправил ракетницу за поясом, пошел от обрыва. Снег под ногами был мягкий, глубокий, потом стал тверже и перестал скрипеть – он вышел на лед.
Бездонная черная глубина озера звала и втягивала его. Там на льду остались лежать его товарищи, он не видел их, но знал, что они лежат там и ждут его. Темнота плотно опутывала его, а немецкая цепь была уже в четырехстах метрах от берега. Немцы ползли по льду на корточках, выставив автоматы, держа начеку гранаты, но Войновский ничего не мог знать о немцах, он шагал легко и свободно. Можно было идти по льду, не опасаясь пулеметов. Можно было повернуть обратно, подойти к берегу, подняться по обрыву – никто не будет стрелять: кругом тишина, и берег в наших руках.
Лед звонко хрустнул. Войновский замер, отступил назад. Воронка была затянута тонким свежим льдом. Он лег ничком, жадно пил ледяную воду, пока не заныли зубы. Войновский оторвался от воды и услышал близкий хрустящий шорох. Приник ко льду ухом, щекой, как тогда, когда лежал под пулеметами, и услышал чужой шорох, чужие шаги, чужие стуки. Лед, на котором он лежал, который он согревал теплом своего тела, сказал ему об этом. Кругом темнота, и ничего не видно в ней, но что-то чужое, страшное надвигалось оттуда. Войновский испугался темноты, выхватил ракетницу и выстрелил.
Немцы шли цепью, во весь рост. Черные тени запрыгали позади них по льду. Не понимая, что он делает, Войновский перевалился на бок и выпустил весь магазин в черные прыгающие тени. Ракета упала, раздался чужой крик, сотни огненных вспышек зажглись в темноте. Не помня себя, Войновский вскочил и побежал к берегу, успев на бегу выпустить еще две ракеты. Немцы с криком бежали за ним.
Он уже карабкался по откосу, когда на берегу заработали сразу два пулемета. Справа и слева взлетели ракеты.
Маслюк стоял за тумбой, пригнувшись в коленях, обхватив пулемет руками. Плечи и руки его судорожно тряслись, словно от рыданий. Черная, освещаемая ракетами цепь бежала на пулемет, и Маслюк видел в прорезь прицела, как они нелепо взмахивают руками, подпрыгивают, крутятся, падают, проваливаются в черные ямы.
Маслюк бил в них и выкрикивал что-то бессвязное и грозное. Шестаков стоял боком. Глаза у него были зажмурены, губы беззвучно творили молитву, а руки сами собой подавали ленту в пулемет.
Войновский остолбенело смотрел на трясущиеся плечи Маслюка.
Пулемет умолк. Стало слышно мелкую частую трескотню на улице. Войновский удивился, почему Маслюк перестал стрелять.
Из дверей дыхнуло холодом. Войновский обернулся. В блиндаж ввалилось множество людей. Впереди шагал старший лейтенант Обушенко, за ним Сергей Шмелев, потом старшина Кашаров, связные. От них пахло свежим порохом и морозным воздухом. Маслюк мельком глянул на вошедших и снова прильнул к амбразуре. Войновский повернулся и стал смирно.
– Здесь будет КП, – разгоряченно говорил Обушенко. – Начинайте пристрелку. Давайте связь. Вызвать к телефону политруков. Всем лишним покинуть помещение. – Обушенко увидел Войновского. – Ты почему здесь? Где твои солдаты?
– Я только что...
– В блиндаже отсиживаться? – кричал Обушенко. – Еще пять суток захотел?
Шестаков отошел от пулемета и встал перед Войновским, закрывая его своим телом.
– Разрешите сообщить, – решительно сказал Шестаков. – Наш лейтенант на льду находились. Он немцев увидел, сигнал дал. И мы огонь открыли. Так я говорю, Маслюк?
– Это так? – спросил Шмелев.
– Да, товарищ капитан, – торопливо говорил Войновский. – Получилось совершенно случайно. Я спустился на лед, чтобы... Я хотел посмотреть, как там наши... И вдруг увидел немцев... Сразу две цепи... Со мной ракетница... Я успел...
– Хорошо, – перебил Шмелев. Он понял, о чем хотел сказать Войновский. – Идите к своим солдатам. Снимаю с вас взыскание.
В дверях показалась лохматая голова Стайкина:
– Братья славяне, подбросьте ракет. Опять захватчики лезут.
Шмелев махнул рукой и побежал. Войновский оглянулся еще раз на Маслюка и выбежал вместе со всеми.
– Идите, милые, идите, – ласково и нетерпеливо приговаривал Маслюк, приникнув к амбразуре. – Ближе, мои милые, ближе, мои хорошие, идите ко мне, идите ближе... – Лента дернулась и задвигалась, всасываясь в пулемет, плечи Маслюка судорожно затряслись. Он бил в освещенные круги на льду, черные тени опрокидывались и падали, а когда ракеты угасали, он бил по вспышкам автоматов, нечеловечьим чутьем угадывая, что бить надо именно туда. Он бил и кричал, и только грохот пулемета мог заглушить этот крик.







