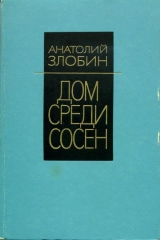
Текст книги "Дом среди сосен"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Дочки мои, Маша, Вера и Зиночка, ваш отец бился до последней капли крови, до полного уничтожения фашизма. И знайте, мои дорогие, что вам за меня краснеть не придется, я воевал, как этого требует весь наш советский народ, и вы за меня смело в глаза людям глядите. Я вам это заверяю, мои дорогие Маша, Вера и Зиночка. А может, и свидимся еще, если война кончится раньше, чем убьют меня, и очень хочется пережить войну и дожить до светлого часа, чтобы увидеть, что наши смерти были не напрасными. Прощайте, родные, не забывайте вашего отца-героя и учитесь на культурных людей. Писано вашим дорогим отцом перед смертью в деревне, которую мы освободили от фашистских тварей».
ГЛАВА XСержант Маслюк взял в плен немца.
Блиндаж сотрясался от близких частых разрывов, окошко под потолком то светлело, то вновь застилалось мутно-серой пеленой.
Маслюк вошел и встал у двери, ожидая, когда Обушенко закончит разговор по телефону.
– Комягин, – сиплым голосом кричал Обушенко, – следи за левым флангом. Выбрось туда пушку! Сейчас последние пойдут. Четыре последних. Больше у них нету. Не пускай их, бери пример с Войновского.
Два связиста сидели в углу за коммутатором и слушали, как рвутся снаряды на улице. Кровати за ширмой были сдвинуты, на них лежали три солдата. Радист сидел на ящике. Толстые резиновые наушники вздувались на его голове. Два пожилых солдата у печки ели из одного котелка, поочередно опуская ложки.
Обушенко бросил трубку и во все глаза уставился на Маслюка.
– Почему оставил позицию? По трибуналу соскучился?
– Разрешите доложить, товарищ комиссар, сержант Маслюк взял в плен немца. – Маслюк сделал шаг в сторону, за ним стоял тщедушный немец в оборванной шинели. Увидев за столом Обушенко, немец поднял руку, сложил пальцы пистолетиком, прицелился в Обушенко и зацокал языком.
– Feuer![12] 12
Огонь! (нем.)
[Закрыть] – прохрипел немец.
В блиндаже стало тихо. Солдаты у печки опустили ложки и повернули головы в сторону немца. Спящие проснулись и сели, протирая глаза. Радист раскрыл рот от удивления.
А немец быстро, звонко цокал языком, приговаривая:
– Feuer!
Обушенко хлопнул по столу и засмеялся:
– Ай да фриц! А вот мы тебе сделаем пиф-паф, хочешь?
Немец стрельнул в Обушенко маслянистыми глазками и понимающе подмигнул ему. Потом сделал что-то руками, закрыл ладонями нижнюю часть лица и быстро-быстро задергал головой. Немец играл на губной гармошке: «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren»[13] 13
«Когда солдаты по городу маршируют», фашистская строевая песня.
[Закрыть]. Никто из присутствующих не знал этой песни, с которой немцы обошли полмира, но солдаты сразу поняли, что это песня врага, и лица их стали строгими и задумчивыми, как на похоронах.
– Тронутый он, товарищ старший лейтенант, – сказал Маслюк. – Я его в заваленном блиндаже откопал. У пулемета. На гармошке тоже играл. Пулеметчик он немецкий, в нас стрелял, вот и сошел с ума от пулемета.
Солдаты заговорили наперебой:
– Тоже человек, оказывается. Переживает.
– Такое не всякий выдюжит.
– А глаза-то, глаза какие, смотри. Вот это глаза! Бегают...
– Нечего с ним чикаться. Немец – и баста.
– Тише вы, черти. – Обушенко схватил трубку и показал кулак. Солдаты замолчали, даже сумасшедший немец перестал играть на гармошке. – Говори, говори. Где сосредоточиваются? Сколько их?.. А ты их не пускай, Яшкин, у тебя же рота. Ты в земле сидишь, а им через поле надо идти... Слыхал про Войновского? Представлен к ордену. Бери пример. Бей их!
– Der Krieg ist die allerschönste Zeit[14] 14
Лучшее время – это война (нем.).
[Закрыть]. – Немец захихикал скрипучим смехом. Никто не понял, что он сказал. Солдаты смотрели на него и сожалеючи качали головами.
Обушенко поднял телефонную трубку, принялся трясти ею в воздухе.
– Уберите этого идиота. Немцы со всех сторон лезут, а этот идиот тут хихикает. В погреб его, под замок!
Два солдата поднялись и увели немца. Обушенко увидел Маслюка и накинулся на него.
– Чего стоишь? Почему оставил позицию?
– Товарищ старший лейтенант, пустите меня с пулеметом наверх, на колокольню. Там хорошо видно...
– Та-ак, – протянул Обушенко. – Один думал или с фрицем на пару? – Он перегнулся пополам, пошарил в тумбочке и выпрямился, держа в руке начатую бутылку. – Глотни-ка.
Они выпили по очереди, и Маслюк отправился устанавливать пулемет на колокольню.
Солдаты у печи покончили с котелком, закурили трофейные сигареты.
– Со всех сторон идут, – сказал первый солдат.
– Останемся, – сказал второй. – Все здесь останемся.
– А тебе-то что? Читал в газетах – победа будет за нами.
– Какая же это победа, если никого на свете не останется. Ничего себе победа. – Солдат весело засмеялся на сытый желудок. – Вот так победа: салют сверкает, музыка гремит, а людей ни одного нет – все на войне остались.
– Останутся и после солдат люди.
– Кто же?
– Младенцы да вожди останутся, вот кто.
– Загнул... Вожди-то потом помрут. А младенцы вырастут.
– Красивая жизнь...
В углу связист с жаром рассказывал товарищу:
– Я в блиндаж вбегаю, а он там с автоматом сидит: «Хенде хох!» А я ногой как по автомату дам: хенде хох, чтоб ты сдох. Он лапки сразу кверху поднял, лопочет по-своему: «Данке шон». Данке шон – дам еще! Хочешь? Так мы с ним пошпрехались, и я его кокнул.
– Говори, Сергей, говори! – кричал Обушенко в телефон. – Я слушаю.
– Пошли, – сказал Шмелев. – Все четыре идут. Четыре последних. Перебрось-ка сюда одну пушку от Яшкина.
Обушенко не успел ответить. Дальний угол блиндажа задвигался, развергся; там вспыхнуло жаркое пламя – гром, треск, огонь, – расщепился металл, обуглилось дерево, тело стало безвольным, мягким и выплеснулось за черту жизни. Еще огонь сверкает, гром стоит, бревна валятся, но уже рождается запах, какого не встретишь ни в дремучем лесу, ни на берегу моря, ни в поле, ни в тесной людской толпе на улице – самый тяжелый, самый безотрадный запах, какой бывает только в жирном сыром черноземе через секунду после того, как разорвался снаряд.
Постепенно все вывернулось, улеглось, рассеялось и приняло застывший хаотический вид разрушения, снова вернулись запахи живой земли... И слабый голос плакал среди разваленных бревен: «Мама, мамочка моя-я...»
– Гриша, Гриша! – отчаянно выкрикивал Шмелев, а в трубке страшный треск и ничего больше.
– Хана, – сказал голос Стайкина. – Не хотел бы я быть на их месте...
Держа трубку в руках, Сергей Шмелев приподнялся. Танки двигались по полю, и не было ни секунды, чтобы склонить голову или хотя бы подумать о тех, кто ушел, вспомнить их лица, голоса – даже это право было отнято у него: танки шли не останавливаясь.
Сергей вдруг вспомнил: «Когда я убиваю, я живу. Я живу, когда убиваю». Где он сказал это? На том берегу? Как далеко... А теперь он не живет, потому что не убивает.
Шмелев вспомнил Обушенко и тут же забыл о нем. Снаряд взорвался, обдав окоп гарью.
– Стайкин, ты живой? – спросил Шмелев в трубку.
– Собственной персоной, – отозвался Стайкин. – Нахожусь в номере «люкс». Охраняю собственный гемоглобин.
– Ты зарядил?
– За кого вы меня принимаете, товарищ капитан? – Стайкин был обижен. – Учтите, товарищ капитан, что я не хочу умирать по целому ряду причин.
– Ну, желаю, Стайкин.
Танки шли в том же порядке, что и утром: два по шоссе и два напрямик через поле. Пушек против них уже не осталось. Стайкин сидел в башне немецкого танка, и у него была единственная пушка, одна на всех. Четыре танка стояли подбитые на поле, а четыре живых шли в атаку. За танками двигалась немецкая пехота, ее стало меньше, чем утром, и немцы шли одной редкой цепью.
Танк на шоссе остановился и выпустил через люк серию зеленых ракет. Шмелев вспомнил о Яшкине: немцы давали сигнал тем, которые наступали на Устриково с другой стороны.
– Иди, Джабар, – сказал Шмелев.
– Туда?
– Сначала к Яшкину. А потом туда, к Обушенко. Забери у Яшкина пушку. Скажи ему: в случае прорыва отходить к церкви. Сигнал отхода – серия желтых ракет.
А танки все ближе, и некогда подумать о чем-то очень важном, может быть, самом важном из того, о чем вообще может думать человек. Неужто так вот и выглядит конец света: серенькое небо с темными размазанными полосами, развороченное разбитое поле, – облака разорвутся вдруг, и небо вспыхнет огнем, земля тяжко вздыбится к небу, снег расплавится и вскипит паром. О небо, чистое небо, неужто ты раскроешься передо мной лишь для того, чтобы я увидел черную смерть земли? Ты породило землю, многострадальную и великую, грешную и прекрасную – так зачем же ты, небо, хочешь ее погубить и зажечь, не убивай ее, не посылай на нее смертоносный огонь и черные столбы смерти. Пусть только солнце сверкает в небе, тогда не будет угасших глаз, не будет слез, и люди не будут бояться неба. О небо, чистое небо, сохрани нас.
Снаряды рвались, не переставая, и люди припадали к земле при каждом близком разрыве, вжимались в нее руками, грудью, сердцем, они будто становились землею; потом осколки проходили поверху, они отрывались от земли и опять становились людьми.
Шмелев смотрел на поле боя, а Севастьянов сидел в углу окопа и немигающими глазами смотрел на своего капитана. Связь осталась только со Стайкиным и Комягиным – все у́же становился круг жизни.
И снова в землю вонзился острый вой.
Сергей Шмелев чувствовал, как он опять становится землею, и знал, что пока он земля, он живет, ибо только земля бессмертна. На дне окопа лежал большой ком мерзлой глины, и каждый раз, когда Шмелев был землею, ком больно впивался в щеку, а потом Сергей поднимался и забывал его выбросить, и острый мерзлый ком опять входил в него.
Кто-то пробежал по полю и шлепнулся в окоп, перепрыгнув через Шмелева. Сергей обернулся. В углу сидел маленький сержант с испуганными глазами, ноздри его раздувались от бега.
– А-а, Взрывпромстрой...
– Так точно, товарищ капитан, – испуганно ответил сержант.
Шмелев почувствовал спиной, что в поле что-то не так. Он обернулся и увидел, как ближний танк замедлил ход, черная башня стала медленно поворачиваться выискивая цель. Ствол прошел мимо плетня, наполз на стог сена – мимо, наткнулся на расщепленный столб – мимо, ближе, ближе – ствол все укорачивался, пока не превратился в черное бездонное кольцо и замер. Черное кольцо, холодный зрачок внутри, нацеленный в лоб. Как завороженный, Шмелев смотрел в этот зрачок и не имел силы пошевелиться. Зрачок вдруг вспыхнул, и в нем зародился огонь.
Тело стало мягким, чужим. Никогда не знал он такого тела. О, не оставляй меня, мое тело, не уходи от меня, моя жизнь! Ты дала мне его, так оставь же его у меня. Пусть всегда оно будет – чтобы было оно моим. Не выбрасывай из этой ямы, не отнимай у воздуха, у снега – я хочу быть землею; хочешь, глаза закрою и уши заткну, хочешь, распластаюсь ниц, хочешь, спину согну, на колени встану – только оставь на земле мое тело, только не отнимай, не отнимай его, ведь нет у меня ничего другого, только оно и есть у меня!
Шмелев вскочил на бруствер, тело снова стало знакомым и послушным. Граната сама собой оказалась в руке, он замахнулся, и в тот же момент услышал два взрыва: один сильный, второй слабее, словно эхо. Он открыл глаза и увидел, как под танком вспыхнул огонь, еще более яркий, чем в черном стволе; танк косо приподнялся, а потом осел набок. Черное кольцо ствола блеснуло и угасло, снаряд прошел поверху и улетел вдаль.
Дым рассеялся, земля, поднятая взрывом, опала. Шмелев опять увидел небо, низкое, в темных размазанных полосах, и вздыбленную землю под этим небом. Три других танка продолжали идти, солдаты в соседних окопах стреляли в немецкую пехоту – все вокруг осталось по-прежнему. И вместе с тем что-то изменилось в мире и в нем самом.
Шмелев спрыгнул в окоп, осторожно положил гранату на бруствер, воровато оглянулся по сторонам: не заметил ли кто, как командир батальона собирался швырять гранату, хотя до танка оставалось не меньше ста метров. Солдат в соседнем окопе вылез на бруствер и недоумевающе смотрел на Шмелева.
– Никак, в рукопашную команда была? – спросил солдат.
– Нет еще, – весело ответил Шмелев. – Сиди пока.
– Уходит, уходит, – закричал маленький сержант, ловко разворачивая ствол ручного пулемета.
Второй танк в поле остановился, попятился и пополз в сторону, обходя взорванный танк. Два других на шоссе продолжали идти. Первый уже подходил к Стайкину.
– Постой, постой. – Шмелев положил руку на плечо маленького сержанта, тот испуганно пригнулся. – Зачем в поле бегал?
– Пять штук поставил, товарищ капитан. Фрицевские, круглые такие, как караваи, знаете? Действуют справно. А второй заметил вот...
– Действительно, Взрывпромстрой. – Шмелев усмехнулся. – Не страшно было умирать, сержант?
Маленький сержант вытер лицо рукавом халата:
– Как вам ответить, товарищ капитан? Не с руки как-то. Ведь у нас как было? Нас умирать никто не учил. Нас алгебре учили, немецкому языку учили, с парашютом прыгать учили, все выше и выше. А вот умирать никто не учил.
– Может, оттого и страшно так, – сказал Шмелев. – Такой страх вдруг напал, что сам себя позабыл. Чуть «мама» не закричал.
– Чтоб вы испугались? Никогда не поверю. Вы же наверх выскочили, я сам видел.
Шмелев усмехнулся и отстегнул флягу.
– От страха и полез. Держи.
Сержант осторожно взял флягу, присел на дно окопа.
Первый танк на шоссе прошел мимо танка, в котором сидел Стайкин, один танк на секунду закрыл другой. Что же ты медлишь, Стайкин? Что же ты медлишь? Пора...
– Стайкин, – позвал Шмелев не оборачиваясь.
Севастьянов нажал кнопку зуммера.
– Севастьянов, это ты? Живой? – торопливо говорил Стайкин. – Дай трубочку капитану – сказать два слова.
– Товарищ капитан. Стайкин хочет сказать вам два слова.
– Чего он там придумал? – Шмелев, не отрываясь, следил за танком, который шел по полю в ту сторону, где находился Комягин и его солдаты. – Отсекай, отсекай, – говорил он маленькому сержанту, стоявшему за пулеметом.
– Севастьянов, друг, – захлебываясь, кричал Стайкин, потому что у него тоже не было времени, – передай капитану, что Стайкин умирает как человек.
Шмелев обернулся, увидел, как Стайкин пропустил немецкий танк и в упор, первым же снарядом начисто снес его башню. Немецкая пехота шарахнулась в сторону, а нижний пулемет, где сидел Проскуров, забил по немцам.
– Товарищ капитан, Стайкин просил передать вам... – Севастьянов не успел кончить: голова поникла, прижалась к стенке окопа. Шмелев схватил Севастьянова за плечи, принялся трясти.
– Что он сказал? Что он просил передать? Говори! Быстро!
Голова Севастьянова качалась, как резиновая, глаза были закрыты, а по виску расползалось темное пятно.
Шмелев услышал частые выстрелы. Второй танк на шоссе с ходу выстрелил по Стайкину и промахнулся. Стайкин стремительно развернул башню, выпустил снаряд – и тоже промахнулся. Они расстреливали друга друга почти в упор; первым загорелся Стайкин, а потом – немец. Плотный дым окутал оба танка, немецкая пехота бросилась вперед. Тогда в открывшемся люке выросла фигура с раскинутыми руками, и гранаты полетели в немцев. Внутри танка звонко ухнуло, огонь ослепительно взвился к небу, и фигура человека растворилась в нем.
Севастьянов сидел на дне окопа, спокойно положив голову на грудь, и никто теперь не узнает последних слов, которые сказал Стайкин; может, это были самые главные слова?
– Товарищ капитан, товарищ капитан, – маленький сержант показывал рукой в поле, дергал Шмелева за халат.
Прямо на них полз танк, тот самый, последний, который пошел было на правый фланг, а потом, увидев поединок на шоссе, повернул обратно. Немцы поняли, что у русских нет больше пушек, и танк неторопливо и спокойно двигался вдоль окопов, расстреливая их из пулемета. Шмелев схватил гранату.
– Вы не бойтесь, товарищ капитан, – поспешно и просительно глядя в глаза Шмелева, говорил маленький сержант. В руках у него тоже была граната. – Не бойтесь, я сам, я теперь не боюсь.
– Ты что задумал, Взрывпромстрой?
– Товарищ капитан, сержант Кудрявчиков я, из саперного взвода. Запомните, товарищ капитан, Кудрявчиков фамилия моя. Кудрявчиков Василий из города Канска. Так и передайте всем людям, что я Кудрявчиков Василий. Вася. – Сержант шмыгнул носом, посмотрел просительно и сказал еще: – Прощай, Вася! Прощайте, товарищ капитан! Помните меня. – Он неловко перевалился через бруствер и пополз навстречу танку, прижимая гранату к бедру и быстро загребая снег свободной рукой.
На шоссе раздался сильный взрыв. Танк Стайкина было потух, немцы с трех сторон подползали к нему, но танк вдруг ожил, нижний пулемет дал короткую очередь, потом – взрыв, немцы – врассыпную от танка. Танк окутался черным дымом, сполз в кювет.
Кудрявчиков пробежал немного и снова пополз, прижимая гранату. Пулеметная очередь прорезала воздух. Кудрявчиков вздрогнул, замер на снегу с выброшенной вперед рукой.
Сержант Кудрявчиков из саперного взвода. Василий Кудрявчиков из города Канска. Никто не учил его умирать, а он пошел и умер. И если б можно было умереть и раз, и два, и пять, он снова пошел бы и снова умер – и с каждым разом он умирал бы все лучше, все красивее. А теперь он лежит на снегу – одинокий, неловкий, и умереть должен другой, потому что танк идет. Прощай, Кудрявчиков Василий, я расскажу...
Танк осторожно объехал Кудрявчикова, а потом двинулся на окопы и принялся утюжить их и мять. Шмелев сильно бросил гранату, но она разорвалась, не долетев. Танк остановился, пустил длинную очередь. Шмелев присел, пропуская пули, а когда оторвался от земли, танк шел уже по саду, расчищая дорогу снарядами.
Шмелев схватил последнюю гранату, бросился в сад. Он догнал танк за третьим или четвертым плетнем, замахнулся всем телом, упал в снег. Он видел, как граната летит, перевертываясь, и понял, что опять промахнулся. Танк сердито взревел, разворачиваясь и нащупывая его стволом пулемета. Шмелев лежал за старой яблоней и слушал, как пули идут по снегу справа налево и ищут его, – тогда никто не узнает о том, что сказали перед смертью живые. Но ведь невозможно, чтобы люди не узнали об этом. Ведь слово мертвых священно, а помнить дано лишь живым.
Пронзительно взвизгивая, пули ушли и затихли. Танк наехал на плетень, пополз дальше, покачивая широким приземистым задом и подминая под себя яблони. Разбитые, поверженные ветви все больше закрывали танк.
Он вскочил, побежал, прыгая через плетни, через ямы, по сваленным стволам, сквозь кусты. Ему казалось, что теперь всю жизнь он будет гнаться за черным танком. Споткнулся, услышал хруст веток. Прижимая палец к губам, прямо перед ним стоял Джабаров. На поясе Джабарова висела противотанковая граната, нетронутая, в пятнах масла, только что из ящика. Шмелев рванулся.
– Скорее!
– Тсс... Там фрицы, – прошептал Джабаров и показал глазами в кусты за плетнем. Шмелев увидел вход в блиндаж. Ступени расчищены от снега, дверь неслышно покачивается на петлях, чьи-то тени двигаются внутри. Он подкрался к блиндажу, пустил длинную очередь в дверь, прыгнул, толкнул дверь ногой. Тягучий запах ладана пахнул в лицо.
Яркая лампочка качалась на шнурке, освещая длинный черный гроб и немецкого офицера, лежавшего в гробу.
Лицо мертвеца было надменным и властным. Восковые руки с тонкими холеными пальцами лежали на груди, массивное обручальное кольцо блестело на пальце. Сквозь петлицы черного кителя были продеты полосатые муаровые нашивки – боевые награды майора Шнабеля. На полу у ножки стола валялось брошенное распятие, четыре стеариновых бугра расплылись на столе, по углам гроба.
Шмелев стоял, выставив автомат – палец на спуске. Джабаров часто дышал за спиной. Еще мгновение, и он нажал бы спуск, чтобы разорвать мертвую тишину. Он пришел в себя, оттолкнул Джабарова, выбежал из блиндажа. Ветви вишен больно хлестнули по лицу.
Ведь это было уже со мною, я думал, что больше не вернется, но оно возвращается снова и снова. Опять встает передо мною лес, тот самый. Я иду по нему и ничего не узнаю: снаряды искромсали лес, ни одного дерева не осталось в живых. Вершины сосен снесены, сучья побиты – всюду торчат черные расщепленные стволы. А те, которым удалось уцелеть, засохли и стоят, равнодушно взирая на поверженных. Я иду, и сердце заходится от крика – ведь это же наш лес, тот самый, где мы узнали любовь. Вот сосна – только пень торчит расщепленный. Я иду, в лесу темнеет, тучи опустились. Впереди горит огонь, я бегу, натыкаясь на острые стволы, бегу туда, где светит огонь. Передо мной вырастает камень, я падаю обессиленный, а за камнем черное ущелье. Оно доверху завалено солдатскими касками, сучьями, пнями – все, что было живого в лесу, навалено сюда. Огонь горит над ущельем, стволы сосен становятся красными, а на том берегу такой же поваленный лес и такие же красные стволы. Огонь горит, но я не чувствую тепла, от огня исходит холод, лес горит ледяным огнем. Холод проникает в тело, я хочу убежать от ущелья, от камня, но как только делаю шаг, передо мной падает снаряд и черное дерево ложится наземь, преграждая дорогу, а ветви, стволы летят мимо, в ущелье и вспыхивают там ледяным огнем. Огромные окровавленные бабочки кружатся надо мной. Я понимаю – обратно нет пути. Холод огня передается мне, я тоже становлюсь холодным и жду своего снаряда. Неужто это правда и никто не придет назад?
Волна взрыва толкнула Шмелева. Дым стлался над вишнями, внизу зиял широкий черный провал. Джабаров обогнал Шмелева и побежал по тропинке, ведущей к шоссе. Они добежали до плетня и присели, высматривая танк.
– Ты что, с ума сошел?
Джабаров спокойно выдержал взгляд Шмелева.
– Где граната?
Усмешка прорезала тонкие губы Джабарова:
– Похоронил. Разлегся там. Наши на льду лежат, а он в гробу разлегся...
– Последняя граната. Дурак. – Шмелев перескочил через плетень и побежал вдоль домов. Танк проломил угол амбара, выполз на шоссе и повернул к церкви, стреляя на ходу по избам и вдоль шоссе. На краю деревни слышалась частая трескотня, и это стало единственным, на что еще можно было надеяться, ведь на войне стрельба – признак жизни.
Отчаянно, упрямо Сергей Шмелев стремился к цели. Снаряды вставали на пути, пулеметные очереди преграждали дорогу, но он шел вперед. Столько было утрат и потерь, что он уже не мог вместить всего и должен был во что бы то ни стало рассказать об этом. Сейчас он скажет им такое, чего еще никто никогда не говорил. Сейчас он скажет. Лишь бы добраться...
На том месте, где был штаб, он увидел развороченный блиндаж и побежал еще быстрее. Цепляясь за перекошенные рельсы, съехал вниз, полез под бревна. Стало темно. Он пробирался, ощупывая бревна руками. Впереди что-то зашипело, незнакомый сердитый голос крикнул:
– Куда прешь, Сергей? Куда полез, не видишь?
Это только прибавило силы Шмелеву, он полез вперед еще решительнее. Он бился о бревна, ломая ногти, вцеплялся в них, отбрасывая в сторону мертвые тела. А чужой нездешний голос звал и вел его в темноте:
– Сергей, бери влево, теперь на себя, делай иммельман. Так, Сережа, так, еще, еще. Ах, Серго, ах, какой молодчина. Серега, Серега, не увлекайся, следи за хвостом. Серж, ответь, Сержик, Сереженька, Сергунчик, Серенький, что же ты? Эх, Серый...
Шмелев наконец добрался до радиостанции, стащил толстые резиновые наушники с чьей-то мертвой головы и повернул ручку, чтобы не слышать больше этого голоса, звучавшего из-за облаков, где шел воздушный бой. Он выполз с радиостанцией из-под бревен, расправил погнутый стержень антенны и стал вызывать Марс.
И столько отчаянья и силы было в его голосе, что почти сразу пришел ответ.
– Почему так долго молчали? Слышу вас хорошо. Я – Марс, прием.
– Запомните: Кудрявчиков Василий!.. – выкрикнул Шмелев. Он оборвал себя и перевел дух, чтобы сосредоточиться. Он должен сказать сразу обо всем, а времени в обрез, и он не знал, как начать. Как рассказать о том, что он увидел и узнал? Как рассказать о земле, которая измучена огнем и металлом? Как рассказать о сердце своем, которое прикоснулось к другим сердцам, и каждое прикосновение оставило на нем болезненный рубец. Он вспомнил все, что было, перед ним возникли мутные, потухшие глаза – он уже не помнил, чьи они. И черный огненный гриб вонзается в мягкое тело земли – ведь это было уже? Или только будет? И какие слова нужны для того, чтобы этого не стало больше на земле.
– Луна, что случилось? Почему ты замолчал? Какой Кудрявчиков? Где он? Не понял тебя. Как слышишь? Ответь. Я – Марс, прием.
Шмелев набрал побольше воздуха в грудь и заговорил. Голос был сухой, бесстрастный. Он думал только о том, что может не успеть.
– Внимание, передаю боевое донесение. Противник силами до двух батальонов при поддержке восьми танков беспрерывно атакует Устриково. Отражены четыре атаки. Уничтожено семь танков. Лейтенант Войновский, Юрий Войновский бросился под танк с гранатой и погиб. Он просил написать Наташе Волковой из города Горький. Повторяю, Наташа Волкова из Горького, девушка, не получающая писем с фронта. Напишите ей, он просил перед смертью. Сержант Кудрявчиков из саперного взвода подорвал на мине вражеский танк и погиб. Запомните: Василий Кудрявчиков из города Канска. Старший сержант Эдуард Стайкин из Ростова подбил прямой наводкой два танка. Стайкин погиб. Лейтенант Ельников из Москвы закрыл своим телом командира. Ельников погиб. Старший лейтенант Обушенко погиб. Рядовой Севастьянов погиб. Проскуров погиб, Шестаков погиб – запишите их имена. Передаю обстановку. Немецкий танк ворвался в деревню. Отходим к берегу в район церкви. Будем драться до последнего. Прощайте, товарищи!
Рядом шлепнулся камушек. Джабаров стоял на корточках на краю воронки и манил Шмелева пальцем. У ног Джабарова лежали две новые гранаты.
– Луна, я – Марс, понял тебя хорошо. Сообщи, где Шмелев? Где находится Шмелев? Прием.
– Шмелев ушел на танк. Некогда. Прощайте. Иду. – Шмелев выключил рацию и полез наверх, цепляясь за рельсы.
Танк стоял у церковной ограды и расстреливал пушку, которую катили по шоссе солдаты из роты Яшкина. Маленькие фигурки сновали у пушки, разворачивая ее, а танк послал туда меткий снаряд и все перемешал. Немецкий пулеметчик выпустил длинную очередь в Шмелева, но Шмелев даже не пригнул головы. Все осталось позади, впереди был танк, огромный, черный, жестокий. Шмелев шагал во весь рост, и танк попятился от него, а потом развернулся и выпустил снаряд.
Сергей размахнулся, швырнул гранату. Водитель дал задний ход, танк неуклюже отполз, и граната упала на то место, где он стоял. Шмелев лег за большой серый камень у шоссе, примериваясь для нового броска. Вторая граната перебила гусеницу танка, и тогда снаряд ударил в камень, легкая волна приподняла Шмелева, дернула за уши, он опрокинулся, распластался на снегу, чувствуя, как боль вонзается в тело и плотная липкая тишина обволакивает землю.
Танк стоял на шоссе. Верхний люк бесшумно откинулся, там показалась рука, и пять красных ракет одна за другой поднялись к небу.
Боль все сильнее сдавливала тело, сомкнулась над головой. Шмелев закрыл глаза, потому что смотреть стало больно.
Он уже не видел и не слышал, как на верхней площадке колокольни высунулся ствол пулемета, простучала длинная очередь: Маслюк всадил двадцать пять пуль в раскрытый люк башни.
Рука с ракетницей опала, внутри раздались частые гулкие взрывы, черный дым, клубясь и завиваясь, вырвался из башни.
Падающий на излете осколочный снаряд задел колокольню. Верхняя площадка окуталась белым дымом, часть стены рухнула вниз. Крест на самом верху заколебался, половина его отвалилась. Колокола закачались, протяжный печальный звон поплыл над берегом.
Шмелев лежал на снегу, раскинув руки. Он не слышал ни пулемета, ни взрывов – все заглушала боль и безмолвная песня набата.







