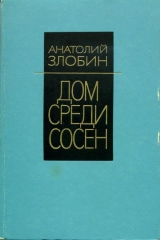
Текст книги "Дом среди сосен"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Меня бесило его самодовольство, и я не мог удержаться, чтобы не высказать всего, что я о нем думаю.
– Как видно, вам недолго пришлось блуждать в трех соснах?
Борис Иванович усмехнулся и пожал плечами.
– Послушайте меня, молодой человек, – так говорил он. – Послушайте старого волка. Вы скажете мне, что я циник, но все равно – слушайте. Когда у мужчины есть верная пристань, куда он в любую минуту может вернуться и причалить, никакие сосны ему не страшны – ни три, ни десять, ни дремучий лес.
Я промолчал. Затянувшееся прощанье прервал гудок машины, которая должна была отвезти его к самолету. Я помог ему донести вещи до такси, и мы расстались, не обменявшись даже адресами.
Борис Иванович уехал, Лилия погрустила один вечер, а назавтра была по-прежнему красива и весела. Комнату Бориса Ивановича занял тихий сморщенный старичок в узорчатой китайской пижаме. Он тихо сидел за столом, потом, всегда с книгой в руках, шел на море и сидел там на песке, не снимая пижамы. Никто ни разу не видел его не в пижаме. По вечерам он тихо сидел в своей комнате или в саду. Его так и прозвали в нашем доме – «старик в пижаме».
Я по-прежнему проводил день на море, после обеда занимался своими нефтяными скважинами и с нетерпением ждал того часа, когда сосны в саду растворятся в вечерней темноте и Анна придет ко мне.
Как-то утром я не увидел за столом Эрика. На его месте сидел высокий круглолицый блондин в спортивной куртке. Я посмотрел еще и обнаружил, что нет Марты – она тоже уехала.
Почему уехал Эрик? Во время обеда мне не удалось поговорить с Анной, но я надеялся, что она догадается зайти ко мне, и пошел в свою комнату. Работа не клеилась, я в сердцах отложил рукопись и лег на кровать.
В дверь постучали, и в комнату вошла мать Анны, как всегда угрюмая и чем-то недовольная.
– Я должна переменить ваше белье, – сказала она. – Анна плохо себя чувствует и не может заняться хозяйством.
Я поднялся с постели.
– Что с Анной? – спросил я. – Надеюсь, ничего серьезного?
Она не ответила и стала расстилать белье. Я стоял у двери и смотрел на нее: я никогда не понимал этой женщины. Что она от меня хочет?
Взбив подушки, она подошла к окну и сказала, не глядя на меня:
– Я хотела предупредить вас, что по вечерам надо закрывать окно.
– Почему? – я попытался улыбнуться. Она осуждающе смотрела на меня:
– Ночи становятся холодными. Вы можете простудиться. Я не хочу допустить, чтобы кто-либо болел в моем доме.
– В таком случае, разумеется, надо скорей закрыть окно, – весело сказал я. – Нет, нет, разрешите, я сам сделаю это.
Я плотно закрыл створки окна и для верности запер их на крючок.
– Так будет лучше, – удовлетворенно сказала она и вышла из комнаты.
Я долго сидел на кровати, пока не почувствовал, что в комнате становится душно. Я сделал попытку пересесть за стол, но с работой ничего не получалось. Тогда я махнул рукой и пошел на улицу. Не успел я выйти за калитку, как увидел, что навстречу идет Анна. Она шла как ни в чем не бывало, увидев меня, она радостно помахала рукой. Я поспешил к ней:
– Анна, что случилось?
– Ничего.
– Неужели ты ничего не скажешь мне?
– Лилия уезжает в город, – сказала она. – Я сейчас иду провожать ее.
Я удивился и посмотрел на Анну. Она пояснила:
– У нее заболела мама. Лилия пробудет в городе два-три дня и вернется обратно.
Я все еще ничего не понимал. Анна рассмеялась:
– Неужели ты не понимаешь? Ведь Лилия живет в моей комнате. Она уедет в город, и я останусь одна. Ты сможешь прийти вечером ко мне. Дверь будет открыта. Я буду ждать тебя.
Я еще ни разу не был у Анны. Вечером я дождался, когда на террасе кончилась музыка и все стихло в доме, и пошел к ней. Я прошел по темному коридору и открыл дверь в гостиную, где мы иногда обедали, когда на террасе было холодно. Из гостиной вели две двери: одна – к Анне, вторая – в комнату ее матери. Я постоял в темноте, соображая, куда мне нужно идти, и на цыпочках прошел к дальней двери.
В комнате никого не было. Укрепленная на высокой деревянной палке, в углу стояла лампа, обтянутая малиновым шелком, и все предметы в комнате казались малиновыми. Под лампой стояла низкая широкая тахта с подушками, у другой стены была полка с книгами, низко поставленное к полу высокое зеркало. Конечно, это была ее комната, я попал правильно.
В гостиной послышались шаги. На всякий случай я отошел к стене, так чтобы раскрывающаяся дверь загородила меня.
Дверь тихо раскрылась. В комнату вошла Анна с подносом в руках. На подносе стояли две чашки, кофейник и еще какие-то вазочки с сахаром и печеньем. Она поставила поднос на круглый низкий столик у тахты и склонилась над ним, возясь с кофейником. Она была в тяжелом длинном халате, в котором всегда выходила на берег, и еще не замечала меня.
Я повернул выключатель, и в комнате стало темно. Негромко звякнула ложка, послышался смех Анны.
– Ты уже пришел? – сказала она и опять засмеялась. – Разве мы не будем пить кофе?..
Мы долго лежали в темноте и молчали. Ее голова лежала на моем плече, и волосы касались лица.
– Как зовут твою жену? – спросила она вдруг.
– Майя.
– Майя, – сказала она задумчиво. – Красивое имя. А как вы назвали сына?
– Костик. Ему уже пять лет. Он все понимает, замечательный человек.
– Константин Владимирович, – сказала она, слушая свой голос. – Очень длинно. А чем она занимается?
– Работает врачом.
– Ты любишь ее?
– Мы разошлись восемь месяцев тому назад.
Анна вздрогнула и приподнялась на локте, заглядывая в мое лицо. Я видел совсем близко ее глаза, слышал ее дыхание и ждал, что скажет она мне: до этого она никогда не спрашивала меня о жене, и я не рассказывал ей о том, что у нас произошло. Было очень важно, что она скажет мне сейчас. Анна наклонилась ко мне совсем близко.
– Можно мне поцеловать тебя? – спросила она и, не дожидаясь ответа, коснулась губами моего лба.
В соседней комнате послышались шаги. Кто-то прошел по коридору и вошел в гостиную. Анна подняла голову и прислушалась.
– Аника, ты не брала кофейник? – спросила ее мать, стоя за дверью.
Анна вышла в гостиную, плотно прикрыв дверь за собой. Они говорили довольно долго, потом она вернулась, села рядом со мной на тахту и взяла мою руку.
– И я ничего не знала. Почему ты не говорил мне раньше?
– Не надо говорить об этом, – сказал я.
– Как я была бы счастлива, если бы моя любовь могла помочь тебе. Теперь я понимаю, о чем ты думаешь все время. Я очень люблю тебя.
Первый раз Анна произнесла это слово, и вдруг я почувствовал страх – я был совершенно не готов к этому. Мог ли я ответить на ее чувство?
– Неправда, – сказал я. – Я все время думаю о тебе. Ты очень хорошая, Анна. Ты просто замечательная. Но не надо говорить об этом. Зачем приходила твоя мать?
– Мама сердится на меня за Эрика, – сказала Анна, опускаясь на тахту.
– Почему он уехал? – спросил я.
– Он же был моим женихом. Прошлым летом он снимал у нас комнату. – Анна негромко засмеялась. – Он жил в той же комнате...
– Почему он уехал?
– Какой ты смешной и ревнивый. Эрик хотел жениться на мне, а я поняла, что стала равнодушна к нему. Я сказала ему «нет» еще до того вечера, когда мы зажигали костры. Но он сказал, что будет ждать моего ответа до осени.
– Почему уехал Эрик? – спросил я. – Ты рассказала ему?
– Конечно. Я рассказала ему все. Сказала, что люблю тебя. Иначе он не уехал бы.
– Он уехал с Мартой?
– Да. Он сделал ей предложение, и она согласилась. Они решили, что устроят свадьбу в городе. У него там большая квартира, и Марта будет ему хорошей женой. Он станет большим ученым.
– Я, пожалуй, пойду к себе, – сказал я.
– Не сердись. Побудь со мной еще.
– Разве можно сердиться на это? Просто твоя мать была права: не надо оставлять окно открытым на ночь.
– Но ведь сегодня этого нет. Ведь сегодня ты сам пришел ко мне. Мама сердится на меня и не понимает, что я тебя люблю. Она больше не придет. Я давно мечтала, когда можно будет позвать тебя к себе, чтобы ты выпил кофе в моей комнате и остался у меня. Сейчас я включу плитку и сварю новый кофе.
И я остался у нее и пил вкусный кофе.
Все продолжалось по-прежнему. Вернулась из города Лилия, приехали новые молодые люди, которые шумно восторгались нашим домом, соснами, играли в волейбол, танцевали на террасе.
Мне хорошо работалось в этом большом шумном доме. Я почти закончил рукопись и надеялся, что зимой мне удастся защитить диссертацию.
Лето уже уходило. Дни становились прохладнее, по утрам часто шли дожди, а вечером сосны на дюнах закрывались туманом, который спускался на море, на дюны из низко висящих облаков. Стволы сосен делались блестящими и скользкими и уходили в туман, и шапки были совсем не видны.
За столом все чаще говорили о том, что скоро начнутся занятия, откроются театры, кто-то собирался ехать на юг к Черному морю и подыскивал компанию.
Анна слушала эти разговоры и не участвовала в них. Я стал замечать, что на нее часто находит непонятная задумчивость. Тогда она подходила к окнам террасы и подолгу смотрела в сад, на сосны, за которыми было слышно, как шумит море.
– Ты здорова, Анна? – спросил я, подходя к ней.
Она задумчиво посмотрела на меня и не ответила.
– В чем дело, Анна? Скажи мне, что случилось?
– Ничего не случилось.
– Ты можешь сказать мне все. Я должен знать.
– Кончается лето, – сказала она, глядя на сосны. – Будут идти дожди, долго-долго. Потом долго будет снег. У нас снег такой холодный и сырой. Кино будет открыто два раза в неделю. И только Лилия будет приезжать ко мне по воскресеньям.
– Я приеду к тебе!
Она покачала головой:
– Нет. Только Лилия приезжает ко мне каждый год, и мы вместе мечтаем, что когда-нибудь кто-то приедет к нам навсегда. Он будет высокий, со светлыми глазами. Борис Иванович очень нравился Лилии...
– Не стоит говорить о нем. Он не мог не уехать.
– Я знаю, – сказала она спокойно. – Ты тоже уедешь, как и он.
– Как он? Ни в коем случае. Я останусь с тобой! Хочешь?
– Еще сегодня утром ты интересовался расписанием поездов. Что ты скажешь завтра?
В этот вечер Анна не пришла ко мне. Окно было раскрыто. Сосны уже слились с ночным небом и тихо, невидимо качались в темноте, а я все ждал Анну. Ночь была холодной и темной, казалось, она никогда не кончится. Я сидел на постели, курил и слушал, как шумят сосны. Я не ложился до тех пор, пока не увидел, как сосны проступают на рассвете в саду. Сосны были точно такие же, как в те часы, когда Анна выходила в сад. Сосны ничуть не изменились, а ее не было. Тогда я понял, что люблю Анну и что она не придет ко мне.
Все утро я искал случая поговорить с ней, но она упорно избегала меня. Тогда я пошел в сад и стал ожидать, когда она пойдет на море и я смогу перехватить ее по дороге и заставлю выслушать себя.
Наконец я увидел их обеих. Держась за руки, они шли по дорожке. Я вышел из кустов и встал перед ними.
– Простите, Лилия, мне крайне необходимо поговорить с Анной.
Лилия посмотрела на Анну, потом на меня и отошла в сторону. Я схватил Анну за руку и потащил ее в кусты, не разбирая дороги. Ветви хлестали меня по лицу. У высокой прямой сосны в дальнем углу сада я остановился и повернулся к Анне. Она смотрела на меня, в ее глазах была надежда и страх, ожидание и холодность – все вместе.
– Анна, почему ты не пришла ко мне? Я не спал всю ночь, ждал тебя.
– Я тоже не спала, – сказала она тихо.
– Анна, я не могу без тебя. Мы должны быть вместе. Почему ты не пришла? – Ее губы слабо шевелились, словно она повторяла мои слова; я смотрел на нее и чувствовал, что говорю совсем не то, о чем думал ночью и что ждала от меня Анна, но я не мог сказать ничего другого, кроме того, что говорил. Она молчала и все еще ждала. – Я остаюсь с тобой. Я решил это.
– Зачем? – спросила она.
Я замолчал, ошеломленный этим простым вопросом.
– Ты должен ехать домой, к жене, к сыну, – сказала она.
Я схватил ее за руки:
– У меня нет дома, она ушла от меня и забрала Костика с собой. Я думал, что она напишет мне, но она сама не хочет, чтобы я возвращался.
– Зачем ты мне говоришь об этом? Зачем я должна это знать?
– Потому что я один, понимаешь, один! – Я почти кричал. – Потому что я не могу без тебя!
– У тебя есть твоя работа. Ты будешь писать диссертацию.
– Я не могу без тебя. К черту диссертацию! – кричал я. – Неужели ты не хочешь, чтобы я остался?
Она посмотрела на меня строго и долго. Я не смог выдержать ее взгляда и отвернулся.
– Зачем? – спросила она еще раз и печально улыбнулась. – Не бойся. Не нужно, чтобы ты жертвовал. Я не могу принять от тебя такой жертвы. Ты же хочешь вернуться туда. И ты вернешься...
– Я не могу без тебя, Анна, – бессмысленно и горячо твердил я. – Анна, я не могу...
Я совсем обезумел, схватил ее за плечи, прижал к сосне и запрокинул ее лицо. Губы ее остались неподвижными и холодными. Она вся была как неживая. Я разжал руки и отпустил ее.
– Прости меня.
Она ничего не сказала и медленно пошла вперед, натыкаясь на кусты, на стволы сосен, и, как слепая, обходила их.
Я знал, что она больше не придет ко мне, но все равно ждал ее и думал, что вот сейчас, немедленно появится в окне ее силуэт и она скажет мне: «Останься со мной», и я останусь. Всю ночь я слушал сосны и ждал ее.
Она не пришла ни на вторую ночь, ни на третью.
Теперь я знал, что она не придет. Все, что произошло между нами, она понимает и чувствует лучше, чем я. Ах, если бы она пришла, если бы хоть немножечко помогла мне. Тогда все было бы по-другому. Я все еще не мог лишить себя последней надежды. Увы. Я решил, что уеду со всеми. Только старик в пижаме не уезжал и еще оставался в доме, но теперь он ходил в плотном, наглухо застегнутом плаще.
Мы вышли из дома все вместе. Анна шла впереди рядом с Лилией. Кто-то попробовал начать песню, но это не вышло. Моросил мелкий холодный дождь, и всем было грустно расставаться с домом, с соснами, с морем.
На платформе девушки окружили Анну и стали тормошить, целовать ее. Я вспомнил, что надо телеграфировать домой и в институт, и пошел к почтовому киоску.
Я послал телеграммы и вернулся. Молодые люди по очереди подходили к Анне и целовали ее руку. Все они говорили, что им страшно не хочется уезжать. Я тоже подошел к Анне и поцеловал ее руку, совсем холодную и мокрую. Она взяла мою голову и при всех поцеловала меня в губы.
– Счастливого пути, – сказала она.
Я стоял и молчал, потому что мне не хотелось говорить то же, что говорили ей эти парни.
Подошел электропоезд, все радостно зашумели, задвигались. Я поставил чемодан в вагоне и протиснулся обратно к двери. Она стояла на платформе совсем рядом, в полутора метрах от меня. На ней был светлый плащ и узкие синие брюки, те самые, в которых я увидел ее первый раз.
Вагон неслышно тронулся, и Анна стала отдаляться. Она сделала шаг вперед и остановилась, слегка подняв руку и слабо взмахнув ладонью. Губы ее что-то прошептали, и мне показалось, что она зовет меня: «Останься!» Я хотел спрыгнуть с поезда и уже приготовился к прыжку, но меня остановила нелепая мысль о чемодане, который стоял в вагоне. Я не успел бы взять его, потому что конец платформы был уже близко.
Анна сделала еще один шаг, улыбнулась, и улыбка ее почему-то получилась виноватой и жалкой.
Я не мог больше смотреть на нее и быстро прошел в вагон. Увидел свой чемодан и со злостью пихнул его ногой под скамью.
В дальнем конце вагона громко и резко играл аккордеон, несколько голосов подтягивали за ним песню. Невысокая смуглая толстушка подбежала к Лилии и повисла у нее на шее.
– Ой, Лилька, какая ты черная, просто ужас.
Лилия поцеловала ее.
– Подумать только, послезавтра в институт, – толстушка сделала смешную гримасу, и Лилия громко расхохоталась.
Я отвернулся и сел на свободное место рядом с загорелым юношей, на ногах у которого лежала ракетка для тенниса. Он подвинулся и поставил ракетку торчком на одно колено.
Я чувствовал себя страшно усталым. Я закрыл глаза и сразу увидел Анну.
Она стоит на опустевшей платформе, дождь стекает по ее волосам. Капли бегут по лицу, и кажется, что Анна плачет.
Послышался громкий смех. Я повернул голову. Через две скамьи от меня сидели Лилия и толстушка в окружении молодых людей. Высокий парень с прилизанными черными волосами стоял в проходе и, размахивая огромным кровавым георгином, зажатым в руке, громко говорил:
– ...Повторяю, гражданин, я загораю, не отвлекайте меня.
Они снова захохотали. Им было безумно весело.
Я закрыл глаза и опять увидел ее.
Вот она спускается по платформе, переходит через мокрые блестящие рельсы, идет по длинной улице к дому. Редкие прохожие попадаются навстречу ей, спеша на станцию. Она смотрит на небо и поднимает капюшон плаща.
Она входит в сад, поднимается на террасу, проходит по опустевшему дому. Наш большой дом, еще вчера такой веселый и шумный, стал вдруг пустым и горестным. В комнатах валяются мятые газеты, обрывки веревок, коробки от папирос, пустые бутылки – все, что всегда остается в доме, из которого уехали люди.
Она заходит в мою комнату и закрывает на крючок окно, которое я оставлял открытым для нее до самого последнего вечера. Я вспомнил ее руки, которые она протягивала ко мне, появляясь в окне, и я помогал ей подняться и обнимал ее. Поезд замедлил ход перед следующей станцией, и я подумал, что еще не поздно взять чемодан, пересечь платформу и с первым встречным поездом вернуться к ней. Нет, я не успею! Она уже вышла из моей комнаты, уже прошла через заднюю калитку к дюнам, идет среди сосен, и они печально шумят над ее головой. Море выбрасывает на берег холодные волны и пену. На пляже никого нет, только старик в глухо застегнутом плаще неподвижно стоит у самой воды. Она проходит мимо, идет вдоль берега, а за ней остаются на песке темные влажные следы. Она идет далеко по берегу, старика уже почти не видно. Тогда она поднимается на дюны, останавливается и смотрит вдаль, туда, где море и небо неразличимо сливаются вместе с серой пеленой дождя. Нет, я не успею, я не найду ее среди сосен.
– Прощай, Аника!
1959
ТРИ ЧАСА НА ЗАПАД
В составе группы советских туристов я был минувшей осенью в одном из городов Западной Европы. Целыми днями на протяжении двух недель мы бродили по городу, бывали на рабочих окраинах, осматривали многочисленные музеи и выставки, посещали театры – словом, настойчиво и нетерпеливо проделывали все то, что полагается делать каждому туристу, независимо от того, в какой стране он находится.
Наступил день отъезда – с него-то начинается этот рассказ. Уложив чемоданы, я почему-то захотел еще раз осмотреть пустые ящики письменного стола и неожиданно обнаружил в одном из них изрядно помятую, перегнутую пополам тетрадь в серой бумажной обложке. Вся тетрадь была исписана широким размашистым почерком, почти без помарок. Ни имени, ни адреса владельца тетради нигде не было. Обращение к хозяину гостиницы также не развеяло недоумения: никто не заявлял о забытой тетради. Во время повторного осмотра находки удалось обнаружить в конце тетради дату, свидетельствующую о том, что рукопись пролежала в письменном столе почти четыре года. Хозяин гостиницы недоуменно пожимал плечами, пока вдруг не вспомнил, что письменный стол из моей комнаты долгое время до этого простоял на чердаке. Прошло слишком много лет, чтобы можно было надеяться найти владельца тетради или ожидать, что он явится за нею сам. Тетрадь осталась у меня. Я приехал домой и перевел то, что было написано в ней.
Что же касается названия этого безымянного рассказа, то оно возникло из чисто географических соображений. Находясь в поездке, мы сообща решили не передвигать назад стрелки наших часов и продолжали жить по более привычному для нас московскому времени. Но даже помимо этого, не глядя на свои часы, мы то и дело ощущали разницу во времени, которая отделяла нас от Москвы.
Итак, вот что было написано в серой тетради.
Уже полгода я торчал в этом цирке, и каждую неделю мне присылали счет за свет прожекторов. Еще месяц, сказал я себе, и я брошу свою затею, но все равно каждый вечер с десяти до двенадцати я сидел с камерой в руках и глазел на арену. Мне дьявольски надоели все эти номера, но тем не менее я сидел и смотрел их. Хорошо еще, что я мог не ходить на первое отделение: там не было ничего стоящего. Я приходил к началу второй половины и сидел до самого конца, потому что Китс выступал последним. Я снимал Китса, а потом напивался в баре и шел к себе спать.
За все эти месяцы на арене не случилось ничего интересного, если не считать жокея, который сломал себе руку, и я жалел, что не успел снять, как он свалился с лошади. Но жокей все равно был не нужен мне, потому что я снимал Китса.
Первые недели я снимал его с разных точек манежа, пока окончательно не выбрал место в четвертом ряду, чуть влево от середины. Отсюда лучше всего было видно, как он делал свой прыжок и летел через кольцо. Шталмейстер тоже был отлично виден отсюда, и я снимал его важную осанистую походку, когда он в цилиндре и смокинге выходил на арену и привычно взволнованным голосом объявлял их выход.
Они выбегали на арену – она впереди, он за нею, держа ее руку. Им всегда хорошо аплодировали: многие ходили в цирк только затем, чтобы увидеть этот номер. Они выбегали, кланялись, а потом забирались по веревочной лестнице наверх и начинали там выделывать всякие фигуры. Тело ее красиво вытягивалось и выгибалось, когда она качалась там, наверху, в тугом красном трико с блестками, и я часто снимал ее. Он висел на трапеции головой вниз, и она крутилась у него в зубах, и тело ее сливалось в сплошной круг, и я боялся, что она сорвется, хотя это было совсем безопасно. Она мне очень сильно нравилась, и потому я так боялся за нее, хотя бояться было нечего.
Я снимал ошалевших зрителей, как они орали что есть силы «Китс-Китс» и размахивали руками. У меня уже было сотни метров зрителей, и лучшие кадры я должен был отобрать при монтаже.
Потом начинался прыжок. Он качался на трапеции, отдыхая, а она готовила наверху веревку, которую он должен был поймать. Музыка резко обрывалась, давая понять самым недогадливым, что сейчас начнется что-то серьезное. Некоторое время они еще разводили канитель, нагоняя страх на зрителей дешевыми цирковыми штучками: хлопали в ладоши, перекрикивались.
Я тоже готовился к их номеру и заряжал камеру новой катушкой. Когда он становился последний раз на мостик, я поднимал аппарат и нацеливался на него. В видоискателе он был совсем маленький, словно игрушечный. Она была еще за кадром. Но вот, держась ногами за самую верхнюю трапецию, она откидывалась головой вниз и выбрасывала между ним и кордой большое стальное кольцо, затянутое папиросной бумагой. Теперь все было в кадре: она, веревка, он и кольцо, через которое он должен был прыгнуть и поймать веревку. В цирке становилось мучительно тихо.
Она последний раз кричала ему сверху: «Хо-оп», и тогда я нажимал спуск и смотрел в видоискатель, как он летит вперед, держа трапецию вывернутыми за спиной руками. Набирая скорость, трапеция доходила до самой нижней точки и начинала идти по кривой вверх. Тогда он разжимал руки и летел на кольцо. Распластавшись в воздухе, он красиво выбрасывал руки вперед и разрывал пальцами бумагу. Тело его мелькало в кольце, он пролетал сквозь него и хватал веревку.
Как только он ловил корду, я опускал камеру и давал знак, что можно тушить прожекторы. Она бросала кольцо с разорванной бумагой, и, медленно раскачиваясь в воздухе, оно падало на арену.
Китсу бешено аплодировали. Он спускался по корде первым, она за ним. Они долго кланялись и улыбались, бегали за форганг и снова возвращались на арену, но это было уже не нужно мне, и я тушил прожекторы.
С прожекторами вначале вообще получалась ерунда. Китс заявил, что свет прожекторов, за аренду которых я платил наличными, слепит ему глаза. Пришлось долго объяснять ему, какую замечательную ленту я собираюсь сделать о его номере, и он в конце концов согласился. Мы переставили прожекторы так, чтобы они светили немного сзади, и он привык к ним и не замечал их. За эти полгода, что я снимал Китса, они уже два раза переезжали с цирком на новое место, и я ехал за ними и вез за собой прожекторы.
Им продолжали хлопать, а я уже выбирался из цирка и шел пить. Дома я швырял катушки со снятой пленкой в чемодан. Весь чемодан был забит пленкой, и я просто не знал, что буду делать, когда чемодан наполнится до отказа и перестанет закрываться.
Еще месяц, говорил я себе, и я брошу свою затею. Но я-то знал, что меня держит в этом проклятом цирке. Если бы не она, я давно бросил бы это дело. С каждой неделей она нравилась мне все больше и больше, и я решил, что добьюсь своего.
Я знал, что она меня недолюбливает. Она-то понимала, зачем я торчу в цирке, езжу за ними из города в город, из страны в страну. У женщин на этот счет особое чутье. Она понимала все и держалась от меня подальше. И я знал это.
Как-то мы встретились у входа, через который обычно проходили артисты. Начиналась весна, и она была без пальто, в длинной широкой юбке, в гладком шерстяном свитере. Она была дьявольски хороша, я просто пожирал ее глазами.
– Смотрите, потеряете свой аппарат, – сказала она.
– Хелло, мадмуазель. Как поживаете?
– Я вам не мадмуазель. Пора запомнить это.
– Простите, мадам Люси. Мысленно я всегда называю вас девочкой.
– Когда вы наконец перестанете ездить за нами? – грубо спросила она. Она была дьявольски хороша, когда злилась.
– Пока не сделаю картины о вашем номере.
– Времени было достаточно.
– Я задумал такую ленту о вашем номере, чтобы люди валили на нее толпами. И я сделаю такую ленту.
– За полгода можно было сделать десять таких лент.
– Видите ли, мадам, ваш номер продолжается одиннадцать с половиной минут. Моя катушка работает одну минуту. Кроме того, я должен снять зрителей, потрясенных вашим искусством. Еще надо снять шталмейстера, оркестр. И еще то, что я задумал. Для этого нужно время. – Я говорил ей святую правду, но она мне не верила.
– Что вы там еще задумали? – К ней ужасно шло, когда она злилась.
– Пока это не получается, мадам.
– Может быть, вас не устраивает наш номер? Может быть, мой муж плохо прыгает?
– Что вы, мадам? Он прыгает замечательно, больше чем замечательно. Просто мне не везет, мадам.
– Ну и профессия у вас, – усмехнулась она.
– Всякая профессия плохая, когда не везет. Я бы с удовольствием бросил это дело ради того, чтобы попрыгать с вами.
– Слишком много вы себе позволяете.
– Я буду терпеливо ждать, мадам.
– Не дождетесь.
– Простите, мадам. Дают звонок.
Он редко разговаривал со мной после одной встречи, когда он попросил показать ему, как выглядит его номер на экране, и я ответил, что отправляю всю пленку для проявления. Он ни разу не видел себя со стороны, и ему очень хотелось посмотреть на экране, как он прыгает, а я не показал ему, хотя несколько катушек было проявлено и перепечатано для пробы и я смотрел их в зале. За прокат зала мне тоже пришлось платить, но все это было одно и то же, и я перестал смотреть пленку, чтобы не тратить зря денег.
С деньгами было совсем плохо. Я никак не рассчитывал, что эта история так затянется, а конца ее не было даже видно. Я просидел еще неделю в цирке и истратил еще пятьсот метров пленки.
Мне стоило больших усилий решиться на то, чтобы просить денег у жены. Она с самого начала назвала мою затею дурацкой и предсказала, что я провалюсь. Мы как следует поговорили тогда, и я уехал.
В тот вечер, выйдя из цирка, я покрепче выпил в баре и позвонил домой. Жена подошла к аппарату сама.
– Как дела? Твой Китс еще прыгает? – спросила она.
– Конечно, прыгает, Дора. Он здорово прыгает. Просто здорово. Я с удовольствием снимаю, как он прыгает.
– Мне надоело быть одной. Я скучаю, милый.
– Я оставил тебе достаточно денег, чтобы ты не скучала в одиночестве.
– Так вот почему ты звонишь. Ты на мели? Да? Кто же она? Циркачка? И тоже прыгает?
– Не болтай глупостей, дорогая. Просто мне не везет. Мне ужасно не везет.
– Это было ясно с самого начала. Надо бросать эту работу и начинать другую. Кстати, на лето меня пригласила Мари. В субботу они уезжают на яхте. Тебя она тоже приглашала. У нас будут акваланги и камера для подводных съемок. Ты сможешь снять там чудесные пейзажи под водой. Она очень приглашала тебя.
– Я не могу, дорогая. Будет лучше, если и ты не поедешь. Мне нужны деньги.
– Если ты хочешь, чтобы нам не везло, делай это один. И если мы не можем решать наши дела вместе, давай решать их отдельно.
– Сейчас не время выяснять отношения. Мне нужны деньги. Очень нужны. До зарезу.
– Ты прав, милый. Сейчас уже поздно. Нельзя решать такие вопросы так поздно. Я хочу спать. Я отвечу тебе завтра.
Я бросил трубку и пошел в бар. Бар – самое подходящее место для человека, которому не везет. Когда мне не везло, я всегда много пил, и это иногда помогало мне.
На этот раз не помогло и вино. Я сидел в баре до самого закрытия и взял еще бутылку в гостиницу и прикончил ее в постели. Когда я проснулся, голова трещала и разламывалась. Я всегда просыпался с головной болью, но к вечеру это проходило, и можно было начинать все сначала.
Я еще брился, когда принесли телеграмму. Дора писала, что уезжает на яхте. Это было похоже на разрыв, хотя телеграмма была составлена тонко и хитро. Я бросил ее и позвонил, чтобы мне принесли две бутылки. Я сидел в номере и пил и все еще надеялся, что она позвонит мне и пришлет денег, и тогда все уладится.
Но она не звонила. Мальчик приносил мне бутылки. Первый раз я напился не после работы, а до нее. В голове у меня здорово шумело, когда я пошел в цирк. Я был так сильно пьян, что пошел через служебный ход, прямо через конюшни. В проходе я едва не столкнулся с ней.
– Опять вы пришли сюда? – грубо сказала Люси.
– И завтра приду. Вот увидите.
– Ни черта у вас не выйдет! – почти закричала она. – Уезжайте отсюда.
– Я живу в «Паласе», третий этаж, восьмая комната. Приходите – возможно, мы договоримся.
– Если я приду, то только затем, чтобы закатить вам пощечину.
Ох, до чего же мне надоело смотреть этих клоунов, которые только и умели давать друг другу пинки под зад. Канатоходец был тоже не лучше. А тот, который глотал шпаги, был просто шарлатаном. Я узнал это, как только снял его ускоренной съемкой. Еще тогда я решил, что тоже вставлю этот кусок в свою ленту. Когда он глотал сверкающую шпагу в три раза медленнее, чем на самом деле, было отлично видно, как она складывается и части ее входят одна в другую. А потом он зажимал острие шпаги зубами и ловко выдергивал ее изо рта. Мы до упаду хохотали, когда вместе с хозяином зала просматривали этот кусок. Он три раза просил прокрутить его и все время хохотал до слез, а потом не взял с меня денег, и мы распили вместе бутылку. Будет очень смешно, когда зрители увидят это. Весь зал будет хохотать над тем, как складывается его шпага. Люди любят, чтобы им показывали смешное и серьезное вместе. Сначала они посмотрят мой фокус со шпагой и будут весело хохотать, а потом увидят серьезный номер.







