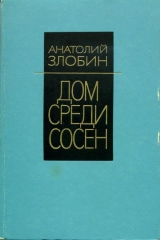
Текст книги "Дом среди сосен"
Автор книги: Анатолий Злобин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
– Каждая рота выделяет по одному взводу в мой резерв. – Шмелев повторил еще тверже: – Зарыться в землю. Теперь есть куда зарываться. Зарыться и стоять намертво. Вопросы?
Командиры рот и батарей по очереди взяли под козырек и сказали, что им все ясно.
– А как же железная дорога? – спросил лейтенант Ельников. – Оставим фрицам?
– Как ваша фамилия? – спросил Шмелев, вспомнив Дерябина. – Кажется, Ельников? Из первого батальона?
– Двадцать два года Ельников, – ответил тот. – Два года с Клюевым воевал.
– Вот что, лейтенант Ельников, – сказал Шмелев. – Обсуждать приказ будем потом. Сейчас не время объяснять причины и выводить следствие.
– Немцы бегут, а мы в землю зарываться. – Ельников стоял в расхлябанной позе, с усмешкой на тонких губах оглядывал офицеров.
– Через сорок минут я приду проверять систему обороны, – терпеливо сказал Шмелев. – Выполняйте.
– Ну тогда ясно. – Ельников повернулся и пошел, не отдав чести.
– Лейтенант Ельников, – негромко окликнул Шмелев, потеряв терпение.
– Что еще? – Ельников остановился, лениво повернул голову.
– Зайдите по пути в штаб и передайте Обушенко, что я снимаю вас с роты. Сдадите роту лейтенанту Войновскому.
Ельников вытянулся в струнку, лицо его расползлось, стало пунцовым.
– Как же так, товарищ капитан? – сбивчиво начал он. – Я же просто так спросил. Как же так?
– Идите. Я не привык повторять по два раза. Да и некогда к тому же.
Итак, с железной дорогой было покончено. Шмелев вспомнил о тех, кто остался на льду, и сразу почувствовал страшную усталость. Он перепрыгнул через кювет и схватил горсть снега.
Командиры батарей быстро шагали по шоссе. Они обошли Ельникова и свернули к церкви. Ельников постоял, потом побрел за ними. Комягин и Яшкин бежали вдоль домов в другую сторону.
Шмелев перебросил портфель в правую руку и зашагал к берегу. Джабаров за ним.
Они шли вдоль высокой железной ограды. За оградой было кладбище. Среди могил поднимались большие старые дубы с шершавой корой.
Белое поле просвечивало в конце проулка. Они прошли мимо сгоревшего сарая. У ворот валялась на боку красная облупившаяся молотилка, забитая снегом; напротив стояла черная длинноствольная пушка – «собака». Замок из пушки был вынут.
Озеро сразу раскрылось за сараем огромное, ледяное. Холодный ветер дул в лицо. Шмелев прыгал через окопы, мимо разрушенных блиндажей и ячеек, пока не вышел к первой линии.
Ледяное поле у берега было разбито, вода тускло блестела в воронках. Мертвые лежали на льду неровной прерывистой цепью, как оставили их живые. Мертвые сделали свое дело, и живые забыли о них. Никому не стало дела до мертвых, хотя на льду находилось немало народа: связисты сматывали провод, артиллеристы подкатывали к берегу пушки, обозники подтаскивали походные кухни.
Пять месяцев подряд Шмелев смотрел на этот берег в стереотрубу и знал его до косточек. А теперь он сам стоит здесь – и берег кажется чужим, незнакомым.
Шмелев пошел вдоль берега. Окопы расчищены от снега, обшиты на брустверах досками. От окопов шли к берегу стрелковые ячейки и ходы сообщения к блиндажам. В одной из ячеек стоял пулемет с ребристым черным стволом, вся ячейка была засыпана медными гильзами, а на гильзах лежал мертвый немец с красивым, словно высеченным из мрамора лицом. Шмелев посмотрел на немца, перепрыгнул через ячейку. Короткая очередь раздалась за спиной. Джабаров стоял, опустив автомат, сизый дымок завивался на конце ствола.
– Ты лучше живых убивай, – сказал Шмелев.
– Он тоже в мертвых стрелял, – ответил Джабаров, посмотрев на Шмелева холодными спокойными глазами. – Я знаю.
Шмелев промолчал и пошел. По снежной пологой отмели поднимались три солдата, неся на плечах мертвого. Солдаты подошли ближе, и Шмелев узнал Клюева.
– Куда собрались? – спросил он.
– Он деревню брал, пусть сам в нее войдет, – ответил первый солдат, сутулый и немолодой. – Перекур, ребята.
Солдаты положили тело Клюева в снег и принялись свертывать цигарки. Шмелев опустился на колени, оттянул подшлемник, закрывавший лицо убитого. Лицо заросло рыжей щетиной, глаза втянулись. Маскхалат был в пятнах крови на груди и на ногах.
Сутулый солдат стоял в ногах Клюева и словоохотливо говорил:
– Старший лейтенант Обушенко нас послали. Приказали принести майора на берег. Пусть в деревню с нами войдет. Хоть похороним по-человечески.
Шмелев отстегнул ремешок планшета, выдернул ремешок из-под спины Клюева, обмотал планшет ремешком, сунул в желтый портфель. Солдаты стояли вокруг, смотря на Шмелева.
– Значит, вы теперь наш капитан? – спросил сутулый солдат. – Смотрите, как бы и вас не того. Берегите себя.
– Спасибо, – сказал Шмелев. – Поберегусь.
– Товарищ капитан, – крикнул Джабаров сверху, – идите сюда. Нашел!
– Пошли и мы, ребята, – сказал сутулый.
Джабаров стоял на краю воронки. Рельсы торчали из провалившейся крыши вперемежку с бревнами. Рельсы погнулись, перекосились, концы некоторых рельсов были разрезаны автогеном.
– Что скажешь, Джабар? – спросил Шмелев, разглядывая рельсы. – Не нравится мне это.
– Вот, товарищ капитан. Для вас. – Джабаров поднял руку; на ладони лежал небольшой золотой портсигар с монограммой.
– Брось, – сказал Шмелев.
– Золото. – Джабаров стоял с протянутой рукой и удивленно смотрел на Шмелева.
– Брось немедленно!
Джабаров опустил руку, и портсигар соскользнул вниз, негромко звякнув о рельс. Шмелев придавил его валенком.
– Еще раз увижу, как ты барахольничаешь и собираешь немецкие шмутки, – берегись. Прогоню в пехоту.
– Меня прогнать нельзя, – сказал Джабаров.
– Верно. Тогда в штаб пошлю. – Шмелев засмеялся, и в голове у него загудело, а потом послышались глухие редкие удары. Он обернулся. Невдалеке над окопом взлетали вверх комья земли и снега. Земля опала, по окопу юрко пробежал невысокий сержант в каске. В руках у него связка гранат и ломик. Сержант добежал до излома окопа, сунул три гранаты в землю и быстро отбежал назад. Гранаты глухо разорвались, земля над окопом всколыхнулась и осела.
Внизу на отмели стояли две полковые пушки, артиллеристы сидели там на сошниках, покуривая. Сержант опять подбежал к излому, постучал по стене ломиком, сунул гранаты, спрятался в соседней ячейке. Ему стало жарко, он скинул шинель и остался в телогрейке. Послышался взрыв более сильный. Облако снега рассеялось, Шмелев увидел, что стены окопа спали, в них образовалась лощина, а дно засыпано землей – поперек окопа пролегла дорога, сержант прошелся по ней, пританцовывая, и замахал артиллеристам.
– Сержант, ко мне! – крикнул Шмелев. Первый раз в жизни он видел, что гранатами можно не только разрушать и убивать.
Сержант испуганно вскинул голову, побежал к Шмелеву, поправляя на ходу ремень.
– Явился по вашему приказанию.
– Как фамилия?
– Виноват, товарищ капитан.
– Как фамилия, спрашиваю?
– Сержант Кудрявчиков.
– Сапер?
– Так точно, товарищ капитан.
– Где служил на гражданке?
– Взрывпромстрой, товарищ капитан.
– Взрывал?
– Строил, товарищ капитан. Дороги мы прокладывали: взрывстрой.
– Сержант Кудрявчиков, объявляю благодарность за находчивость и смекалку. Буду ходатайствовать перед командованием о награждении боевым орденом.
– Служу Советскому Союзу, – испуганно ответил Кудрявчиков.
– Иди служи.
Артиллеристы спустили пушку в проход и, толкая ее руками, дружно вкатили по уклону. На мягкой земле остались следы колес и солдатских ног. Кудрявчиков обогнал артиллеристов, легкой взвивающейся походкой зашагал впереди пушки.
Шмелев сел на бревно, положил портфель на колени. В голове все еще гудело, и он сдавил виски руками.
На отмели торчали из-под снега черные днища просмоленных лодок. Ближняя лодка густо изрешечена пулями. На носу можно различить полустершуюся перевернутую надпись. «Чайка», – прочел Шмелев. Он вспомнил капитана Чагоду и ничего не почувствовал при этом воспоминании. Бесконечный строй ушедших стоял перед его глазами, Николай Чагода затерялся где-то в середине строя, и лицо его неразличимо среди множества лиц. И нет ни времени, ни сил вспоминать об этом, потому что если все обстоит так, как он рассчитал, то скоро начнется настоящий бой, какого еще не было на льду, снова начнет прибавляться строй ушедших, и самые последние утраты будут самыми горькими.
Тишина стояла над берегом. Сразу не вспомнишь, когда началась. Под ногами появилась земля, немцы бежали через поле, трещали автоматы. По шоссе проехала важная машина, потом бой утих, и Ельников спросил: «А как же железная дорога?» И не стало радостного чувства победы; чем дольше стояла тишина на берегу, тем тревожнее становилось на сердце, и голова гудела.
– Обушенко бежит, – сообщил Джабаров.
– Ну и пусть, – ответил Шмелев, не подняв головы.
Обушенко бежит по снегу, прыгает через окопы. Опять надо твердить: круговая оборона, собрать мертвых, а живым закопаться в землю, запереть шоссе, подвезти снаряды, послать портфель генералу, наладить связь, выбрать наблюдательный пункт и всякое такое, без чего нельзя воевать. Обушенко бежит – надо воевать и некогда подумать о самом главном...
Снова дорога, о которой страшно подумать, разворачивается, уходит вдаль.
Зеленый огонь светится под козырьком, а когда поезд проходит мимо, огонь становится красным, но я уже не вижу этого – передо мной маячит другой зеленый огонь, на другом столбе – два зеленых блика бесконечно скользят по рельсам. Они зовут меня за собой. Рельсы бегут и бегут под колеса, расходятся, сбегаются на стрелках, пропадают за поворотом, снова устремляются к горизонту. А вчера мы были в театре – высокий красивый парень пел со сцены смешную песенку:
Вел под ручку меня палисадом,
Говорил мне, любуясь собой:
«Мы как рельсы, бегущие рядом,
Что сольются в дали голубой».
Парень играл на гитаре, к нему подходила девушка в кудряшках, клала голову ему на грудь и подпевала:
Отвечала я так пустомеле:
«Напускаешь напрасно туман.
Не встречаются рельсы на деле.
Это зрения только обман».
Дальше было еще смешнее. Парень и девушка брались за руки, начинали кружиться и пели вместе:
Освещают нам путь семафоры,
Семафоры, семафоры...
Полюблю я того лишь, который
Не способен на ложь и обман.
До утра потом шатались по бульварам, сидели под окнами, целовались до самой зари и пели смешную песенку. Потом я помчался в депо, вышел на линию. Солнце только что поднялось, я ехал, и в душе все пело: поцелуи, зеленые огни, рельсы, бегущие под колеса. Чисто вымытые старушки в белых платочках семенили по платформе – они стояли шеренгой, как солдаты, и я катился мимо них. Они спешили в церковь, к заутрене, чтобы помолиться за всех родных и близких, за всех живых и усопших. Через перегон был рынок, молочницы с бидонами бежали туда занять место побойчее, а напротив магазин – очередь за ситцем. Еще ранним-рано, магазин закрыт, а они прилетели сюда, ранние пташки, встали в хвост, судачат, лузгают семечки. А старушки в белых платках идут в церковь, они шагают неторопливо и гордо – они идут разговаривать с богом, и там не надо занимать места получше.
Потом – большой перегон по зеленому лугу. Коровы спокойно пасутся на лугу; стадо большое, пестрое – бугай впереди. А если коровы спокойно пасутся на лугу, значит, на земле мир и благодать, значит, старушки в белых платках недаром клали земные поклоны, значит, нет застывших глаз, бабочек, окропленных кровью ребенка. Только зеленый огонь горит впереди, только рельсы бегут под колеса. Сразу за лугом поезд выскакивал на мост и раскрывалась такая даль, что дух захватывало. По долине текла река. Русло извилистое, и до самого горизонта видно, как река петляет по лугам. Я еду в третий раз. На берегу уже полным-полно, будто вся Москва кинулась сюда спасаться от жары. Вагоны сразу пустели, все наперегонки бежали с насыпи к реке. А там уже плавали, прыгали, ныряли, барахтались, плескались – вся река кишмя кишела белыми телами. Они висели на подножках, стояли во всех проходах, а поезда все подвозили и подвозили их до самого обеда. Я успевал сделать пять концов – луг, базар, церковь, церковь, базар, луг, – а они все ехали и ехали. И вся река была белой – плывут, ныряют, выбрасывают над водой руки, барахтаются, – и кто же знал тогда, что война разметет эти белые тела по всей земле русской.
Кто ведал...
ГЛАВА IIIВойновский пил прямо из бутылки, а Стайкин прыгал вокруг стола и прихлопывал в ладоши:
– Пей до дна, пей до дна.
Вино было темное, терпкое. Войновский допил бутылку и с размаху швырнул ее в угол, под стеллажи. Стены заходили ходуном в глазах Войновского, потом неохотно встали на место. Подвал был большой, мрачный. Две стены сплошь уставлены бутылками, у третьей стояли бочки. Тусклый свет проникал из узких окон, забранных решетками.
– Выпьем за воскрешение из мертвых. – Борис Комягин налил в кружку и протянул ее Войновскому. Они чокнулись.
– За день рождения. Бей гадов! – суматошно выкрикивал Стайкин.
Три солдата в углу играли с лохматым серым пуделем – показывали ему куски колбасы, и пес делал стойку.
Шестаков подошел к стеллажам, выбрал бутылку с этикеткой поярче и направился к Маслюку, который сидел у стены на ящике.
– Ты зачем в меня стрелял? – спросил Шестаков, подсаживаясь на ящик.
– Кто же знал, что вы там сидите?
– На одно деление ниже – и аккурат в нас.
– У меня рука твердая. – Маслюк сжал кулак, вытянул руку, повертел ею, внимательно разглядывая кулак со всех сторон. – Я в немца стрелял.
– Выпьем, – сказал Шестаков, открывая бутылку.
Они по очереди отпили из бутылки. Шестаков крякнул.
– Коньяк, – сказал он и поставил бутылку в ногах.
– Коньяк? Давай сюда. Ефрейторам коньяк не положен. – Стайкин подскочил к Шестакову, схватил бутылку.
– Тише вы. Выгоню! – крикнул Комягин из угла, он сидел там с Войновским за низким дощатым столом.
– Фриц, ко мне, – говорил Стайкин, зажав бутылку под мышкой и подступая к собаке. Пес забился под стеллажи. Стайкин поставил бутылку, схватил автомат, принялся шарить стволом под полкой, выманивая собаку.
– Оставь оружие, – снова крикнул Комягин. – Оставь, тебе говорят.
– Собак убивать нельзя, – сказал Шестаков. – Потому как человек без собаки может, а собака без человека нет, не может.
Стайкин бросил автомат, подбежал вприпрыжку к Шестакову.
– Нельзя? – выкрикивал он, выпятив губы и выпучив глаза. – А людей убивать можно? Человека можно убивать, я тебя спрашиваю? Ответь мне по-человечески.
– Садись. Покурим, – Шестаков протянул Стайкину пачку сигарет.
– Осваиваешь? – Стайкин взял сигарету, присел на корточки.
Два солдата укладывали бутылки в мешок. Потом один взвалил мешок на плечи другому, и оба пошли к выходу. Дверь со стуком распахнулась, солдаты остановились. В блиндаж вошел Ельников. Он был без каски и без автомата. Солдаты с мешком молча отдали честь, прошли мимо Ельникова.
– Так, так, – сказал Ельников мрачно. – Пируете? В разгар боевых действий?
– Передышка, – сказал Войновский.
– Так, так. И солдаты с вами? – спросил Ельников. – А ну, наливай тогда и мне.
– Милости прошу к нашему шалашу, – Комягин сердито крикнул в угол: – Проскуров, подай покрепче!
Проскуров притащил бутылки, Комягин выбрал одну и принялся наливать в кружки, хмуро поглядывая на Ельникова.
– Мне не надо, – попросил Войновский.
– Пей, – сказал Комягин.
Они чокнулись и выпили. Потом Ельников налил из другой бутылки и залпом выпил вторую кружку.
– Собак убивать нельзя, – продолжал Шестаков в углу. – А человека, выходит, можно. Человека можно убивать, топить, жечь, душить, морозить – он все вытерпит.
Офицеры у окна раскрыли новую бутылку. Комягин поднял кружку:
– Выпьем за тех, кто остался на льду.
– За Клюева, – сказал Ельников. – Майор меня понимал. Нет его, и меня не стало. Принимай теперь мою роту. – Ельников кивнул Войновскому.
– Мне не надо, – сказал Войновский. – Я не могу пить. Не могу командовать.
– Пей. Приказываю. Я твой командир и за тебя отвечаю.
Глаза Комягина сделались вдруг испуганными.
На пороге стоял капитан Шмелев. С бесстрастным лицом он внимательно разглядывал подвал. Руки лежали на автомате. Позади – Обушенко, Джабаров.
– А-а, товарищ капитан. – Комягин натянуто заулыбался. – Милости прошу...
– Отставить. – Шмелев сделал шаг от порога, потом шаг в сторону, к стеллажам, где плотно стояли бутылки, – резкая автоматная очередь разорвала тишину подвала. Шмелев стрелял прямо с живота, ведя стволом вдоль полок. Он бил до тех пор, пока не кончился магазин. Стало тихо; только звенело, падая, битое стекло, лилось на пол вино да собака скулила под стеллажами.
– За что, комбат? – с отчаянным лицом Ельников встал из-за стола и двинулся к Шмелеву. – За что солдату погулять не даешь? Он завтра умрет, а сегодня он погулять хочет. За что не даешь?
– Не надо, Ваня, не надо, – торопливо говорил Обушенко, протянув руку к Ельникову.
– Мы от чистого сердца, товарищ капитан, – сказал Войновский, сидя у стола.
Шмелев резко повернулся, рот его был перекошен:
– Лейтенант Войновский – пять суток домашнего ареста. Лейтенант Ельников – вы разжалованы в рядовые. Снять погоны... – Шмелев не успел закончить: снаряд разорвался у самого входа в склад. Дверь закачалась, с потолка посыпались комья земли. И тотчас истошный голос снаружи: «Немцы!»
– В ружье! – закричал Обушенко.
Войновский вскочил, повернулся и, неловко споткнувшись, упал у входа. Шмелев перепрыгнул через него, выбежал в дверь, не оглянувшись.
Немцы шли по полю широкой цепью, за первой цепью на ходу выстраивалась вторая. Немцы двигались не спеша, ведя редкий огонь из автоматов. Издалека били пушки, снаряды падали в деревню.
– Огня не открывать. Передать по цепи. – Шмелев напряженно слушал, пойдет ли команда, и с облегчением услышал, как ее повторил один голос, второй, команда пошла вдоль плетня, перескочила в соседний сад и ушла, затихая в отдалении.
Обушенко подбежал, шлепнулся рядом. Шмелев посмотрел на него:
– Где минометы? Почему не слышно?
Обушенко исчез. Шмелев посмотрел по сторонам, выбирая место получше. Вдоль плетня бежал Стайкин. Увидел Шмелева, замахал рукой.
– Товарищ капитан, тут недалеко.
Они пробежали по саду, перепрыгнули через плетень, потом сад, еще плетень – и соскочили в окоп.
– Ну и окоп, – восхищенно сказал Шмелев, осматриваясь и притопывая ногами. – Царский окоп!
Окоп был самый настоящий, полного профиля. Земля под ногами чуть присыпана снегом, прочна как твердь. Стенки ровно поднимались вверх, в них сделаны ниши для гранат и патронов, бруствер приподнят, присыпан снегом, а по бокам две стрелковые ячейки для пулеметов, в плетне широкая дыра, чтобы стрелять, – действительно царский окоп, если царям когда-либо приходилось торчать в окопах.
– Гей, славяне! – выкрикнул Стайкин. Два солдата вылезли из ячейки и легли наверху в снег. Стайкин схватил горсть снега и принялся с остервенением тереть щеки. Джабаров отстегивал от пояса диски и гранаты, раскладывал свое добро по нишам. Шмелев прошел в ячейку, где стоял ручной пулемет. Окоп был глубокий, и приятно идти по нему, не пригибаясь. От земли исходит запах прелых листьев, старого лежалого картофеля и еще чего-то такого, что может быть только запахом земли. Шмелев привстал на колено и, приникнув к земле щекой, ощутил ее теплую сырость.
Солдат идет по земле, копает в ней щели, окопы, блиндажи. Идет солдат по земле, зарывается в землю, и земля иногда спасает его, иногда нет. Идет солдат по земле, пашет ее солдатской лопатой, орошает солдатской кровью. Выкопает свой последний окоп и останется в нем навсегда, но земля все равно укроет его и схоронит, потому что это земля, которая дала жизнь и вскормила, – только она вправе забрать ее. И тогда другие солдаты будут продолжать идти по земле, вскапывать ее и орошать своей кровью – вся родная русская земля от юга до севера изрыта окопами, потому что по земле прошла война и прошли солдаты.
Шмелев взялся за пулемет, поводил стволом вправо и влево, сколько позволяла дыра в плетне. Немцы шли по полю двойной цепью, всюду в прицеле были их серые фигуры.
Немцы двигались широкой дугой, охватывая Устриково с трех сторон, фланги продвинулись так далеко, что их уже не стало видно сквозь дыру.
Позади, в деревне, послышались звонкие шлепки, и вскоре на поле выросли яркие снежные кусты и донеслись звуки разрывов. Немцы залегли и продвигались вперед короткими перебежками. Огонь в цепи стал плотнее.
Кто-то тяжело прыгнул в окоп. Шмелев оглянулся. Перед ним стоял задыхающийся Ельников.
– Товарищ капитан, разрешите... рядом с вами...
Шмелев ничего не ответил и припал к пулемету.
Первая цепь немцев вышла из зоны минометного огня, мины стали рваться на линии второй цепи, а первая пошла в рост. Было видно, как немцы бросали в снег пустые магазины, потом побежали. Вот и крик донесся – чужие лица с разъяренными пустыми ртами, – Шмелев нажал спуск. Приклад часто застучал о плечо. Ствол идет влево, диск вращается ровными толчками. Джабаров ловко меняет его, диск снова вращается толчками, а над черной плоскостью диска снежное поле, там мышиные фигурки всплескивают руками, падают, бегут назад, сталкиваются со второй цепью. Он уже не принадлежит себе, сама земля вытолкнула его, с криком навалился на плетень, рядом тоже навалились, плетень рухнул, пробежали по нему, под ногами снег, рыхлый, вязкий, ногам сразу тяжело, а чужие лица набегают, – гранаты туда, пули туда, и вас, гадов, туда, и мать вашу туда-растуда и еще дальше. Снег взметнулся, закрыл лица, потом опал, впереди уже не лица, а спины, но все равно – по спинам, по ногам. Догнали спины, пробежали сквозь них, разорвали цепь – все перемешалось, закружилось на снегу. Оскаленный рот – бей! Хромовый сапог – бей! Толстый зад – бей! Бей и кричи, тогда легче бить.
Черный зрачок пистолета сверкнул в глаза. Кто-то больно ударил Шмелева в плечо, он увидел вспышку, что-то черное мелькнуло мимо, едва не задев. Раздался крик, Шмелев упал, впитывая лицом влажную прохладу снега. Он лежал и боялся посмотреть назад. Рядом упал Стайкин. Шмелев несмело взглянул на него.
– Кто?
– Ельников, – ответил Стайкин шепотом.
Шмелев поднял голову. Немцы толпой уходили в Борискино. Офицеры пытались там что-то сделать, размахивая пистолетами, но немцы все равно уходили.
Ельников лежал на снегу, раскинув руки. Пуля вошла в висок, лицо осталось нетронутым. Глаза были закрыты.
Стайкин подполз к Ельникову, достал медальон.
– Храни, – сказал Шмелев. – Я сам напишу домой.
– Разрешите доложить, товарищ капитан. Я не могу воевать в такой обстановке. – Стайкин отцепил флягу от пояса и потряс в воздухе. Фляга была пробита пулей, остатки вина тонкой струйкой пролились в снег.
– А жаль, – сказал Шмелев.
– Вы еще не знаете Эдуарда Стайкина, товарищ капитан. – Стайкин пошарил за пазухой, вытащил бутылку с яркой наклейкой.
Шмелев покосился на бутылку:
– Немецкий?
– Что вы, товарищ капитан. Я человек принципиальный и идейный. Французский коньяк. Камю. Доставлен по прямому проводу из «Метрополя».
Шмелев повертел бутылку в руках, покачал головой и стал пить. Потом посмотрел на Ельникова и передал бутылку Стайкину. Стайкин выпил и тоже посмотрел на Ельникова.
– Осмелюсь доложить, товарищ капитан. Как говорил мой дружок-парикмахер: «В этой войне – главное выжить». Храню его завет.
– Сюда бы его, – хмуро сказал Джабаров, перезаряжая магазин.
– Кого? Парикмахера? – удивился Стайкин. – Увы, Джабар, он не придет сюда, не побреет твою мужественную голову. Стукнуло в сорок втором под Москвой.
– Тогда пошли, – сказал Шмелев.
Они зашагали по полю, держа направление на церковь. На другой стороне поля немцы уходили в Борискино, вяло постреливая, чтобы показать, что они уходят не насовсем.
– Товарищ капитан, – Стайкин забежал вперед, – наблюдательный пункт на колокольне. Прикажите.
– Пожалуй, – сказал Шмелев.
– Там снайпер сидел. Вредил сильно. Мы с Маслюком из противотанкового в него били.
– Теперь уж не повредит, – заметил Джабаров.







