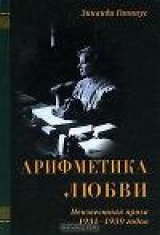
Текст книги "Арифметика любви"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц)
– Я прошу вас… Товарищ Сталин… уйдите! Я прошу вас уйти. Прошу вас уйти от…
Последние слова были покрыты пронзительным, захлебывающимся женским визгом; да были и ненужны: гораздо раньше, чем они, и даже второе «прошу вас» прозвучало, – Сталин ушел, вернее, убежал из комнаты.
– Я про… – крикнул обезумевший Леонид, не зная сам, к кому обращается, к визжащей ли в темном углу не видной женщине или к каким-то людям, с топотом врывающимся теперь в комнату. – Я про… – но не кончил слова: в спину что-то его толкнуло, потом тяжелое обрушилось на голову, и он стал падать вперед, теряя сознание.
Еще понял, что его берут за ноги, еще визг звенел в ушах; потом визг оборвался, и мягкая, ласковая чернота со всех сторон накрыла Леонида.
Некоторое время чернота была неподвижна, притворялась, что ее нет, так же, как нет и Леонида. Потом, неизвестно когда потом, шевельнулась, но не отступила, а только перестала греть тело Леонида, и это тело почувствовало такой холод, какого никогда не знало. В нем, в теле, до головы добежало вот только одно: «холод», и то гасло, то снова появлялось: «холод», но в этом одном помещалось, как будто, все, что есть и было когда-нибудь в мире последне-ужасного.
Чернота снова шевельнулась, снова облипла тело, но уже не грея, стала душить. И тело опять совсем исчезло.
Однако не навсегда. Появившись, оно в себе не чувствовало, а как будто – около себя, хотя болело совершенно, как свое, чуть не подпрыгивало карасем на сковородке от боли и от неизъяснимого к боли отвращения. Удивительнее всего, что около были и другие тела, другие люди, обыкновенные, знакомые, и они так же болели все, хотя сами-то этой боли не чувствовали, были даже веселы. Мишук, например, заливчато хохотал, не заботясь о боли тела; да, впрочем, тело его валялось, как тряпка, на диване, хохотала одна голова, и было чему: высоко прыгала, а разодетая миссис Кнодль ловила ее, играла, как мячиком. Надо бы крикнуть, предупредить: ведь это вовсе не Мишкина, а Карлушкина голова. Пожалуй, и не голова даже, а Карлушкины сапоги, грязные, с отставшим одним носком. Ганя, совсем закутанная, уже схватила сзади и оттягивает м-с Кнодль от сапогов; щекочет ее, должно быть, потому что м-с Кнодль захохотала сама и говорит по-русски с иностранным акцентом: ах, как смешно! Ах, как комично! На Ривьере туча москитов; но ни один и за пятьсот долларов не согласится никого укусить, это было бы насилие! Ганя вертит головой и подымает то одну ногу, то другую: иначе она ответить не может, у нее под платком нет лица, как у Сережи Рокотова, когда в него выстрелил красноармеец. Впрочем, он, красноармеец, тут же, на этой же самой парадной лестнице, и не убегает, да и зачем? У него все равно тоже нет лица. Рассказать нельзя, как болит это его лицо и вся голова (а он-то и не замечает!), но глупо просить извинения: слишком отвратительна эта боль. Так отвратительна, что необходимо хохотать: недаром же хохочет м-с Кнодль. Если только это м-с Кнодль: ведь уж не хохочет, а визжит: американки так не визжат. Надо поехать с ней в театр; там все выяснится; вот только бы добраться до конца коридора, а то здесь люди в Два ряда идут: нижний ряд по полу, а верхний по головам нижних, и очень больно ступают тяжелыми сапогами. Но коридор не кончался, тогда все принялись хохотать; и, сделавшись огромными зайцами, прыснули в разные стороны. Было противно, что, хотя они убегали, но тут же, хохоча, возвращались, и опять убегали, и опять возвращались, а теперь даже плыли за пароходом, который шел в Англию. На каждой острой волне, подскакивавшей к самому борту, сидело по такому громадному зайцу с одинаковыми мордами, и каждый хохотал, широко раскрывая рот. Рты виднелись очень ясно, пока не стал пароход медленно входить в туман. Хоть лондонский туман оказался не черный, а белый, мягкий и нежный, как вата. В него можно опуститься и, приятно покачиваясь, спать, спать…
И Леонид спал, спал, спал. А когда, наконец, проснулся, то, раскрыв глаза, встретился с глазами неизвестного человека. Человек сидел, не двигаясь, и смотрел на него. Смотрел-смотрел – и вдруг улыбнулся. Тут Леонид заметил, что у него не одни глаза, есть и лицо: худые щеки пошли складками. Около щек висели белесоватые, ровно подстриженные волосы.
– Теперь все на отличный манер пойдет, только будьте добры, – поспите еще немножко, – сказал человек и встал. Леонид успел еще заметить, что у человека одной ноги нет – деревяшка, но сейчас же покорно закрыл глаза и снова заснул.
Второе пробуждение было интереснее: т. е. Леониду было уже интересно, кто этот одноногий человек, который опять был около него, с каким-то темненьким горшочком, и тихо говорил: «Картошка жатая, ничего, поешьте, подкрепиться надо». Леонид стал глотать с ложки, показалось вкусно; запить потом дали чем-то горячим. Попробовал пошевелиться, – ничего; и головой ничего, хотя голова была обвязана.
Уж понимал, что день, что комната, где он лежит, крошечная, с одним низким окном, наполовину завешенным тряпкой.
– Да, все, значит, как следует, – произнес одноногий, улыбаясь. – Попозднее Риша еще чего принесет, сил надо набираться, поторапливаться.
– Я… здоров… – очень слабым, однако, голосом произнес Леонид. – А… Это что? Кто?
– А это мы все потом. Сразу не беспокоиться, так оно в конечном счете скорее будет. Организм же у вас, благодарение судьбе, хороший, крепкий.
И в самом деле: с каждым пробуждением Леонид чувствовал себя яснее и сильнее. Что ни давали есть, – казалось вкусным. Ничего еще не помнил, не вспоминал: легко вздремывал, легко просыпался. Никого, кроме одноногого, не видел; иногда, за стенкой, слышались, впрочем, будто голоса. Одноногий же был при нем почти постоянно.
– Вас как зовут? – спросил Леонид, наконец.
– Александром. Так и зовите, так уж я привык.
– Да вы кто же?
В комнате, и за стенкой, и во всем домике (это, очевидно, был маленький домик, хибарка деревянная какая-нибудь), и даже вокруг него, – была полная тишина. Точно на краю света стояла хибарка.
– Я из бывших священников, – сказал одноногий. – Но я – ничего, я в момент революции уж рясу скинул, сразу народ защищать пошел, вот даже ногу потерял. Это известно. А брат молодой, – тот ответственный работник. И к Главному Управлению имеет отношение. Я считаюсь инвалидом революции, при брате живущим. Мы не из духовного сословия, из крестьянского клана. Вот и живу при брате. Здесь.
– Здесь? – Леонид выпрямился, он уж сидел на постели, и какие-то обрывки мыслей закружились в памяти, – а я здесь… ваш арестант, что ли?
Александр заулыбался, собирая складки на щеках.
– Ну-ну, какой там арестант. Наоборот, можно сказать. Я б вам объяснил, да вы не поймете, конечно. Мы сначала думали, – вы иностранец, по-немецки бредили, а потом убедились, нет, русский. И не здешний, конечно. Трудно вам будет понять.
– У меня был паспорт. Ганс… Форст… – с трудом вспоминая, проговорил Леонид. – И еще было… – прибавил он, оглядывая себя и серую рубаху на себе. – Еще… а где же это?
Александр свистнул.
– Вот, кто ж может знать? Я, извиняюсь, голеньким вас воспринял, как в старорежимные времена ребенка от купели. Без преувеличения. Вам наши чудеса не будут понятны, но чтоб вам не беспокоиться, я вам главные пункты данного означу. Тем более, пора ближайшее будущее определить.
Ни одним словом не прервал Леонид рассказа, который услышал. Силился все понять, потом бросил, слушал, как дети слушают страшную сказку: нужно ли ее понимать? Достаточно верить.
Александр обстоятельно рассказал, что домик этот братнин, на выселках старых, не под самой Москвой, но и не так чтоб далеко. Место еще глухое, хотя недавно, за ложбинкой, завод теперь строится, рабочих много нагнали, кое-где, у постройки, селятся они; кто в землянках, кто в бараках, а кто и в здешних, ближних старых хибарках. Плохи °ни, да приспособились, далеко только на постройку ходить. Что ж, ребята молодые, комсомол, им ничего. Александру же веселее, что рядом в домишках они порой шумят, забавляются. Риша-то, комсомолка, все это время продукты таскала, надо же больному!
Далее услышал Леонид, что на другой стороне Александрова поселка – совсем глушь, где роща в овраг идет. Туда ночью из Москвы грузовики приезжают. В прежние годы часто, теперь, конечно, реже, и все в определенные дни. Разница тоже такая, что прежде по нескольку грузовиков приезжало, и долго возились, а теперь один приедет и сейчас почти назад. Оттого, пояснил Александр, что прежде живых возили, пока-то справятся, а нынче в Москве набьют, и, как набьют довольно, то сложат поленницей, брезентом накроют, и гайда. Мертвым, да голым, много ль места нужно, одним грузовиком и справляются. А под овражиной места уж нарытые; неглубоко и кладут, разве снегу больше, ну тогда повозятся.
У него же, Александра, с прежних годов остался обычай: как отъедут, – сковылять туда, поглядеть, что такое. Часто ведь – еще когда живых возили, в спешке не добивали; как же не посмотреть? Не годится. Раскопаешь немножко, а он и застонал. Александр один, конечно, не хаживал; да и подручники и тогда были, а уж теперь-то… ну, да про это после. Так вот, с новым положением, трудно живых ожидать, разве какого наспех, перед самой экскурсией, приготовят, а другие и по неделе ждут там… «Вы второй у меня только за все это время покойник», – сказал Александр, улыбаясь с простотой, с какой и весь свой рассказ вел.
Нет живых, – ну, что ж, все-таки потрудиться, уложить кого поприличнее, землю сравнять… А то и молитву прочесть, по старой памяти, бывши-то священником. Ничего. Уж такой обычай взят, что ж отходить?
И приятельки его любят это. Их много у него теперь. «Как станет известно, что нынче в ночь будут, – брат ли даст знать, или другой, – так и соберемся, и ждем. Ночью грузовик всегда слышно. Если брат дома, не на службе, и он идет». «Так-то мы и вас добыли, голенького, – закончил Александр. – Совсем поверху лежали. Я бы не догадался, приятелька одна, – пари, говорит, держу, батя, – живой!».
Леонид молча смотрел на «бывшего».
– Какие же «приятельки»? – спросил, наконец, хрипло. – Откуда? Не понимаю.
– Не понять, конечно, не зная-то. Вам скажут: комсомол, у нас уже идея готова. Есть, не спорю, всего, уж мы ко всему привыкли. Однако приятельство у меня главное, – все в комсомоле, ни одного так нет. Я знаю, про что знаю, а другие, хоть в телескоп гляди, – никогда не увидят. Их и по дыханью, кому не нужно, не откроет. Мы здесь такие стали, что вам не вообразится никогда. Ну, конечно, и брат тоже, и я сам, – каменная стена.
– И брат?
– А что ж? И он из комсомола. А теперь ответственный, заявил себя. Большую волю имеет. Теперь оно и с руки. Я сам так учил его. Памятливый. Я вот говорю с вами, я уж старый человек, жалею, да и отправляться вам надо, а брат не то, что вам, – дереву в поле слова не скажет, какого не следует, не в линии. Понимаете?
– Нет еще, – признался Леонид. – Ведь кругом… Ведь разные же. Лежит у вас больной. Неужели не знают?
– Знают, знают, и в те разы знали, и про вас. Вы же и есть брат. И те – брат. Да вы не беспокойтесь, так уж устроено у нас. Брат сейчас на службе объявляет заболеванье и – домой, будто. А сам как камень в воду. Я же, понятно, за больным, за ним будто в этой каморке гляжу. Доктора не зовем, не стоит. Один, давно уж, не выжил, скончался, – ну, схоронили мы его в овраге, с молитвой, ночью. А брат будто выздоровел. Вот какие у нас чудеса.
Леонид в эту ночь думал, что опять разболеется, – так шумело в голове. Рана, хоть зажила, но еще чувствовалась. Она была не так серьезна, впрочем; огнестрельная, на плече, и совсем оказалась пустой, хотя дольше мучила. Теперь зажила и она. Но Леонид не думал, в сущности, ни о ранах своих, ни о себе. Себя он как-то бесповоротно отдал, поручил «отцу» Александру (так выговорилось мысленно: «отцу»). Что он скажет, то с Леонидом и будет, то он и сделает. А скажет непременно. Он понимает. А Леонид – еще ничего. Или почти ничего.
Когда Александр был дома, и один, Леониду позволялось вставать. Даже в соседнюю горницу раз, в сумерки, вышел он. А то Александр скажет: «Вы полежите мало, к стенке отвернувшись, будто спите. Мне отлучиться необходимо. А мои ребята на крылечке, поберегут». И Леонид покорно ложился.
Иной раз слышал и голоса невдалеке, смех; но лишь однажды приоткрылась дверь, и Леонид увидел, сквозь ресницы, заглянувшую к нему девушку в белом платочке, ее круглое, свежее лицо, карие глаза. Кто-то позвал тихонько: «Ариша! Риша!», и дверь закрылась.
– Вот, значит, выяснил я делишки, – молвил Александр, вернувшись как-то к вечеру. – Завтра и провожу вас, и отправитесь.
– Завтра? – оторопело сказал Леонид. – Завтра? Я понимаю, вам нельзя, надо уходить. Только я вам не рассказал еще про себя…
– А это и ни к чему. Никакой нужды нам нет про ваши дела знать. Нам и своих довольно. Мы, что до вас касающе, все исполним, и про это вы меня послушайте, а там уж линия ваша.
– Куда же вы меня отправите?
– Откуда приехали, туда и направим. Только инструкции мои внимательно выслушайте, и чтобы исполнять верно, – труда большого нет. Скажу, в целом, так: человек один в командировку едет, брат же и посылает, а вы, значит, при нем. Куда он ни подастся – и вы с ним.
Разговаривать вам не о чем, да вы обвяжитесь тряпицей, будто зубы нестерпимо болят, вот и всего лучше. А человечек этот, в свое время, укажет, что понадобится. Может, еще придется вам с ним поболтаться, поездить, это ничего. Спешить хуже бывает…
– Да я совсем готов… на все, – начал ошеломленный Леонид. – Я бы и один… А вы за границу опять хотите меня переправить?
– Непременнейшим образом. Нам свое доделать, как определено, а дальнейшее – уж ваш ответ, мы в курс дела и не вступаем.
– Да кто это «мы»? – взволнованно проговорил Леонид. – Кто вы? Неужели не скажете? Я не понимаю. Кто?
Александр заулыбался.
– Грешники мы, грешники, скажу по-старорежимному, раз уж вам известна бывшая моя духовная принадлежность. И не зарекаемся, еще много погрешим, до срока-то. А вы не беспокойте себя нами, мы ничего.
– Вы… из земли меня откопали…
– Ничего, ничего. А другого, случится, и зароем, ничего. Разное бывает. Главное же, послушайте теперь, сообщу вам кое-что подетальнее, насчет командировки-то, чтоб ошибочки не вышло.
Придвинулся к Леониду и зашептал ему на ухо «инструкции», для ясности даже пальцы один за другим загибая.
– Одежда, – шептал он, – сапоги, куртка, фуражка, ну, там еще что надо, это все брат доставит, соответственное. А человечек – к сумеркам, тоже свое принесет, какое необходимо. На станцию либо машина будет, а то и пешком дойдете. Здоровье ничего уж, а погода теплая.
Теплая? Леонид вспомнил вдруг, что не спросил ни разу и не знает ни числа, ни месяца, ни дня… Но зачем знать?
Бывают в Париже, поздней осенью, дни прелестнее весенних. Свежесть и чистота падают с небес на город, чистые лучи солнца зажигают нежданные огни в движущейся толпе; и она, переливчатая, и тяжелый город, будто делаются тоже чистыми, нежно-веселыми.
В такой день Леонид стоял на самом, кажется, шумном и блестящем парижском перекрестке – на углу бульвара, около Оперы. Он собирался перейти бульвар, чтобы завернуть на широкую, прямую, голубовато-дымчатую авеню, ожидая, чтобы замерли в ряд тупорылые машины, бледно поблескивая, и полился мимо человеческий ручей, – задумался и так стоял, рассеянно и тепло улыбаясь. Солнцу ли улыбался, людям, или тому, что от людей и солнца в душе подымалось, – не мог бы и сам сказать.
Кто-то произнес тихо: «Здравствуйте». Люди кругом теснили его, проходили, разноцветные, мелькали пятна. Леонид остановил взгляд на белом пятне, – узнал, – не удивился.
– Здравствуйте, – ответил просто. – Так и думал, что еще увижу вас. Рад спасибо сказать.
– И я рада, – проговорила она, глядя на него материнско-добрыми карими глазами. – Вы изменились. Очень.
Леонид и в самом деле был другой. Уже ничего ребяческого, наивно-застылого не было в нем.
– Вырос? – улыбнулся он. – Нет, куда уж расти, мы люди маленькие, хорошо, коль до самих себя дорастем, себя найдем!., и еще что-нибудь.
– Я рада, – повторила она. – Я так и думала, что вы… найдете.
– А вы почему не сказали мне, что надо все потерять сначала, все, до себя, – чтобы найти?
– А вы разве поверили бы, если б я сказала?
Они пересекли бульвар мимо неподвижного ряда уставившихся на них круглыми мордами автомобилей. Медленно шли теперь по другой стороне, с толпой, прямо к солнцу.
– Я не много потерял, потому что не много имел, – заговорил Леонид, спеша, как будто свиданье их не должно было длиться. – Я думал, что имею землю свою, и вправду какую-то свою, а были это все кусочки, обрывочки негодные.
– Подождите, – прервала она, ласково глядя на него из-под косынки. – Надо проще. А то вы и меня, и себя спутаете: вы дома были, знаю. Какие потери там ждут – и то знаю.
– Да. Я и потерял… что думал иметь. А как потерял, – так и нашел, другое больше. Чтобы попросту, и главное, – нашел я грешников праведных, и самого себя в них. Праведность их, – что злу и злому не покорились, не покорятся никогда, обиженных защищают, страха за себя не зная; и других так учат. А грехи, – о чистоте своей не заботясь, ничем не брезгуют, ни обманом, ни хитростью, ни больше: обидчиков не жалеют, когда то нужно, чтоб не предать им кровь невинную; и так других научают. По всей земле есть такие: оттого, – от них, – и вся земля мне – моя. Только в России сейчас праведность светлее, грехи тяжелее; все разделю их, чтобы заодно с грешными моими праведниками быть. И кто сейчас пойдет в ряду с ними, против обидчиков, – я с тем. Кто ни пойдет, как ни пойдет – я с тем. Да что спрашиваете? И не побоялись послать меня на все потери, хоть на потерю жизни. И за это вам спасибо.
Он говорил горячо, но не громко, и голос его сливался с шумом города, с говором и шорохом толпы.
– Да благословит вас Бог, – словно, из этой толпы, внятно, прошелестело около него. Леонид огляделся. Люди текли кругом, теснили его, мелькали, проплывали, – разноцветные, и темные, и яркие. Но белого пятна не было. Она, женщина в белой косынке с материнскими глазами, смешалась с ней. Леонид ее не искал. Пошел своей дорогой, вперед, да где солнца уж не было, – только свежела нежная небесная чистота и улыбалась земле.
ЯПОНОЧКА
I
– Он сегодня вернется, правда? – сказала высокая тоненькая девушка, почти девочка, с такими светлыми волосами, что издали они казались седыми.
– Папа? – отозвалась Анна Ильинишна, сидевшая у окна просторной гостиной за какими-то бумагами. – Говорил, сегодня. Да вот, не он ли?
Пышноволосая Ли-ди не успела броситься в переднюю; Павел Ильич был уже на пороге. Она тотчас повисла ему на шею.
– Подумаешь, недолго расставались, – усмехнулась Анна Ильинишна, полная пожилая женщина, подходя к брату. – Как ты на три дня в Бельгию, – не дождется, точно ты опять пропадешь.
Ли-ди и за обедом не спускала глаз с отца, оживленно что-то ему рассказывала. Думала она по-французски; но дома было заведено говорить по-русски, а с отцом ей и самой по-русски было почему-то говорить приятнее. Она не похожа на отца, как не бывает похож детский портрет на человека в зрелые годы: Павел Ильич немолод, широк и плотен. Но такие же правильные, красивые черты лица у обоих; такие же, чуть разве темнее, волосы и у него; такие же серо-синие глаза; и те же широкие, пушистые полоски бровей: от них в обоих лицах было что-то упрямое, страстное и робкое.
Павел Ильич все поглядывал на четвертый прибор. Наконец, спросил:
– А где же другая… моя дочка?
– Всегда опаздывает. Придет, – вскользь ответила тетка.
После кофе Павел Ильич пошел к себе. Частые деловые поездки в Бельгию (он был видный инженер) стали утомлять его, особенно в последнее время. Но и домой возвращался он теперь в каком-то смутно-тревожном состоянии.
Домой! Этот «дом» был у него совсем недавно. Для семьи своей Павел Ильич Корвин с 17-го года «пропал без вести». Для Корвина с того же года пропала его семья. Он не знал, что старик-отец умер в московской тюрьме, а молодая жена, еще раньше, – в нетопленой больнице. Но не знал он также, что старшая его сестра, энергичная женщина-врач, давно сумела выбраться с двумя маленькими девочками за границу. Поисками явно погибшего брата ей некогда было заниматься: сообразив положение, она тотчас принялась переучивать свою медицину, добывать французский диплом. Трудно пришлось вначале: подготовка к экзаменам, средств почти никаких, дети на руках… Но и тут вывернулась: отдала пока девочек в какой-то полуприют-полупансион к «Petites Soeurs» [24]. а сама бесстрашно повела студенческую жизнь.
Все это было далеко позади. И в тот год, когда Анне Ильинишне попалось на глаза газетное сообщение о работах бельгийского инженера Paul Korvine, – она уже имела место при французской клинике, уютную квартирку, а девочки готовились держать bachot [25].
Так нашел Павел Ильич свой «дом». Службу в Брюсселе оставить он не мог; устроился так, чтоб туда наезжать, а жить – «дома». Взяли большую квартиру в тенистом Auteuil, – Корвин очень хорошо зарабатывал, скромничать нужды не было. И потекла мирная жизнь.
Ничто в ней как будто не менялось. Но есть перемены, – и это самые коварные и нежданные, – которых долго не замечаешь. Заметишь вдруг, когда все уже совершилось. Такую перемену открыл в себе, совсем недавно, Павел Ильич.
Войдя в кабинет, Корвин зажег зеленую над столом лампу; сел на широкий кожаный диван; задумался.
В дверь тихонько постучали. Она отворилась, но кто вошел, – нельзя было заметить в зеленом полусумраке; как будто – никто не вошел. Корвин вскочил с дивана; и маленькое существо, стоящее рядом с этим крупным, высоким человеком, казалось еще меньше.
– Я вас потревожила, па? Я хотела сказать вам bonsoir [26].
– Нет, что ты! – Корвин взял ее за руки, усадил подле. – Ну, как? Дай поглядеть на себя, – он протянул руку и поднял немного лампу над столом, – все учишься? Не заучилась еще?
Маленькое существо улыбалось. Свет падал теперь на эту улыбку, такую неизменную, такую неподвижную, словно это была сама форма крошечного розового рта. Черные как матовый уголь волосы, в кружок подстриженные, совершенно прямые, спускались до бровей.
Корвин заглянул ей в глаза. Они, может быть, смотрели на него, – может быть, нет. В узких прорезах век глаза ее были как будто без зрачков: влажная, сплошная чернота.
– Вы, значит, хорошо? – сказала Тэ-ки, улыбаясь. – Значит, теперь пойду.
Говорила по-русски без акцента, как все, начавшие в детстве с русского языка; но несвободно, – гораздо более несвободно, чем Ли-ди, – и без выражения. Впрочем, у нее и голос был такой: ровный, ровно-веселый.
– Да куда, посиди, – удерживал Корвин, не выпуская ее рук. – Расскажи, что делала? Все лекции?
– Все лекции. Надо много работать. Это ничего, хорошо.
Она, было, села, но опять встала. Глядя близко на ее лицо, свежее, ровно смуглое, без тени румянца, с прелестной линией овала, Корвин думал, что оно похоже на только что снесенное яичко; бывают такие: маленькие, почти прозрачные, и не белые, а темноватые, тепло-коричневые.
– Ну, ступай, непоседа, – сказал он, наконец. – Беги. Маленькая девушка неслышно выскользнула из комнаты. Всегда ходила неслышно. И легко, будто танцовала.
II
В самый год войны, старик Корвин, известный московский промышленник, возвратясь из обычного своего, делового, путешествия в Сибирь и на далекий восток, – привез молодой невестке подарок – вторую дочку. «Беленькая уж есть, вот тебе черненькая». Сопровождавшие хозяина управитель и двое служащих много что-то рассказывали, как попался им ребенок, и как они его везли. Старик говорил только, что «сироточка», и «мало не пропала»; что «японочка», а потому надо покрестить. Девочку окрестили, и «сестренки» стали жить в одной детской.
Павел Ильич помнит еще, в Москве (когда в последний раз приезжал туда с фронта) двух смешных крошек в одинаковых платьицах, но уже совсем не похожих друг на дружку. Одна себя называла Ли-ли-ди… другая – Тэ-тэ-ки.
А затем – провал, до дня, когда в парижской квартире встретил он высокую светловолосую Ли-ди рядом с этой странной черной куколкой – Тэ-ки, – и розовогубой ее улыбкой.
Для Павла Ильича и оне, и сестра были, прежде всего, семья, чудесно обретенный «дом». Так он всех их вместе сразу и принял; жил в тихом празднике. Лишь понемногу стал замечать, какие «дочки» у него, – разные; как не похожа порывистая Ли-ди на ровно-ласковую черненькую куколку, – другую. Росли вместе, а не дружны, хотя никогда не ссорятся. Ли-ди прекрасно училась, но, кончив, – не захотела в университет: упрямо решила, что пойдет на специальные курсы, будет infirmiere diplomee [27]. Тэ-ки – прилежная студентка, ходит в Сорбонну.
«Ли-ди и маленькая была капризна, с фантазиями, – рассказывает брату Анна Ильинишна; – из пансиона я ее брала, от этих «Petites Soeurs» – рыдала; и, вообрази, до сих пор их навещает. Ну, другая, – та всегда ровная, везде ей хорошо, и все хороши. Добрая; только какая-то она… непривязчивая».
Корвин все вглядывался в «другую», с каждым днем внимательнее; и – странно: живет рядом, о жизни ее и о ней самой знает Павел Ильич так же, как о Ли-ди и сестре; а кажется ему порой – ничего не знает. Все в ней, – и темное личико с маленьким, широким носом, с бес-светными глазами, и каждое движение тела, и ровная ласковость, – все свое, ни на чье не похожее; непонятное, неожиданное…
Вот уже следит Павел Ильич, как она встанет, сядет, рассмеется… Следит, сам не зная, для чего; не понимая, почему эта чужая девочка так его тревожит и что с ним делается.
Понял не скоро. Но понял.
Зимним утром, проснувшись (не дома, в брюссельской своей комнате), – он вдруг почувствовал, что маленькое существо это, все целиком, с узкими, непроницаемыми глазами и легким телом, – до сладкой тоски влечет его к себе.
Было чего испугаться. За годы скитаний Корвин помнит всякие встречи; и сложности иной раз выходили (он не любил их, впрочем). Но теперь, это… совсем что-то другое.
Закрыл глаза – и снова перед ним смешное круглое личико, непонятная улыбка…
«Посмотрим, посмотрим…» – шептал, вскочив, быстро одеваясь. Сразу все представил, что разумно сказал бы ему другой, или даже он сам себе. Ну, конечно, еще бы… Только ничего ведь нет? А есть – не будет. Не будет.
Скользнула быстрая мысль: «Зачем? Ведь я могу… жениться на ней?». Но и тут оборвал себя. Лучше вовсе ни о чем не думать.
С этой-то поры и стали ему тяжки возвращения домой. Надо казаться прежним, быть совсем таким, как всегда.
Таким не был. Казаться уставал. Отдых один – ни о чем не думать.
III
Первый летний дождь прошумел. Солнце, но душно; опять, верно, налетит ливень. Пронзительно пахнет свежей листвой. С густых деревьев, на тихой улице, падают сверкающие капли.
Павел Ильич с утра дома не был. Теперь издалека шел пешком; думал, хорошо, после дождя, пройтись; но влажная духота истомила.
Открыл дверь своим ключом. В квартире тихо. Он заглянул в столовую. Там длинное окно, прямо в зелень деревьев, распахнуто настежь. У решетки, спиной к нему, стояла маленькая Тэ-ки.
Обернулась на шаги. Так быстро спрыгнула с порога, что легкое, темно-красное платьице вспыхнуло на солнце; танцующим шагом подошла.
– Никого дома, па! – сказала, улыбаясь. – Только я.
Корвин тяжеловато опустился на первый стул. Провел рукой по голове, по светлому бобрику волос.
– Да, – проговорил он. – Да. Так никого? А вот ты… Протянул руку и, охватив всю ее, маленькую, посадил к себе на колени.
– Вот так – ты – тоже сидела у меня – давно… – лепетал он, теряя понимание слов. Под широкой ладонью он чувствовал холодноватую свежесть ее обнаженной до плеча руки. Розовая улыбка была так нестерпимо близка, что Корвин не помнил, когда поцеловал ее в первый раз. Вырываясь, полуприходя в себя, шептал: «Деточка, маленькая моя… большая… хочешь, я тебе все… всю жизнь… Я всю, не бойся…».
Она и не думала бояться. С легкой неподвижностью лежала у него на руках. Так же глядели – не глядели на него глаза без зрачков, так же улыбались не покрасневшие от поцелуев губы. Это неудивление и веселое спокойствие на секунду отрезвили Корвина. Но Тэ-ки, высвободив нежные, смуглые руки, обняла его за шею и, смешным движением играющего зверька, прильнула щекой к его лицу.
За окном опять хлынул теплый ливень, и весело шумела под ним густая листва дерев.
IV
– Не понимаю и не понимаю, – сердито говорила Анна Ильи-нишна. – Зачем ей понадобилось жить отдельно?
Ни Ли-ди, ни Павел Ильич (они втроем сидели за вечерним чаем) не ответили. Она продолжала:
– В самом деле, ну какой смысл? Стесняли ее здесь, что ли? Да, наконец, она бедная девушка, а теперь хоть и по-студенчески жить, не малое нужно содержание…
Павел Ильич, откашливаясь, возразил, негромко:
– Что это, Аня, право… Это уж напрасно. Стоит ли говорить. Средства у нас есть. А она… ты обеих вырастила.
Анна Ильинишна пожала плечами, сдерживаясь. В ней кипела и досада, и смутное огорчение.
– Тетя, ну что ж, – ласково сказала ей Ли-ди. – Она всегда… она и здесь отдельно жила.
– Да… это правда. Я только не понимаю. И какую она там комнату нашла? Мы должны же знать…
– Ах, не беспокойся, все устроится! – перебил ее вдруг Корвин, встал и вышел из комнаты. Ли-ди проводила его испуганным взглядом.
Дело в том, что у Корвина уже несколько месяцев, как имелась на левом берегу, квартирка, нанятая для встреч с Тэ-ки. Туда-то и решено было, что Тэ-ки переедет совсем. Он ли решил, она ли, – неизвестно: у них все решалось, делалось неизвестно кем. Павел Ильич не беспокоился: она весела, довольна, – значит, все идет как надо. Если спрашивал о чем-нибудь, – редко отвечала; глядит, улыбается; и он, глядя на ее улыбку, забывал вопрос.
Однажды, – в самом еще начале, – ответила. Он сказал: «Деточка, мы женимся. Я на тебе женюсь». Вдруг приподнялась, – она лежала у него на руках, – и так замотала черной головкой, что легкие волосы запрыгали около щек. Он испугался: «Нет? Не хочешь? Почему?». Она опять покачала головой, улыбнулась… и в тот вечер он больше не спрашивал, почему она не хочет, чтобы они женились.
Любила подарки. Заметив это, Корвин уже не знал удержу. Только бы увидеть, как она, в ярком капотике, выбежит навстречу и, на цыпочках, тянется обнять его, поблагодарить. Страстно любила цветы. Павел Ильич, с подарками, привозил ей и цветы. Но она и сама еще покупала, хотя не часто: была бережлива. Корвин не жалел для нее ничего.
А со всем тем – оставалась она и обычной парижской студенткой. Посещала лекции, занималась. С Корвиным о сорбоннских делах никогда, впрочем, не говорила; и он не заводил речи, боялся, видел, что она не любит. По правде сказать, невнятная какая-то боязнь перед ней никогда его не покидала; откуда? Но он ничего не знал; он и не спрашивал себя, что влечет его к странному маленькому существу: любовь? страсть? Или сладкая, пугающая чуждость, неизъяснимая непонятность?








