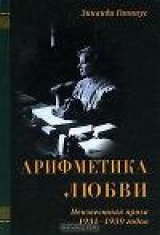
Текст книги "Арифметика любви"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц)
В сумраке своей затененной комнаты я и лежал на кушетке, ничего не делая. Но вот легкий стук в припертую ставню. В дверь с балкона проскользнула Клара.
– Вы отдыхали? Я вам помешала? О, простите! Но я пришла… быть может, вы подниметесь к нам около шести, к чаю? Маленькая баронесса и sa теге, миссис Миддл, придут с прощальным визитом. Оне завтра уезжают.
– Уезжают?
– Да, в Рим, кажется. Она очень приятна, Элла, неправда ли? И ее шёге adoptive тоже мила.
– Так это mere adoptive?
– Ну да. Я думала, вы знаете. Приемная мать. Значит, мы их ждем?
Да?
Я подвинул ей кресло, но она не садилась. Говорила белым голосом, точно думая о другом. Мои глаза привыкли к полутьме, я видел лицо Клары очень ясно и видел его не таким, как раньше. Может быть, от вчерашнего воспоминания смотрел иначе. Мне было стеснительно, не то больно, не то стыдно, и хотелось, чтоб она скорее ушла. Поспешно обещал быть к шести и думал, что этим кончится. Но тут-то и началось.
Клара двинулась, было, к двери, потом остановилась. Обернулась.
– К Monsieur von Hallen вы пойдете позднее вечером? Да? Скажите ему, что я его люблю… Он знает. Он все знает. Но повторите ему и вы, его лучший друг, que je l'aime. Je l'aime tant…
На мгновенье я онемел. Но тотчас же пришел в себя. Лучшее, что тут нужно, – быть хладнокровным.
– Зачем же говорить ему это, милая madame Клара? Тем более, если ему известно, зачем буду повторять это я? Бесцельно, жестоко… И ведь безнадежно? Если б вы знали Франца…
– Я знаю, знаю, – спокойно перебила Клара и улыбнулась. – Я знаю, что он не любит меня, не полюбит и не может полюбить, это безнадежно. Но почему вы думаете, что я хочу от него любви?
– А чего же вы хотите? – спросил я глупо, теряя, если не хладнокровие, то всякое понимание.
– Чего я хочу – он вам скажет сам. Да, наверно, скажет. И тогда, если он спросит вас о чем-нибудь, и вы будете отвечать, помните, молю вас… Помните о моей любви. Я так люблю!
Посмотрел на нее, хоть и ничего толком не понимая, с уважением почти: ведь действительно любит, какая она там ни на есть. Любовь-то, она у всякого одна. Клара прямо на глазах похорошела.
Всю путаницу я, однако, решил сегодня же с Францем распутать. И относительно Клары, да и себя. Что, в самом деле! Приехал, хожу, как дурак, ведь не для того же Франц меня вызвал, чтобы я с его мальчишками заигрывал, тарантеллу смотрел и был конфидентом влюбленных в него дам? А через неделю я уеду. Я предполагал, по дороге, еще в Риме и кое-где вообще в Италии остановиться.
Рим… Господи, а Элла? Странно, я как будто все время о ней забываю, но, не помня, все время помню. Очень странно. Ну, завтра уедет, хоть с этим кончено.
Я даже вслух сказал: «хоть с этим». Однако радости, что «кончено», – ни малейшей. И врать перед собой не буду.
Гости уже сидели за нарядным чайным столом, когда я пришел наверх.
Клара (что она за милая, умелая хозяйка!) по-немецки певуче, вела любезный французский разговор. Представила меня… так вот она, mere adoptive! Большая, совсем не старая, белая, жирная, рыжая. Не ярко, а светло-рыжая: англичанки часто бывают такие, прославленный пепельный цвет их волос почти не встречается. Эти желто-рыжие волосы у миссис Миддл взбиты на лбу кудельками, а обширная, лилово-шелковая грудь увешана какими-то цепочками, колечками и медальонами.
Я тотчас приметил, что м-с Миддл очень слабо говорит по-французски и почти ничего не понимает. Но, нисколько этим не смущаясь, она пыталась говорить все время и даже перебила Клару несколько раз. Так была велика, что за ней, да еще за пышным букетом белых цветов, я, в первую минуту, даже не увидал Эллу. Только уж потом заметил ее маленькую фигурку, в том же сером английском костюме, слегка сутулившуюся.
Я плохо знаю по-английски, да если б и хорошо, вряд ли удалось бы мне перевести разговор на родной язык м-с Миддл: слишком нравилось ей говорить по-французски, или, может быть, считала она, что именно здесь, именно сейчас, ей хорошо и следует говорить по-французски. Этой уверенностью и своей величиной она положительно доминировала за столом.
О чем был разговор – не знаю, я не понимал и мало старался понимать. Прислушивался, когда м-с Миддл упоминала имя Эллы (а упоминала она его часто), однако и тут не все разобрал. Нет злостнее английского акцента: он всякий язык может сделать абсолютно непонятным.
К счастью, Клара что-то ловила и пыталась повторять фразы м-с Миддл. То же принялась делать и Элла, – когда речь шла не о ней. Так я узнал, что оне, действительно, едут теперь в Рим, а сколько останутся там – неизвестно, у м-с Миддл в Англии дела, путешествуют же оне Давно… Потом всякие «beautes» их путешествия, потом опять что-то о музыкальной карьере и лондонских успехах Эллы, потом о старинной вазе («1а» vase), которую м-с Миддл купила в Бестре…
Элла усердно помогала «mother», как она звала м-с Миддл. Эллу я, в первое свиданье, принял за девочку очень застенчивую. Но уже на вечере Франца заметил, что она не робка и довольно самостоятельна.
Хорошо, но почему я стараюсь не смотреть на Эллу? Скользить глазами мимо, не останавливать взора на ее лице? Чего я боюсь?
Не жирной англичанки, во всяком случае. Что такое эта «теге», да еЩе adoptive, и почему, – я не понимаю. Но какое мне дело, когда я почти не верю, что она существует? Ни пространность ее колыхающихся телес, ни уверенный звук горлового голоса, наполняющего комнату, еще не доказательства ее бытия…
– Я тоже скоро покидаю Бестру. И тоже в Рим еду.
Сказал это почти неожиданно для себя и в первый раз посмотрел на Эллу.
Если я воображал, что увижу опять что-нибудь «такое» (кто меня знает, – ждал, вероятно), – ошибся. Глаза англичаночки (хотя она не англичанка, уверен) были опущены, и острое личико спокойно.
Непонятное мне самому заявление, что я тоже еду в Рим, пропало даром. Я уж обрадовался, было, так как ничто меня больше своих не-понятностей-глупостей не раздражает. Но Клерхен сказала, вероятно, из машинальной любезности:
– Ах, так вы еще встретитесь в Риме, быть может! Вы где остановитесь, cher Monsieur?
Я хотел сказать «не знаю», но прежде, чем «не знаю» выговорилось – назвал маленький отель над Monte Pinchio, где всегда живу, когда попадаю в Рим.
Все это выскользнуло быстро, миссис Миддл ничего не поняла, а Клара уже, слышу, просит Эллу что-нибудь сыграть (пианино тут же, в углу).
– Я ведь не пианистка, chere Madame, – отозвалась Элла, улыбнулась, точно извиняясь, но встала.
– Да, да, она – композитор! Но иногда мы забавляемся вместе, и как у нас выходит! Помните, Элла, наше «Са ira! Са ira!» [57]. Сыграйте это, хотите?
Миссис Миддл тоже встала, – я ужаснулся ее величине, – но потом почему-то села, ожидая, вероятно, первых аккордов.
Конечно, Элла не пианистка. Что за пианистка с такими руками, детски крошечными, хотя и крепкими, мальчишескими, с чуть узловатыми пальчиками?
Видел только наклоненный профиль и над ним, острым, коричневый бобрик волос (она сняла шляпу).
Я уж говорил, у меня особенно, ни на чье не похожее, отношение к музыке; и здесь, опять, не буду его касаться. Скажу только, что все (кроме Франца) твердо знали, что я ее и не люблю, и не понимаю. Они были вполне правы, эти все: да, не любил, как они, не понимал в ней ничего, – как понимали многие, тонко и знающе. Я был невежда. Никогда не ходил ни в какие концерты, не выносил их. И особенно не любил рояля.
Но ничего как будто удивительного не случилось для меня, едва заиграла маленькая незнакомка. Только пропала комната Флориолы, Клара, рыжая толстая дама, солнечный свет. Я был у Франца, я опять стоял рядом с девочкой в белом платье, на самой черте мрака. Оттуда, из черной пустоты, и шли странные звуки, которые я слышал.
Когда они прекратились, я еще полминуты оставался в оцепенении. Кажется, и Клара: она молчала.
Отлично понимал, с первой ноты понял, что была это – вчерашняя серенада. Но откуда идет и где сила волшебства, заставившая меня не вспомнить, а снова, всеми пятью чувствами, перечувствовать бывшее, как настоящее? Талант худенькой девочки, что ли, воспроизводившей прошлое до его воскресенья? И что это за талант? Или это во мне, в меня, в темную глубину какую-то попали эти звуки, именно так, а не иначе посланные, и волшебство совершилось – во мне?
Вот и Клара молчит; а если и в ней что-то ответило, – о, по-другому совсем, – на те же звуки?
Полминуты, не больше, длилось наше молчание. Даже меньше, пожалуй. Нас троих, – м-с Миддл его и не заметила. Через полминуты, когда Элла тихо поднялась из-за пианино, «mother» воскликнула:
– Оуа, вы не хотите Са ira?
Элла покачала головой. За мамашей поднялись и мы.
– Нам пора, mother, вы не думаете? – сказала Элла по-английски. – Нам нужно еще зайти к miss Toll. Вы устанете…
Клара уже пела какие-то любезности, превратившись в хозяйку дома. Я тоже что-то говорил. А, может быть, и нет. Помню только пожатие маленькой холодной ручки и мое спокойствие. Волшебство? Да, такие вещи бывают на свете. Мало ли что бывает!
XII
Продолжение денька
Уж темно, а какая жара. Даже здесь, у самого-самого моря, на гальках, – ни ветерка.
Оба лежим мы под скалами, что-то шуршит около нас, на небе пологий острый месяц, углами кверху, точно улыбается.
– Ну да, – говорит Франц. – Ты поедешь и узнаешь. И потом скажешь мне всю правду. Я даю год. Больше года прожить без нее не могу.
– Трудно это, Франц.
– Конечно, трудно. Но ты можешь…
– Могу. То есть, постараюсь.
Можешь. Ты один можешь. Это ничего, что ты не совсем пони-маешь, зачем мне эта правда.
– Кажется, понимаю, – перебил я.
– Отвлеченно формулировал? Да ничего. Тебе же лучше. Но узнать правду ты можешь и передать мне; и тебе одному я поверю. Год. Наскоро, сразу, нельзя узнать. Будущей весной мы съедемся… все равно где, и тогда ты скажешь.
Мы замолкли. Шуршало меж гальками. Улыбался месяц.
В этот странный день ничто уже не казалось странным. Я принял, без споров, поручение Франца. Когда я вижу, что ему что-нибудь действительно нужно, я не могу, ну просто не могу, отойти без помощи. Никто, кроме меня, ему и не даст ее, а главное, ни у кого, кроме меня, никакой он не попросит. И не просил.
Франц хочет, чтобы я, за этот год, узнал правду об Отто. Не внешнюю, а внутреннюю правду его существа. (Я, конечно, сразу понял, какую правду.) Отто женился. И счастлив. Счастлив ли? Может ли быть счастлив? Любовь Франца к Отто, была ли это любовь – к «никому»? Или, на худой конец, к кому-то неизвестному, не тому Отто, какого видел Франц? Но тогда и любви не было?
Я тут, для себя, в рассуждениях путался, и скоро их оставил в покое. Понимаю, чего хочет Франц, с Отто я хорошо знаком, случай приглядеться к нему с нужной стороны – найду, кстати же, этот самый Отто всегда казался мне довольно незамысловатым: я лишь не интересовался его ларчиком, но откроется он, полагаю, без труда.
Ну и довольно. Что я не вполне, не «изнутри» понимаю даже свои собственные объяснения желаний Франца, (узнать, кого любил), и сухой ревности без любви, да еще дико – односторонней не понимаю, – Франц знает, и это неважно.
А вот…
– Послушай, есть еще… Есть еще, совсем другое.
Франц повернулся ко мне. Оперся на руку. Я привык к месяцу и видел теперь бледное лицо. Оно было удивительно доброе, с тем выражением тихой нежности, которую я знал в друге.
Но почему-то испугался. Еще? Что еще?
– Не бойся. Это не о маленькой музыкантше. Не о тебе.
Обо мне? О ней? Что он хотел сказать? Я удивленно посмотрел, не ответил.
– Это о бедной Кларе.
Ах! Я вспомнил все. Вспомнил вчерашний вечер, сегодняшнее утро…
– Подожди, выслушай меня сначала, – продолжал Франц, – верь, – да ведь ты мне всегда веришь, – но не удивляйся ничему, не смейся; пойми, как ты умеешь многое понимать.
XIII
Бедная Клара
– Она меня любит, – начал Франц. – Ты это, конечно, знаешь. Догадался, или она тебе сказала – все равно. Подлинная любовь – великий дар, кому бы ни был послан. Он – счастье, и он же несчастье. Кларина любовь ко мне – громадное, почти сплошное несчастье. И она это знает, с самого начала знала. Но кому любовь посылается – тот уж обречен нести ее, как послана. А через маленького этого человека, ничем не замечательную женщину, Клару, – несчастье ее любви, – и мое несчастье.
Я не выдержал, рассердился. Перебил, почти закричал:
– Франц, опомнись! Твое несчастье? Извини, я отвык от этой романтики. Не хочу я тут «высокого штиля». Что это, в первый раз восторженная, праздная дама в тебя влюбилась? Бывало, помнится… И что ж, вместе со всеми ты страдал? Право, сейчас ты напомнил мне… были такие в середине прошлого века, у нас, в России… чувствительные юноши… Так же пустяки размазывали и так же изъяснялись торжественно. Твое несчастье! Случайная немка упрямо влюбилась, в кого не следовало, а ты из-за этого страдаешь! И уж, конечно, – голову прозакладую! – ты-то не виноват!
– А она? – тихо сказал Франц.
– Она? Виновата – не виновата – не знаешь ты женщин, Франц! Над ними время всесильно; если заставить их у этого врача полечиться – каждая выздоровеет. Хочешь, я поговорю с Кларой? Уедет проветриться в Германию, и увидишь, как все обойдется.
– Нет, оставь.
Франц не сердился, хотя я говорил грубо и раздраженно.
– Лучше потом кончим, – сказал он, вставая. – Ты злишься, – я понимаю! Забыл, что я такой: где невинное страданье, да еще через меня, я уж не успокаиваюсь, всячески размышляю, прикидываю, как бы его смягчить. Когда могу.
– Обмани… Разведи с Мариусом и женись на дуре… – буркнул я. Франц засмеялся, но тотчас сказал серьезно:
– И шутить так не надо, Иван. Это не я, а ты не знаешь женщин. Понятно: тебе некогда о женщине думать: ты в нее влюбляешься, а тогда уж не до размышлений. Спросил бы Клару, хочет ли она обмана или, хоть без обмана, но чтоб я на ней женился?
– Так чего же она от тебя хочет? – почти в отчаянии закричал я. Едва с крутой дорожки не сорвался: тьма, месяц давно закатился, духота.
Но Франц не сказал. И мы расстались.
XIV
Среди всего
Нелепость и чепуха. Ну как же не чепуха, если опомниться, и эта моя разведка насчет черноглазого, тонконогого графчика, глупого, кажется (не знаю, не интересовался), и эта немка, до которой дела мне нет, и вся Бестра с ее ветрами, мальчишками, серенадами, маленькими и большими англичанками… У меня, наконец, своя жизнь есть, свои мысли, свое дело, – да еще какое! Пора…
Что – пора? Я зол, раздражен, барахтаюсь в кошмаре – но вот вижу, что поверх всего – у меня боль за Франца.
Почему я его не дослушал? Какой он там ни на есть, с его воображениями и странностями (не изменишь!) – я его люблю. Насчет Отто разведывать поеду. О Кларе ему нужно было что-то сказать мне, знаю, что нужно (случалось прежде, говорил о своем и совета спрашивал) – а я вдруг грубо его оборвал.
Эта боль за Франца (в любви моей к нему столько пронзительной жалости… нет, какой-то нежной, заботливой нежности!) совсем меня расстроила. Но идти к нему, стараться возобновить разговор – нельзя; опять грубо. Надо ждать, или придумать что-нибудь другое.
Я на целый день уехал в Катанью. Хотел вернуться вечером, но остался ночевать. Грязный город, грязная гостиница, жара ужасная.
Приехал на Флориолу – совсем больной. И утром – уже не мог встать. Не знаю, что такое было. Говорят, случается это в Сицилии, потрясающее какое-то недомоганье, чуть не с бредом, – и внезапно проходит, через два дня. Выздоровление же, хотя тоже быстрое, но как будто после тяжелой болезни.
В эти два дня я помню шепелявого и милого Signor il dottore, потом Франца, а, главное, все время помню около себя тихую Клару, которая ухаживала за мной неотступно, с чисто материнской заботливостью.
Я уж чувствовал себя совсем хорошо, но она еще не позволяла вставать.
– Завтра, завтра, – улыбалась она, садясь с каким-то рукоделием, у затененной лампы, в моей комнате. – Завтра встанете, но еще нельзя выходить, и никого я к вам не пущу, даже M-r v. Hallen. А послезавтра – все кончено, вы свободны. Это пустяки, это наше солнце, вы были неосторожны, да, может быть, расстроены…
Я смотрел на нее, и, в тихой комнате, она сама тихая, казалась мне другой. Как будто и не та глупая немка, на которую я из-за Франца так разозлился.
– Мадам Клара… – произнес я.
Она подняла на меня близорукие светлые глаза. Потом, просто:
– Он вам сказал?
Я не ответил ничего, хотя понял вопрос.
– Ему трудно, он думает, что это большая ответственность… – продолжала она, как бы про себя, опустив глаза на работу. – Он все понимает, только вот это: какая же ответственность? Одна моя, и я так хочу, чтоб была одна моя.
– Клара, но ведь вы знаете… Вы его любите…
– Да. Мы все знаем друг о друге, и говорить даже почти не надо было. Он всегда знал, что я не думаю, и не хочу его любви… Мне своей слишком достаточно, – прибавила она с какой-то вовсе не печальной, хорошей улыбкой.
Нет, я не понимал. Да в чем же дело? Опять какие-нибудь фантазии Франца? Но ведь она-то, пусть сантиментальная, но практичная немка. Она что-то хочет от Франца, на что он… не соглашается?
Клара, не смущаясь моим молчанием, продолжала:
– Он угадал мое сердце, всю меня, как никто не мог бы. Никто другой. Я не жена. Я не возлюбленная. Я умею любить, так дано мне, но любовь любимого – зачем? Нет, сердце не в ней…
Я вдруг сел на постели. Промелькнули, пронеслись отрывочные фразы, слова, какие-то предупреждения Франца: «Выслушай до конца… Ты не знаешь женщины… И не смейся…» А теперь: «Он меня угадал… Я не жена… Я не возлюбленная…».
– Клара. Вы хотите иметь ребенка? Его ребенка?
– Да.
XV
Демон
После этого «да» – точно по волшебству сложилась передо мною, из кусочков и обрывочков виденного, слышанного, мимо ушей пропущенного, целая картина, в общем такая верная, что Францу потом пришлось дополнить ее только небольшими, хотя и неожиданными подробностями. Зная Франца, как я его знал, мне и труда не составляло догадаться о его чувствах и о взглядах на маленькую драму Клерхен. Для нее самой она не была маленькой; значит, при серьезности Фран-Ца, когда шло дело о человеке, не была маленькой драма Клары и для него. Он, конечно, верил (и Клара, да и – кто его знает, может, так оно и было?), что эта женщина, действительно, не «жена», не «возлюбленная», а только, – главным образом, – «мать». Бывают же такие. Я не замечал, положим, да просто не думал об этом; Франц, может быть, и нрав, что я не знаю женщин, что некогда мне о них думать.
Отлично понял я, словно по книге прочитал, все сложное душевное состояние Франца, его влекущую силу доброты, а рядом – вечное чувство ответственности… И что еще? Да, да, все, кажется, поняла моя любовь к Францу. Но… тут я, с сожалением, опять должен сказать кое-что о себе. Вернее – о моем демоне.
Воистину проклятый демон: нападает он на меня всегда неожиданно и всегда в самое неподходящее время; бросается на то, что я от него как раз и хотел бы сберечь.
Но он беспощаден, этот демон, – смеха… Смеха самого грубого, самого издевательского. Излюбленная мишень – я сам, конечно, хотя не считается он ни с кем – и ни с чем.
До сих пор вспоминаю: несколько лет тому назад, был я влюблен в двух женщин, – двух сразу. Клянусь, влюблен серьезно, глубоко, любил обеих с одинаковой силой, – по-разному; ведь и оне были разные совсем. Мать и дочь. Дочь была моя невеста. А мать, совсем неожиданно для обоих нас, – стала моей любовницей. Самое ужасное – это что я действительно любил обеих, обе мне были одинаково нужны; и оне любили меня; выход же мне был один: обманув обеих – расстаться с обеими.
Помню трагическую ночь, когда я так смертно мучился, разрывая непонятную сеть, зная, чем будет этот разрыв для меня, и для них, – для каждой (для них еще с обманом, разве мог я сказать правду? Разве поняли бы оне, когда я и сам ее не понимал?). Так вот – в эту ночь вдруг навалился на меня, сверх всего, проклятый дьявол смеха. Я не только смеялся над собой, я издевательски хохотал, грубо дразнил себя, будто я Хлестаков: «Анна Андреевна! Марья Антоновна!». Нельзя ли, мол, с обеими «удалиться под сень струй…». Что ж такое, что одна «в некотором роде замужем»?
Ну, не стоит теперь об этом. Знаю, что едва-едва не пустил себе пулю в лоб, и вот от невыносимого этого смеха, – куда хуже он, чем смех «сквозь слезы».
А вспомнилось потому, что после знаменательного Клариного «да», когда я ее и Франца – всю картину понял, и даже, если можно, еще больше моего серьезного и нежного Франца полюбил, а Клару пожалел, – до утра не сомкнул глаз: так этот поганый дьявол хохота меня душил и трепал. Вместо Франца он мне показывал столь глупую, комическую фигуру, что я покатывался со смеху; – а Клара виделась многоликой истерической рожей – сколько их шляется к знаменитостям: «Прошу сделать мне ребенка! И немедленно!».
Чертовы штуки – сближать факты внешние, чтобы смешать их, убить живое внутреннее содержание там. Где оно есть. Драму превратить не в комедию даже, – в грязный водевиль.
Я всю ночь и превращал, издеваясь над Францем: (попал в переплет и еще вздыхает). Над Кларой: (а Мариуса почему не желаешь?). И над собой: (советчик! потом попросят совета, какого акушера пригласить! А сначала – роль моя tenir les chandelles [58], что ли? О, соглашусь, я таковский!).
Лишь к утру задремал: проснулся в холодном ужасе: что будет, если дьявол схватит меня и при Франце? Или при Кларе? А я не справлюсь и захохочу им в глаза?
Нет, тут решительно есть доля самого настоящего моего безумия…
Но прислушался: молчит, проклятый.
Мария принесла кофе. Осведомляется о здоровье. Signora сказала, что если signor чувствует себя лучше…
– Совсем, совсем хорошо, mia figlia! [59]Скажите синьоре, что я здоров и сейчас встану!
XVI
Телеграмма
Последняя моя неделя Бестры проходила в самом тесном общении с Францем, в длинных с ним разговорах. Мы совершали прогулки, далеко в горы; случалось, набредя на крошечную деревушку, там и заночевывали.
На Флориоле, вечером, я нередко сталкивался с Кларой на моей террасе. Мало-помалу и с ней у нас установились откровенные отношения. Вместе, Франца и Клару, я почти никогда не видал, но они, кажется, и не бывали вместе. Изредка Франц приходил к 5-часовому чаю.
Им точно и вправду не было нужды вести друг с другом длинные разговоры: все понялось и сказалось сразу в малых словах.
Я угадал верно взгляд Франца на Клару: просто его понял.
Принял так же Клару, с ее любовью, с упорной волей и… практичностью.
Мне понравилось ее решение: она «во всяком случае» расходится с Мариусом и уезжает из Бестры навсегда. Флориолу она дарит Мариу-су. У нее есть еще средства, есть и небольшая вилла на итальянском побережье (она не сказала, где), там живет теперь старая ее тетка.
– С M-r v. Hallen, – прибавила она, – мы условимся перед моим отъездом. Он может приехать на несколько дней… лучше всего в Сан-Ремо. Если, конечно…
Она не договорила, никогда не договаривала. В первый раз, при таких словах, я ужасно испугался: вдруг дьявол тут-то меня и схватит? Но она произнесла это так просто, так невинно-просто, что я – ничего– Даже не улыбнулся.
Ну, а что же Франц? О решении Клары покинуть Бестру он знал, он как будто все знал, все как будто принимал… Да, но он не Клара, и разговоры у нас с ним иные. Ближе нельзя, кажется, и так ясно представлял я себе, что делается в этой серьезной и сложной душе. Стал думать, что доброта, – вот его светящаяся доброта, – победит, должна победить. Я уж не смеялся, – на таких особых рельсах шел всегда наш разговор.
Не засмеялся я тогда, когда вдруг заметил еще какую-то сложность, мучающую Франца. Я только беспомощно рассердился и сразу решил об этом совсем не думать, так как сразу увидел, что не понимаю и не пойму. На Франца рассердился: можно ли доводить себя до таких извилин? Допутаться – ну, ей-Богу, до несуществующего? В какую связь он ставит для себя историю Клары (и это несчастное San-Remo) – с моей обещанной разведкой насчет графчика? Нет, просто закрыть уши, отвернуться, забыть, – вон баба сицилианская с кувшином на голове идет, девочка крошечная у двери с кошкой играет, петух где-то запел… милая, грубая, понятная жизнь! И чего люди выкрутасничают?
Франц угадал, кажется, что я сержусь и почему: объяснять мне ничего не стал, не настаивал, улыбнулся, к другому перешел.
Нет, довольно, очень меня утомила Бестра с загадочными ее историями и неожиданными сплетениями. Кое-что распуталось, – я понял, зачем я был нужен Францу, теперь можно вздохнуть с облегчением. Конечно, нелепость этих историй остается, – и Клара, и поручение Франца… Но не стоит думать. Таков уж Франц, поеду в свое время и Отто пытать. Насчет Клары – он знает мои рассуждения…
И с радостью, даже с волнением, ждал я, что вот, через два дня, свободный, поеду путешествовать… куда поеду? Все равно, – в Сиракузы, в Палермо… Оттуда, через Неаполь – в Рим. Знаю его. Но Сиен-на, Орвиетто… если б туда? На возвратном пути надо остановиться в Берлине, хоть начать с этим глупым Отто… Ну, до этого еще далеко! Сейчас – словно «тайной радости жду впереди» – жду путешествия…
Укладывал, посвистывая, чемодан (хотя еще целых два дня!), когда Мария, с утренним кофе, принесла мне телеграмму.
Раскрыл. Ничего не понимаю. На каком языке? По-французски? По-итальянски? Ах, по-английски! Вопрос, когда я буду в Риме… «Could travel with you… Mother goes England. Ella» [60].
Стоял с раскрытой телеграммой в руках. Смотрел на наклеенную полоску слов. Обернул – да, мне. Очевидно, надо ответить? Куда? Это из Рима. Да вот адрес отеля, – мой же, где я всегда останавливаюсь.
Но соображалось плохо. «Mother goes England…». Не показать ли Кларе?
Тотчас решил, что не покажу. Пойду в город сам и отвечу. Когда я буду в Риме? Через неделю? Раньше? А Сиракузы, Палермо? Ну, можно и без Сиракуз. В Палермо день; ночь до Неаполя… Через пять дней я могу быть в Риме.
УЛЫБКА
Небесная чаша была не лазурная, а густо-сиреневая от зноя и от желтизны холмистой равнины. Почти в середине сиреневого свода стояло солнце. Оно казалось прорывом в какой-то невозможный мир, откуда на землю лились огненные лучи.
По дороге, меж нив желтой пшеницы, шли странники. Дорога вилась по холмам, от нижнего селения к тому, что направо, на холме. Видно было далеко и широко, все – в сверкающем зное.
Странники, в желтовато-серых одеждах, с затененными покровами лицами, шли медленно. Они шли вместе, а поодаль за ними следовала женщина.
Шли они давно, давно шла и женщина. Думала, может быть, что они ее не замечают, но все шла, держась вдали. У странников не было ни посохов, ни мешков. Только один нес под складками своей желтой одежды что-то громоздкое, с острыми углами.
Там, где дорога круто подымалась вверх, стояли у дороги три серых, короткотенных дерева. Под ними – горячие белые камни.
– Учитель, отдохнем здесь! – сказал один из странников, подымая покрывало. Он был стар, сед, лыс. Над добрыми бледными глазами удивленно круглились брови, собирая в складки лоб.
– Скоро ты устаешь, Яков! – начал быстро возражать другой, в желтом, что нес ящик под одеждой, но замолчал, потому что и третий путник, безбородый, нежноликий мальчик, тоже сбросил покров с головы, а Тот, кого они называли Учителем, подойдя к одному из белых камней у дерева, сел. Нежноликий мальчик опустился у ног Его, на землю. Сели кругом и другие. От тяжести зноя была тишина.
– И что эта женщина все идет за нами? – сказал вдруг один из путников, остробородый, быстрый в движениях. Приложив ладонь ко лбу, он с любопытством глядел на дорогу. – И не больная. Давно идет. Чего ей нужно?
– Лучше бы женщины сидели дома за пряжей и думали, как бед-пьщ помогать, – недовольно сказал человек с ящиком, но тоже стал «Усматриваться в женщину, обернув к ней лицо.
Лицо у него было молодое, темное; черные волосы, слабо завиваясь, падали на лоб, мягкая бородка чуть курчавилась. Глаза были похожи на небо, но бессветное, и, казалось, человек с таким лицом не может улыбаться. Он и не улыбался никогда. Весь темный был, темный и яркий, в почти яркой желтой одежде.
А женщина все приближалась. Близко, впрочем, не подошла, остановилась у последнего дерева и стояла молча, прислонясь к стволу головой.
Некоторое время молчали и путники. Наконец, остробородый, которому уж не сиделось на месте от любопытства, проговорил:
– Тебе, милая, нужно что-нибудь? Идешь и идешь за нами… Откуда ты? Чья?
Женщина отделилась от дерева и тихо, нерешительно и невнятно произнесла:
– Я… к Учителю вашему… Я оттуда… – она махнула рукой на восток. – Мои родители… – он знает! – вдруг неожиданно и гневно указала она на черного…
– Так ты ее знаешь? – добродушно рассмеялся любопытный, обернувшись к черному. Но тот молчал и не шевелился.
– Мне надо говорить с вашим Учителем, – настойчиво повторила девушка и откинула покрывало. Она была очень молода, лет пятнадцати, с узким, золотисто-смуглым лицом и огромными гневными глазами.
– Не знаешь, чего просишь, – покачал головой любопытный. – Иди домой. Нельзя тебе говорить с Учителем.
– Иди, иди домой, – сказал и Яков, утирая лысину. А двое – длинноволосый и курчавый, зоркий – стали подыматься, и длинноволосый прибавил: «Нехорошо это. Иди».
Девушка испугалась и почти вскрикнула:
– Мне надо… Мне надо сказать Учителю…
Ученики заговорили все сразу, но в эту минуту Учитель сделал тихое движение рукой, и они, удивившись, что Он хочет выслушать девушку, замолкли.
Она вдруг опять оробела, сжала губы и в первый раз подняла взор на Того, за Кем так долго шла. У него были глаза, похожие на небо, но светлее неба, почти солнечные. Казалось, он никогда не улыбается. Но порою Он улыбался. Только Его улыбка была такой невозможной, радостной радостью, что видевшие ее не верили потом, что видели, забывали, что видели. Каждый раз она была и первою, и последнею, и бывшей – и небывшей, и не оставалось слов для воспоминания. Теперь Он смотрел и не улыбался, сидел весь светлый, но не яркий, а тихий, и одежда у Него была светлее, чем у других, – почти совсем белая.
Девушка молчала. Потом, с усилием, проговорила:
– Ты знаешь все, говорят… Ты рассудишь по правде, по закону. Отпусти со мной Твоего ученика. Вот его.
Она слегка обернулась и указала на черного.
– Я обрученная ему невеста. Он из нашего рода самый близкий, я одна дочь в доме отца, и он должен войти в дом наш. И было согласие между нами, и он копил деньги для дома, и вместе прикупили мы овец и другого скота… Я обручена ему, и никто, кроме него, не может войти ко мне… Как исполню закон отцов, если он оставит меня? С тех пор, как прослышал он про Тебя, и пошел, он уже не возвращался под нашу кровлю, и только от людей узнала я про него. Разве мало у Тебя учеников? Сжалься, отпусти его. Прикажи ему, а не послушает, да будет проклят от Бога нарушивший закон!








