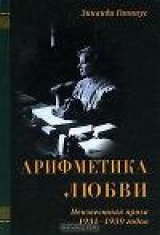
Текст книги "Арифметика любви"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц)
Увы, увы! Никто из нас не узнал, что было бы дальше! Будто нарочно, в эту самую минуту раздался зовущий скрипучий голос (гувернантки? тетки?) – и раздался так близко, что испуганная банда опешила, а потом сразу, кучей, ринулась прочь. Едва успел Паша забросить мешки в будку. Воры, мгновенно покинувшие «тайную пещеру», убегали, конечно, с остальными, дочку волочили за что попало.
Мир игры угас во времени. Ничего, возникнет. Опять будет длиться. Такая уж игра, что ей концов нет. Бросить только можно. Да маленькие люди не скоро бросают затеянное.
На другой день шел проливной дождь. Я все-таки наведался на скалу. Никого не было. Завтра? Но холодные дожди зарядили сплошь, – конец августа, конец сезона. После ненастья, хоть и наступили опять ясные дни, – уже не летние, осенние, с хрустальным небом и черно-синим, серьезным морем, – а излюбленное место оставалось пустым.
Я лежал в моей сырой выемке, глядел на почерневший от дождя замок-будку, никого уже не ожидая (их увезли всех, очень просто!). И вдруг… знакомые тоненькие голоса: «Ден-ден-ден…» – издалека, все ближе, – а вот и сами они, – Катя – Паша – Маша, Лидя – Коля – Саша. Все налицо, с «дочкой», в теплых вязанках, в шапочках. Как будто те же; но по озабоченным мордочкам, по тому, что они не подбежали, а солидно, держась за руки, подошли к месту, я понял, что явились они в последний раз. Вряд ли знали, зачем: проститься ли с любимым местом, или с игрой, или, может быть, в распоследний разок все-таки поиграть? Если и да, то продолжением старой истории эта игра не будет, подумал я, когда все шестеро сели смирно кружком. Куклу-дочку Лидя держала на руках.
Посидели. Вдруг Паша вскочил, бросился в замок, принес четыре мешка (промокших) с сокровищами, один отдал черненькой Лиде, а свои 3 положил на песок: «Вот что. Мне надоело быть богачом. Скучно «их» всегда сторожить. И некогда. Я буду знаменитый ученый, буду делать открытия. А сокровища я всем разделю поровну». Но Лидя положила свой мешок к Пашиным: «Я делить не хочу. Мне ничего не нужно. Я буду странница. И дочки не надо».
Положила куклу к мешочкам, но толстенькая Катя потянула ее к себе: «Отдай мне. А делить и я не хочу». Коля и Саша тоже не захотели дележа. Коля объявил, что он будет «великим живописцем», а у великих живописцев не бывает сокровищ. Саша станет укрощать диких зверей, ему тоже некогда за сокровищами смотреть.
Белокурая Маша, когда-то нянька «в рубище» – хихикнула: «Я бы взяла. Зачем поровну, никто не хочет. А я бы все взяла. Я люблю быть богатой». Тут вдруг поднялся неожиданный шум. Катя беспредметно визжала, Паша свистнул, а Коля орал: «Это чтоб опять богачиха? Чтоб нам опять тебя грабить? Нет уж, дудочки, надоело!». «Так в море их побросать? – кричала Маша. – А я чтоб опять бедная, когда я не хочу?».
Я боялся – передерутся, и по-серьезному. Но Паша загрохотал мешками, а Катя, по его знаку, такой визг подняла, что все примолкли. Сидели в недоумении. Наконец, Паша сказал нерешительно: «Я вот что придумал. Поровну, правда, не стоит. В море бросать тоже глупо. Тогда все будут бедняки… А надо так, чтоб бедняков особенных не было, и богачей особенных тоже. Пусть сокровища будут забронированные». «Ну, и потом?» – фыркнула Маша. «А потом, сколько кому на свое сейчас нужно, ровно столько пусть берет. Кате, например, дочку воспитывать. Коле нужно на краски. Или мне, лабораторию строить. Только надо согласиться вместе». Опять зашумели, но одобрительно. «А Машу совсем не подпускать, – кричал Саша. – Она все возьмет, ей для богачества, ей ровно все нужно!».
Лидя заступилась за Машу: не совсем не подпускать, а только следить строго. Сама Лидя ничего не может взять: нельзя страннице, если настоящая.
Так и согласились, – наспех немножко; ранние сумерки надвигались, а надо было «забронировать» сокровища: зарыли их, в песок, под старой будкой. Окончив дело, повеселели, взялись за руки, побежали. По привычке, завели и песенку свою: Катя – Паша – Маша… Лидя – Коля – Саша… динь-динь-динь…
А я, слушая замирающие тоненькие голоса, думал, что с концом своей прежней игры маленькие люди, пожалуй, поспешили. Не успели сообразить, что «так на свете не бывает».
МОТИВЫ
Парижский рассказ
Солнечным утром я сидел в парке Монсо с приятелем, довольно известным французским адвокатом. По соседней аллее, мимо, опять прошла эта пара. Я спросил приятеля:
– Не знаете ли, кто они? Вижу их здесь часто. Какие трогательные старички!
– Конечно, знаю. Это мой давний друг, отца моего еще друг, с женой. Я вечерком к нему иногда захаживаю.
Он замолк, а я все еще следил глазами за обоими, уже чуть видными сквозь зелень. Но я встречал их и совсем близко. Она – маленькая, толстенькая и ходит уже плохо. Он – высок, сух, прям. Так прям, что, казалось, совсем не может сгибаться. Она кое-как завернута в черное. Он – почти элегантен; седые усы, черные брови; лицо – не знаю даже, суровое ли: спокойно-неподвижное, словно вырезанное из камня. Он мог бы шагать широко, но идет тихо: для нее. И она, – слишком ей высоко идти под руку, – она неизменно держится за его рукав. В этом держании за рукав что-то пронзительно трогательное и нежное. Оба молчат; ее маленькое темное личико склонено вниз. Я даже не рассмотрел его, такое оно… уснувшее. Да, да, именно уснувшее.
– Как они, должно быть, счастливы! – заметил я. – После долгой жизни встретить вместе спокойную старость, – не истинное ли счастье?
– Счастье? – задумчиво повторил мой приятель. – Что есть счастье? Вопрос, равный другому: что есть истина? Ну, а если без философствований, так скажу вам: редко встречал я людей более несчастливых, чем вот этот мой друг и его жена. Бывает ведь, вцепится в кого-нибудь судьба, да и бьет с молодости до гробовой доски. Еще старается не сразу убить, чтобы дольше издеваться.
– Что же с ними такое? – спросил я, заинтересованный. – Расскажите, если можно. Меня эта пара и привлекает, и умиляет… но и чем-то тревожит.
– Рассказать не трудно, да понять трудно чужое страданье. Извне, впрочем, всякий поймет; только вздор это – так понимать… Но бросим рассуждения, слушайте; и начну я с самого начала. От отца еще слышал, и, зная моего друга, знаю, чем было для него вот это: в самый день свадьбы его невеста сгорела живой. Он долго болел, потом весь ушел в работу. Через десять лет женился на старшей сестре своей невесты, уже немолодой и некрасивой девушке. Родился сын: ему оба отдали душу, особенно несчастная женщина. Несчастная одной этой любовью, слишком острой, сверхматеринской какой-то. Ревновала сына ко всему и ко всем. Особенно к молодой жене (он женился рано). Тут, пожалуй, была права: через два года молодая женщина бросила мужа, ребенка, уехала с кем-то в Америку, где вскоре погибла от несчастного случая. Марсель, талантливый ученый (кстати сказать, мой близкий друг), так потрясен был уходом и смертью жены, что сам едва не погиб. Мать его отстояла: будто второй раз родила. «II n'y a que ma-man» [76], – говорил он. Но… тут произошел взрыв земного шара: война! Марсель ушел в первые же дни. И знаете: много я мужественных матерей видел, а такой, как «татап» Марселя – не видел. У нее, думается, нож в сердце сразу вошел, и с ним, с холодком его, годы войны она и ходила; но ни звуком не пожаловалась – никому.
Все годы Марсель пробыл на фронте в самом огне и – ни царапины. Убили его только перед перемирием, чуть не накануне. Не наповал, часов 12 еще мучился.
Мать – не знаю, как это выразить: точно «изумилась» раз навсегда: застыла, заснула в изумлении. Продолжала жить, потихоньку, мало говоря. Сядет около мужа, и сидит, и ничего, будто ей только это и надо. Он – вдвойне страдал, и за себя, и за нее, очень живой еще был. О маленьком Рожэ, оставшемся у них, сколько мог заботился. А она – и к внуку относилась странно: как к чужому ребенку, сына в нем точно не узнавала.
Рожэ, мальчик смышленый и красивый, вырастал на полной свободе. Особых склонностей у него, по-видимому, не было. Оксфорд надоел ему раньше года. К родным чрезмерной привязанности не выказывал, жизнь вел независимую. Я, признаться, мало им интересовался: слишком походил он на обычного молодого человека наших дней, послевоенных, – из состоятельного круга. В деньгах отказа ему и не было, хотя больших капиталов мой друг не имел. Состояние же Рожэ, от матери, дед-опекун хранил неприкосновенным до совершеннолетия внука.
Меня не было в Париже, когда оно наступило. Вернувшись, я узнал новость: Рожэ потребовал от опекуна отчетов, сдачи ему всего капитала, после чего съехал от стариков и живет отдельно. Друг мой, всегда сдержанный, показался мне неспокойным; но я его не расспрашивал.
Теперь скажу кратко: Рожэ в два года растратил буквально все свое немалое состояние. Аппетиты не уменьшались по мере таянья денег, и когда они растаяли, Рожэ показалось, что это случилось как-то внезапно. У него была уже куча долгов, но он и это еще заметить не удосужился, когда, в один прекрасный вечер, торопясь в клуб, увидел, что в кармане у него пусто. Это был неприятный толчок. Деньги ведь нужны и завтра, и послезавтра… Дальше послезавтра он не задумывал.
Что это за монстр легкомыслия! скажете вы. Мог бы сообразить раньше, рассчитать… Ну да, только сейчас Рожэ торопился, главным образом, туда, где его ждали. Как быть, однако? Вспомнил, что на этой же улице магазин знакомого деду антиквара. Зайти к нему? Было не поздно, но в старой узенькой улице светились только два окна лавки. Старик был там один. Удивился. Но при имени моего друга решил, вероятно, что с молодым человеком произошла случайная забывчивость, открыл конторку, сто франков достать.
Когда наклонился, Рожэ острым старинным пресс-папье ударил его п° темени и рассек череп. Старик упал не охнув. Но из осторожности
Рожэ еще ударил его раза два, выгреб все, что было в конторке, осмотрел себя, не запачкан ли кровью, и вышел, не забыв потушить свет.
Вечер он провел, как предполагал, да и следующие, ибо взятых денег оказалось немало. Как все открылось – не стану рассказывать; далеко не сразу, и могло бы даже не открыться новое. Но когда Рожэ взяли, он ни минуты не запирался: рассказал все точно, как было. Защищал его очень известный мэтр; и я. Но приговор оказался самым суровым – смертным. Нас это не особенно испугало: осужденный – юноша, к тому же сын павшего в бою; да и убийство было не заранее обдуманное (оружие – случайное пресс-папье). Мы решили опротестовать приговор; в крайности – просьба о помиловании не могла не иметь успеха. Но нас ждала неожиданность: Рожэ объявил, что не подпишет ни протест, ни просьбу. Все наши уговоры разбивались о его «не хочу». И был при этом ни угрюм, ни нервен: спокоен, только молчалив.
Сроки, однако, истекали. Я решил сделать последнюю попытку. Увидаться с ним наедине. Скажу откровенно: помимо боли за старика, я чувствовал интерес и к самому Рожэ: он был для меня загадкой.
Встретил меня просто. Я опять заметил, что он, похудев, потемнев в заключении, удивительно стал напоминать отца.
– Послушайте, Рожэ. Мне, право, непонятно: почему вы так упрямо хотите умереть? Может быть, здесь, в одиночестве вы обдумали… Вы жалеете… Ах, если б вы знали вашего отца!
– Я знаю все о нем. А что ж жалеть? Раскаиваться? Это судьба. Я отлично мог не попасться.
– Да нет! Я о том, что вы, ведь, убили…
– Отец тоже убил. И не одного, вероятно.
– Что вы говорите? – ужаснулся я. – Какое же сравнение? Отец ваш жертвовал собою…
– То есть шел на риск. Мог и не проиграть. Проиграл – заплатил. Так же и я, раз проиграл. А вам аналогию заслоняет разница мотивов. Вы все не действия судите, не факты, а мотивы. Какой смысл? Условность старая. Допустим, у отца свои были мотивы, у меня свои, но если факты одинаковые, – что это меняет?
Признаться, я даже не нашелся сразу что ответить. А Рожэ добавил, подняв на меня карие глаза, – совсем отцовские, только пустоватые какие-то:
– Вот и не уговаривайте меня больше. И другим скажите. Что ж, не всегда бывает удача. Я вполне мог бы не попасться. Не удалось, попался, – о чем еще разговаривать?
Так и кончилось. Скажу еще, что своеобразного своего мужества Рожэ не потерял до… до последней минуты. Старику я о нашем свидании тогда и не рассказал. Очень он изменился. Будто жизнь в нем медленно стала иссякать, усыхать. Сначала все боялся, как бы до старушки чего не дошло. Но, пожалуй, напрасно боялся: она как во сне жила; о Рожэ, верно, и забыла. Только от старика своего ни на шаг. А раз, говорил он мне, сидела она здесь на скамейке, и сзади мальчишеский голос закричал: «Матап! татап!». Она, словно разбудили ее, позвали, встрепенулась, заторопилась… Ну, он успокоил.
Вдолге, уж через год, я старику о свидании с Рожэ и о «мотивах» рассказал. К слову пришлось, о современности мы говорили. Старик слушал, молча. А я увлекся, и у меня вырвалось жестокое слово:
– Ведь он с малых лет у вас, ведь вы же его воспитали!
Старик продолжал молчать. Потом поднял усталые руки и сказал спокойно:
– Нет, дружок. Было воспитанье, только не мое. Мальчика моего воздух новый, сегодняшний, воспитал. Это, вот… насчет «мотивов»… это в воздухе.
Я хотел, было, возразить, но он продолжал, не слушая:
– Чтобы судить мотивы, нужно воображенье. А теперь нет воображенья: теперь его дальше, чем на нынешний день, не хватает. Актуальность. Факты. Ими живут, ими и судят. Когда же еще мотивы разбирать, о мотивах думать?
Он опять замолк, и мы больше не разговаривали.
– Вот вам и вся история «счастливой» пары, – сказал мой приятель с улыбкой. – А теперь пора завтракать.
Мы встали и пошли к выходу. Мне по-новому припомнился высокий старик и державшаяся за его рукав маленькая спутница.
– Да, – сказал я, в раздумьи. – Зато теперь старичкам вашим уж ничто больше не страшно. А насчет современного уравнения мотивов, – то, когда они окончательно сравняются, и мы с вами будем, пожалуй, в таком упрощенном обществе, довольно несчастны. Как вы думаете?
Приятель мой, усмехнувшись, произнес ободряюще:
– Думаю, не будем. Успеем, думаю, умереть к тому времени.
ТАК СЛУЧИЛОСЬ
Уже в сумерки, – позвонили. Я отворил дверь и с недоумением посмотрел на незнакомую даму в темном.
– Не узнаете? – тихо сказал она. – Я Нератова. Кузина.
Нератовы – знакомая семья, где я бывал, изредка. Но посетительницу я все-таки не узнавал.
– Я так, случайно к вам… Я Ольга Петровна.
Тут мне припомнилось, что у Нератовых живет их дальняя родственница. Мне даже рассказывали, что она приехала в Петербург учиться пению. Но, вместо консерватории, поступила в банк, и так и осталась в Петербурге. Незаметная, уже не молодая девушка. Я с ней слова никогда не сказал. Можно было удивиться визиту! Провел ее, однако, в кабинет. Когда зажег лампу и взглянул гостье в лицо, – оно меня поразило. То же лицо, – я его уже вспомнил, – бледное, смуглое, в юности, верно, красивое, но увядшее, с тенью над резко очерченными губами, – это лицо, теперь, было совершенно мертвое. Никогда не видал я такого лица у живого человека. Черные глаза были матовые, как у большой мертвой птицы. Я не знал, что сказать, но она сама тотчас заговорила, ровным, – тоже будто мертвым, – голосом.
– Случайно зашла к вам, по дороге. Увидела дом, вспомнила и зашла. Вы мне самый посторонний человек, как и я вам. Человек вообще. Кто-то. «Кому-то» мне вдруг и понадобилось сказать, что через полчаса я умру. Совсем. Должно быть, так бывает, когда знаешь, что наверно один и сейчас один умрешь.
Она улыбнулась, – лучше бы не улыбалась: оскалилась, раздвинув губы. Я молчал.
– Сказать «кому-то» – это почти никому, но надо все сказать: ведь уж заботы нет ни о чем. Мой жених… он три года был моим женихом. В нашу любовь я положила всю жизнь. Неделю тому назад вдруг написал, что, хотя и не признавался, но давно уж не любит меня, а любит молодую девушку, Марусю Рязанцеву. Надеется, что наше обручение как было тайным, так и останется. Я называю имена, потому что какое теперь имеет значение, что меня зовут Ольгой, его невесту Ма-русей Рязанцевой, а того, кого люблю, Алексеем Ден?
Она опять улыбнулась – оскалилась, а я пришел в некоторое остолбенение. Не от банальной любовной истории, конечно, в которую меня неприятно впутывали, а от того, что Алексея Ден, – Лелю Ден, – я знал; одно время мы были даже приятелями. И теперь изредка встречал, – не у Нератовых: что там делать блестящему гвардейскому офицеру, известному общему баловню и красавцу? И он – жених этой старой девы, Ольги Петровны? Уж не бредит ли она? Всю историю выдумала, в нее поверила, и сейчас на границе безумия. Однако, что Леля ухаживает за Марусей, я уже слышал, и Марусю видал, в каком-то артистическом кружке: девица-модерн, тогдашнего, предвоенного времени: живая, смелая, избалованная. Мне она не нравилась, была в ней какая-то фальшивка, но Лелю я понимал. Вот насчет Ольги Петровны не понимал. Она, между тем, продолжала свое:
– Не велел писать ему, но я написала, о свиданьи просила, чтоб он мне это живым голосом сказал; что мне так нужно. Вернул письмо, с припиской: «А мне не нужно. Не пиши, больше не отвечу». Но я еще раз написала; мне, главное, чтоб он никак меня не боялся. Я ничего ему худого не желаю и не сделаю, и к Марусе нет у меня зла. Да и себе самой дурного я не хочу. Никто не повинен, что я умерла. Случилось. А случилось – мое дело одно еще, маленькое, – докончить. Думала, как? Фонтанка лучше всего, выбора ведь и не много. А там есть одно местечко… К нему и шла; к вам – по дороге: тоже так случилось, чтоб кому-то сказать. Сказала – теперь пойду.
Поднялась сразу, словно на пружинах. Но тут я, полунеожиданно для себя самого, схватил ее за руку, дернул опять на стул и начал грубо на нее кричать.
– Сидите! Я ваши глупые ламентации слушал, извольте и вы меня послушать! Потом можете убираться ко всем чертям. Коли правда, что Лелька Ден хотел на вас жениться, а не навообразили вы все это себе, – молодец он, что вовремя отъехал! Потому что вы шантажистка, да! Я знаю, что говорю!
Но, по совести, не очень знал, и отчего так кричу на нее – тоже не совсем знал. В конце концов, эта нератовская родственница, эта Ольга Петровна, с ее судьбой, была мне глубоко безразлична. Но действовала, должно быть, невыносимая неприятность мертвого лица, такая невыносимая, что где уж тут сдержаться. Кстати и мысль мелькнула: если передо мной истеричка, – с ними надо строго. И я продолжал орать:
– Скажите пожалуйста! Такая любовь у нее, что чуть не по ней – готово, умерла от любви! В Фонтанку идет, «доканчиваться»! Как оригинально! Черта вы там любили, только не Лелю и не другого кого, – себя, себя в первую голову! Я Лельку не сужу; каков ни на есть; но вы, ежели не врете, не навыдумывали, а вправду были его невестой, – за что вы на его плечи себя, утопленницу, наложить хотите, – таскай всю жизнь! Это любовь? Любовь?
Она покорно не двигалась. Смотрела на меня широко раскрытыми, черными глазами. И мне показались они уже не такими матовыми: что-то вроде испуганного внимания в них было, и лицо от этого изменилось. Чуть заметно изменилось, но мне стало легче, и я невольно снизил тон.
– Все повторяете: случилось. Вот это, мол, случилось, вот так случилось. Да много мы понимаем, что такое с нами случается, что завтра
случится? Если б вы на месте умерли, ну, можно бы сказать, что это с вами случилось. А то, не угодно ли, будто случилась смерть, да надо еще случай доканчивать, самовольно в Фонтанку лезть! И все потому, что вы, вы, Ольга Петровна, гвардейскому офицеру не нужны оказались…
– Вы его знаете… Лелю?
– Да-с, знаю. И, поверьте, он в тысячу раз приятнее мне, понятнее гораздо. А вы… да делайте, что хотите, не красуйтесь только собственной любовью: права не имеете! Конечно, если вы больны, если все наврали… Ведь дико же: вы и Леля Ден! Ведь он вас лет на 5–6 моложе.
– Я правду, нет, я правду… – сказал она, вдруг всхлипнув, положила голову на согнутую руку, на стол, и заплакала. Не истерически заплакала, – тихо, горько, и все старалась, другой рукой, не подымая лица, вытащить из жалкой сумочки платок. А мне от этих слез стало отдохновенно, почти весело. Я уж не думал, что она «наврала». Но это все равно. А вот мертвечины этой перед собой я больше не увижу! Так не плачут те, кому осталось себя «доканчивать».
Ничуть, однако, не разжалобившись, я не перестал ей твердить, повторять примитивные вещи о любви, выбирая то, что на нее больше действовало. Не постеснялся высказать и несколько горьких истин о ней самой: пусть знает, что претендовать на вечную Лелину любовь не очень ей кстати… Хорошенько не помню уж, что говорил: получепуху, полуправду, – по наитию.
А кончили мы так: свободу ее стеснять не хочу, но предлагаю, если она при своем решении, подумав, останется, посоветовать обойтись без Фонтанки: ведь это уж недопустимо, ведь она поняла, что нельзя утопленницу на человека наваливать? Вместе поразмыслим, как сделать, чтоб он никогда ничего не узнал; я помогу.
Говорил я это честно, однако честно прибавил, что, по-моему, смерти с ней не случилось, доканчивать нечего и что она, как я вижу, сейчас и сама это понимает.
– Весь вопрос: любите ли вы его? Чувствуете любовь, значит живы. Нет – другое дело.
– Люблю, – тихонько сказал она. – Да, я понимаю… кажется, понимаю. Я не знаю. А вы мне верите? Верите, что сейчас не пойду… туда?
– Твердо верю. Будете упорствовать, я от слова не отказываюсь, совет дам, на свободу вашу не посягну, даже хоть и на своеволие ваше. А до тех пор… верю, что по глупому своеволию ничего не сделаете.
И она ушла.
Я оставался еще в Петербурге, но больше ее не видел.
Потом я уехал на несколько месяцев. А потом – война, и дальше, дальше… Я потерял из виду почти всех, кого знал, даже тех, кто был несравненно мне ближе Лели и какой-то Ольги Петровны. Этих я, потеряв, и забыл совсем. Ни разу, кажется, не вспомнил.
* * *
Светло-серый, зимний, парижский день. Я шел по одной из бесчисленных новых улочек в районе Мюэтт, где всегда так тихо, пустынно, безветренно и пахнет цементом от недоконченных домов.
Я шел даже не по тротуару, – прямо по дороге, потому что и направо, и налево была стройка. Шел не торопясь, однако идущих впереди незаметно обогнал и был уже шагах в пяти от них, когда вдруг услышал свое имя. Остановился, обернулся к окликнувшей меня старухе. Таких старух и стариков я встречал в этих местах на каждом шагу. Идут-ползут по двое, мало различимые, только либо она за него держится, либо он за нее. За мою старуху, крепкую, бодрую, жилистую, явно держался ее спутник: он горбился и слегка волочил ногу.
– Здравствуйте, – сказала старуха почти весело. – Узнала-таки вас! Не сразу, да ведь сколько воды утекло! Я Ольга Петровна. Забыли Петербург? Кирочную, где квартира ваша была? Я-то помню!.. А это Леля. Леля, что ж ты давнего приятеля не узнаешь?
Он поднял сухое лицо, обросшее жесткой серой бородой, и протянул мне руку. А у меня в голове, как в синема, все завертелось назад, назад… да неужели? Неужели это Леля? А беловолосая дама, которая так оживленно мне что-то рассказывает, блестя темными глазами, и совсем не замечает моего удивления, – неужели та самая Ольга Петровна, случайная моя посетительница с мертвым лицом?
– Проводите нас, вот тут, за углом, лавочка наша: новенькая. Прогорают нынче многие, а мы ничего, понемножку. Конечно, я больше, но и он тоже. Здоровье только у него, ну да что ж, после всего, после всех этих ранений. Теперь, слава Богу, может пожить спокойно. Так хорошо случилось.
– Все ты… – произнес старик и с привычной нежностью поглядел на свою старуху.
Я проводил их до чистенькой лавочки, где лежали, в окне, огурцы, колбаса, пирожки.
– Заходите как-нибудь, – приглашала Ольга Петровна. – Вот я вам порасскажу! Чего только с ним, да со мной, не было!
Но я уже и так, на пути к лавочке, понял главное. Понял, что любовь У Ольги Петровны была настоящая и что любовь эта была нужна.
РАДИ МАШЕЧКИ
Роман Иванович Никитин отпустил шофера; с заседания торгового русско-французского общества, где был членом, он часто возвращался пешком. Приятно пройтись по темным левобережным улицам, а то и завернуть на светлые, шумные, выпить кружку пива в каком-нибудь кафе. Главное – домой его не тянуло, в удобную и уютную квартиру; порядок, довольство и такое одиночество! Человек деловой, прямой, как будто суровый, – жизненным одиночеством он всегда тяготился, а теперь, к старости, особенно. Да что будешь делать!
В кафе, куда зашел Роман Иванович, было шумно, тесно, душно и как-то выпукло, до наглости, светло. Публика самая разнообразная и привычно одинаковая; Роман Иванович любил смотреть так, видеть всех – и никого. Любил и слушать говор вокруг – и не слушать. Но вдруг русская фраза, благо сзади него произнесенная, и другая, ответная, остановили внимание. Не обернулся; он видел в зеркале очень ясно сидевшую за ним компанию. Глаза у Никитина были зоркие, слух тонкий, да и компания, говорившая вперемежку то по-русски, то по-французски, ничуть и не стеснялась; плотный старик с аккуратно подстриженной седоватой бородкой, прекрасно одетый, сидящий к тому же спиной, ее не занимал.
Четверо: 3 молодых человека, на первый взгляд неразличимые, – с подклеенными волосами, с четвероугольными плечами, – и барышня в темном берете, очень молоденькая, очень бледная. Приподнятая верхняя губка давала ее лицу презрительное выражение. Барышня и один из компании были, кажется, французы: лишь двое других перекидывались иногда русскими словами.
«Саврасы», – подумал Роман Иванович, прекрасно зная, впрочем, что название это не совсем подходит к известному ему типу «кофейной» парижской молодежи. Тип вообще неопределимый. Молодые люди без занятий и не желающие никаких занятий, живущие изо дня в день «pour s'amuser» [77]. Социальное, семейное и материальное положение малую играют роль: обычно все это среднее, бывает и ниже среднего, и выше. Поглощенные главной целью, они изобретательны в изыскании средств; не брезгуют никакими; и тут уж все зависит от случая и ловкости. Но длительных удач не бывает, так как остановиться ни на какой уже нельзя.
Все это думал Роман Иванович, следя в зеркало за молодой компанией, и тут же осудил себя за суровость: «Что это, Господи, да чем они, такие, виноваты? Особенно русские, мало ли брошенных, сызмальства непритык? И времена-то какие нынче! Сколько пропащих зря. Хотя бы Никаша Машечки покойной, где-то он, бедняга?».
Любимая «Машечка» – была вдова Чалова: Роман Иванович женился на ней во времена войны. В первый же год эмиграции, в Берлине, она бросила Никитина ради немецкого офицера Типица, лет на десять ее моложе, ушла к нему, вместе с маленьким сыном. Когда, через несколько лет, Роман Иванович услышал стороной (на письма не отвечала), что она умерла, поехал в Берлин, из Парижа, но ничего толком не добился; и куда девался Типиц с пасынком, так и не узнал.
Молодая компания, между тем, болтала все оживленнее. Обсуждался какой-то блестящий план.
– Нет, ты простофиля, mon vieux [78], – сказал русский молодой человек постарше, черноволосый, с кривым и нагловатым лицом. – Упустил тогда «боперчика» номер второй… да я бы сам лучше на американке той женился, а не позволил бы себя rouler! [79]
– Ну, эти коровы, – проговорил, морщась, другой, тонкий, блондинистый, с синими подглазниками. – Да и разве я мог тогда жениться? А про этого, ном. 1, у меня из головы вон. Недавно только, случайно, узнал… И сообразил…
– Главное, все заранее установить, – сказал первый. – Ты расскажи толком, вместе обдумаем.
Заговорили по-французски. Героем предприятия оказывался блондинистый юноша. Он был полон надежд. Молодой француз настаивал, что тут нужно знать психологию «старика» и с ней считаться. Если он, действительно, сентиментален и действительно богат… Но он может быть хитрым деспотом…
– Не беспокойся, – кричал блондинистый. – Я даже письма его к ней открыл. Чувствительнейшее сердце. Не то, что этот ном. 2, которому я был так глупо поручен! На этой струнке и будем играть. На днях, вы увидите…
– J'aurai mon renard, Nick? [80]– сказала, не улыбаясь, барышня с презрительно поднятой губкой.
Опять заговорили сразу, и блондинистый, – что renard! А вот, если Удается ауто добыть, да в Sable d'Olonne вместе, pour une quinza-me… [81]Да и тем не кончится. Ведь все известно-Много еще говорили, подробно. Роман Иванович, не отрываясь, смотрел в посиневшее от табачного дыма зеркало. Когда в первый раз
у него стукнуло, толчком, сердце и холод побежал по спине вниз, он подумал: «Вот, говорят, не бывает…» – но додумал уже без слов, – мгновенным представлением: «Говорят, что не бывает случаев таких, встреч случайных и узнаваний; а вот – бывает же, потому что ведь это, блондин этот, Машечкин Никаша. И говорит он обо мне, – это я бопер ном. 1, богатый и чувствительный, и это у меня он придет денег просить для своей компании, для ренара для девицы; и психологию это мою они обсуждают…».
Сомнений у него не было, да и не могло быть: слишком обстоятельно рассказал все блондинистый; иные подробности были Роману Ивановичу неизвестны, но все связывалось. Да теперь он уж и узнавал белые Никашины ресницы, – Машечкиного диковатого мальчика в развязном молодом человеке с подклеенными волосами.
Заплатив за недопитое пиво, Роман Иванович тяжело поднялся и, не обернувшись, вышел.
Дела, конечно, не ждали; они и шли своим чередом, но около дел была, в эти дни неотступающая мысль о Никаше. Роман Иванович, человек справедливый, прямой и решительный, впервые, кажется, находился в смятении и не знал, как ему, по справедливости, с Никашей быть. Он когда-то вел немалые дела с заграницей, считался, в коммерческом мире, одним из дельцов самых надежных и честных; состояния, попав в эмиграцию, не потерял, с течением времени приумножил; но сказать, что гонялся за деньгами, никак было нельзя. Имел только руку легкую, и когда деньги шли, заботился, главное, распорядиться с ними умно и по справедливости. Беду с Машечкой принял мужественно, – воля Божия, сердца не насилуешь! Обеспечил ее с мальчиком (да у нее и свои деньги еще были). А вернулась бы – с любовью назад бы принял. Но не вернулась. Ища потом следов, Роман Иванович не раз думал, что мальчика хорошо бы к себе взять. Ради Машечкиной памяти, образованием его озаботился бы, в люди вывел бы; пригодилось бы тогда имение его, и опыт; да и утешение какое в одинокой старости.
Давно это было. И вот когда только нашелся Никаша! Ему уж теперь под тридцать. Роман Иванович слишком хорошо знал жизнь и людей, чтобы после встречи в кафе обманывать себя насчет Машечкиного сына. Не переделаешь его. Но… как все-таки быть с ним теперь «по справедливости»? Ведь он придет.








