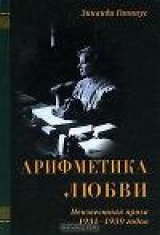
Текст книги "Арифметика любви"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
Тихон помолчал.
– Так. После вам скажу. Я ее раз на мостках видел… Да что, пустое, нечего вам, после скажу.
Вадим встал.
– Ну, как хочешь. Прощай, я спать пойду.
Остановившись, поднял голову. На бархатно-синем небе дрожали крупные звезды. Точно длинные ресницы дрожали…
– Да, Тихон? За кого же Василиса-то выходит?
– А вот, не угодно ли, – завел монотонно Тихон, – вот скажи подобной дуре здешней пустое какое слово, сейчас каламбур этот нацепила, и ходит, как настоящая, и ходит…
Вадим не дослушал, не понял, да ему было все равно, за кого выходит Василиса. Он думал о другой.
* * *
В июне пошла жара. Тихон здешнюю жару с отвращением называл «палючей»; уверял, что в его стороне жара «христианская», а такой не бывает. Правда, Филевка лежала среди необозримых полей и луговин, на которых разбросаны были хутора, в шапках кудрявой зелени садов. И ни реки вблизи, только повсюду, на хуторах, «сажалки», – широкие пруды. В филевском парке славная была сажалка; да парк такой густой, тенистый, что если забраться – жары не чувствуешь; во фруктовом саду – конечно; но там дыни, арбузы, смородина, вишенье, дули и сливы всех сортов радостно подставляли наливные свои брюшка под лучи солнца. А кармазинные яблочки собирались алеть во все тельце, и даже насквозь, до самого нутра.
У Вадима было излюбленное место в парке: забирался меж кустов, недалеко от тополевой аллеи, ложился в траву, густую, высокую, и лежал так часами. Думал? Вряд ли; хотя ему было о чем подумать.
Если, как нынче, отыскивали его девочки и присаживались около, – не очень был доволен. Знал, что болтовня их непременно сведется к Агате. Вот и сейчас.
– Как ты думаешь, Вадя, чем ее так обидели, на первом месте, еще во Франции, что она убежала? И в той семье, что в Киев ее завезла, тоже? Это счастье, что папа встретил ее в конторе и нанял к нам. Она сиротка, ее нельзя обижать. Мы ее ужасно любим.
Вадим промолчал, а Маня, с виду как две капли воды похожая на Милю, но более серьезная, сказала:
– Мы-то любим, а вот другие, тете Пратя, например, и вообще в доме, даже Тихон… Они ее не любят.
– Папа никому не даст ее обидеть! – вспыхнула Миля. – Никому! Что ты думаешь, наш папа будет со всякими дурнями и с самой тетей Пратей считаться?
Девочки обожали отца. Вадим – что говорить: у него к отцу был даже какой-то культ. Вадиму казался он самым красивым, умным, смелым, самым прекрасным человеком на свете. Они были не близки. Может быть, само чувство обожания и веры в отца мешало близости.
Девочки еще поболтали о новой гувернантке и убежали. Вадим остался со своими думами, теперь постоянными.
Большой Вадим был еще маленьким, но не совсем. Он еще раза четыре был влюблен, – весьма издали, правда, – но так, как сейчас влюблен в Агату – никогда. Не понял даже сначала, что это влюбленность. Да и была она не совсем обыкновенная. Он мало говорил с ней: острая и сладкая боль, при встречах, делала его непобедимо робким, смущенным, а то, что и она смущалась, беспомощно опускала ресницы, совсем лишало его самой простой смелости. А между тем, эта ее пугливая робость, какая-то беззащитная чистота, к ней и влекла особенно. Он догадывался, как и чем ее «в чужих людях» всегда обижали, почему она отовсюду «спасалась». Ну, теперь, зато теперь…
А что не любят ее «в доме» – чепуха, конечно. «Чужая», да еще держится от робости, как чужая… Вдруг он засмеялся, вспомнив Тихона. На днях, в ночной беседе на крылечке, Тихон таинственно сообщил, что «мамзель», по его убеждению, из ведьм: видел ее на мостках, У сажалки; сидит, «волосы черные, длиннущие, по плечам, месяц – во! Светит на нее, она на месяц глядит, и ни гу-гу. Обязательно, из ведьм. На это и у Грицька есть понятие». Вадим тогда рассердился на Тихона, теперь ему смешно.
Тишина в саду. Даже кузнечики будто замолкли. Вадим, закинув руки за голову, смотрит в небо. Оно, от синевы, кажется особенно высоким. «Зачем я ее люблю?» – думает он: «Ну что, ну что из этого может выйти? Разлюблю? Нет, наверно никогда, и не хочу, и не желаю, и не могу… это уж наверно. Самое ужасное, что мне только пятнадцать… четырнадцать лет. Если б я был большой, я бы сейчас женился на ней… то есть если б она меня полюбила, конечно… все-таки можно бы тогда надеяться, что есть исход. А теперь безысходно. И глупо мечтать, что, вот мол, когда я вырасту… Ребячество. Может, мы все умрем к тому времени…».
Так он полудумал, полумучился, сам не зная, грустно ему, больно, или сладко… Шаги в близкой тополевой аллее прервали эти размышления. Сел, прислушался. Кто это? Разговаривают. Вадима не видно, но и ему не видна, или чуть видна, аллея, теперь, к вечеру, еще потемневшая. Шаги ближе. Нет, не разговор: говорит тихо, почти шепотом, один. Вдруг Вадим уловил французское слово. И в ту же секунду узнал голос. Узнал – и не узнавал: такая была в нем горячая, дерзкая настойчивость и еще что-то… слов Вадим не различал, да и нужды не было, они и так угадывались. Другой голос, испуганный и нежный, произнес что-то и вдруг оборвался на тихом вскрике. Шорох, легкие, убегающие шаги, но за ними другие, быстрые, твердые… И все кончилось.
Все кончилось, сразу, но Вадим не сразу все понял. Понимание входило в него медленно, тяжело. Ничком лежал в траве. Не плакал. Эти три минуты что-то сделали с ним огромное. Что-то перевернули в нем, и внутри было теперь непривычно холодно и непривычно ясно.
Пришел домой к ужину. Очень спокойный. Агаты не было: «У нее мигрень», – сказали Маня и Миля. «От жары, верно», – заметил отец. Он был, как всегда. Как всегда прошел, перед чаем, в свой угловой кабинет, с маленьким балкончиком, прямо в сад. Вадим остался. Но через несколько минут вдруг, молча, последовал за отцом в кабинет; это уж было совсем не как всегда.
Рассеянно-ласковая улыбка, даже не удивленная.
– Тебе что-нибудь нужно, милый?
– Да, нужно.
Если бы Вадим хоть на секунду усомнился в себе, в своем решении в том, что надобное должно и будет сделано, – еще неизвестно, как бы дело кончилось. Но Вадим ни в чем не сомневался. И сказал, не понизив голоса, кратко:
– Папа. Ты влюблен в мадемуазель Агату. Если влюблен, и если она согласится, кончи с ней по-хорошему. Я так решил. Обижать ее, все равно, я не позволю.
– Что-о?
Валериан Михайлович быстро поднялся. Они стояли теперь лицом к лицу, оба почти одного роста, с одинаковыми, крепко сдвинутыми, черными бровями. Эти полминуты, когда они так стояли и молча глядели друг на друга в глаза, для Вадима были, пожалуй, не менее важны, чем недавние три минуты около тополевой аллеи.
Но кто-то пробежал мимо, по коридору, засмеялись дети…
– Идем в парк, – сквозь зубы, проговорил Валериан Михайлович, сжав руку Вадима, повыше локтя, сильными пальцами. Вдвоем, спустились они со ступеней углового балкона и пропали в теплой и душистой ночной черноте.
И удивилась же Филевка: Валерьян-то Михайлыч ихний на мамзели женился! И обвенчался словно крадучись: поехали, без барышен, с панычем с одним, утречком, после Успенья, в Бобринскую церковь, окрутились, да тем же махом назад. Грицько и тот «не чуял», пока туда их вез. Тетя Пратя, узнав, так и села, заплакала. Слыхали потом, Усти-нье жаловалась, грозилась со свету «Агашку» сжить, на что Устинья резонно отвечала: «Чого ще! От той госпожи обиды не буде, нехай живет!». Девочки были в восторге: как интересно! Своей матери они не помнили (как и Вадим), а мачехой Агату не признавали, – ведь это все та же m-lle Агата!
К удивлению Вадима, Тихон принял женитьбу барина на «чужачке» (и еще «из ведьм») с видимым удовольствием. Это скоро объяснилось: заводил-заводил речи о дурах, «пустое слово им скажешь, она уж рога свои напялила», а в конце вышло наружу: Василисин жених он и есть, сам Тихон. С презрением фыркал, когда тетя Пратя говорила, что его, «москаля», здешние парни за Василису побить собираются: «Русский человек ничего не боится».
А дни, меж тем, бежали, и вот, снова едет Вадим, по той же дороге, с тем же Грицько и той же Хмарой на пристяжке; только не со станции – а на станцию, к поезду киевскому. Все будто то же, но все переменилось, или перевернулось. Другие запахи, другой свет и пустые, скошенные поля – другие: на них и над ними – тишина.
Вадим молчит, но вовсе не от прежнего «блаженства»: он о нем забыл; а если б припомнил, то ему показалось бы, вероятно, что это было с другим, не с ним, или тогда, – давным-давно, – когда он был «маленьким».
Блаженства нет, но нет ни боли, ни тоски. Что же, пока так, как надо. Дальше – целая жизнь; он о ней не думает. Он ни о чем, вообще, не думает. В нем, как в воздухе этом осеннем, как в опустевших скошенных полях, – простота и тишина.
ДВЕ ДАМЫ
(Сережа Чагин)
I
…Предчувствую: изменишь облик Ты…
А. Блок
– Как трудно жить, – думал Иван Павлович Чагин, возвращаясь домой.
Жить ему, действительно, было трудно и вовсе не потому, почему трудно другим: внешняя жизнь кое-как сложилась, он имел заработок, небольшой, правда, но работа интеллигентная; вдвоем с сыном Сережей ему было достаточно. И Сережа – мальчик хороший. Нет, главная трудность в том, что Иван Павлович не мог удовлетвориться собственной жизнью: смотрел, как идет жизнь кругом, и ему казалось, что она идет плохо. А помочь нельзя, во всяком случае, не он, Иван Павлович Чагин, этому поможет: не говоря уж ни о чем другом, – уважение к человеческой свободе так в нем было сильно, что он, теперь, даже в резкие споры избегал вступать, предпочитал отдаляться от несогласных и был очень одинок.
Последнее время так случилось, что он видел больше Сережиных товарищей, самую зеленую молодежь. Так как Сережа всем заявлял: «Папа – мой друг», то он, зная, что присутствием не стесняет, часто слушал их разговоры. Мальчики эти и молоденькие девушки ему нравились: одни больше, другие меньше. Но в разговоры сам он не вступал никогда: ведь это все «пореволюционеры»; Иван же Павлович был революционер просто.
Революционер? Пожалуй, сказать это о нем сейчас, – и неверно. Одно верно, что и сейчас он, в глубине, таков же, каким был. А был, в предвоенные годы, одним из хороших русских студентов, честных, со средним умом и с большой совестью. Все это, – особенно безотчетная влюбленность в «свободу», которая, в молодости, походила на влюбленность в «прекрасную даму», или в «далекую принцессу», – привело его, вместе с другими студентами, к партии «социалистов-революционеров». На первых ролях он там не был; возможно, что ему больше подходило бы стать «народником»; но так уж случилось, и он ни о чем не жалел. В душе, с молодости, была у него, должно быть, какая-то крепость и сохранилась, несмотря на все пережитое: октябрь, добровольчество, тяжелое ранение, эвакуация, и, теперь, жизнь в чужой стране. В Турции он женился на сестре милосердия, много старше его. Жена умерла, когда Сереже было 12 лет. С тех-то пор они особенно и
«сдружились»: мальчик вырос на полной свободе; а вот худого не вышло. Серьезный только чересчур, и это уж в натуре.
Все-таки, – «трудно жить», – говорил себе Иван Павлович, взбираясь по лестнице в пятый свой этаж. Хотел бы не повторять этого, – зачем? а повторялось.
Квартира удачная: две маленькие комнатки, а третья большая: в ней-то и собирались Сережины друзья – «по-революционеры».
Сережа был уже дома. Ивану Павловичу показалось, что он как будто задумчив, или озабочен. Темные, разлетающиеся брови сдвинуты, лицо, с которого еще не сошла детскость, но уже энергичное, – бледновато. Иван Павлович все это заметил; ни о чем не спросил, – сам скажет, если захочет.
За обедом (все нужное им с утра готовила приходящая прислуга) Сережа проговорил, немножко вскользь: «А я больше не участвую в «Нашей России». (Это был маленький «пореволюционный» журнальчик.)
– Почему? – спросил Чагин. – Ведь ты ее даже редактировал.
– Так. Не хочется. Пусть Андик редактирует. Или Боря Тайранов. А Лелечка Бер тоже выходит. И другие еще, кое-кто.
Иван Павлович, конечно, знал, что «пореволюционеры» не единое что-нибудь, а делятся на группы, часто между собой не согласные. И скорбел об этом, понимая, что поверх несогласий у них, как у его поколения, среднего (Иван Павлович далеко не стар), тоже есть своя «прекрасная дама», одна у всех, и называется она «Россия».
– Я, папа, очень-очень серьезно хочу с тобой поговорить, – сказал Сережа, вскинув на отца живые, темные глаза. – Хорошо?
Они устроились за прибранным столом, закурили.
– Ты поймешь, папа…. Я не от группы нашей сейчас говорю, это у меня личная мысль. Я тебе расскажу, а ты обдумай. На прошлой неделе, у капитана…
– Ну, капитан! – отмахнулся Иван Павлович.
– Знаю, знаю! Ископаемый. И нелепо ввязывается еще в споры. Мы туда ходим… я, по крайней мере, скорее для Ариши. Она очень страдает в этой атмосфере. Постой, так вот: были там кое-кто из наших и Лелечка. Поднялся спор, ну, о России, конечно, какой она должна быть, кто какую любит. Все зря, и возмутительно. Лелечка, посреди этого, – ты знаешь, какая она смелая, – вдруг говорит: «А я никакой России не люблю, я никакой не знаю, ни новой, ни старой». Капитан и не опомнился, как Ариша тоже: «И я, – говорит, – не люблю, любить, это – чувствовать, по-живому, а я по-живому Россию не знаю, ни капельки, ну, и не чувствую…». Все, конечно, в ужасе. И я в ужасе.
Иван Павлович улыбнулся:
– Потому что ты – чувствуешь?
– Да. Она не права, не права! Отлично вижу. А вдруг все-таки немножко права? А, папа? Вдруг ты, например, больше чувствуешь? Ты какую-то Россию видел, знаешь, а я ведь никакой? Мы с тобой разные, хоть ты и все понимаешь. Я только во сне иногда…
– Конечно, разные, Сережа. Вот ты сказал «во сне»… Во сне Россию видишь, да? Будто вернулся… то есть я хочу сказать, приехал, и сон смутный, но радостный, да? Я тоже, во сне, будто вернулся… только самый это у меня страшный, тяжелый сон. Видишь, и сны у нас разные.
Сережа искоса взглянул на отца. Иван Павлович знал этот взгляд, подмечал его, если не у Сережи, – у других. Даже прозвал его, для себя, кратко, двумя словами: «серебряные ложки». Для них, юных (о, бессознательно, невинно!) все «старые», от капитана до Ивана Павловича, без различия, если имеют что-то против России, то это, главное, из-за своих там «потерь»… Можно и не грубо понимать, но сущность остается; это отношение молодежи Иван Павлович и обозначал про себя грубыми «серебряными ложками».
– Да, насчет снов, – это так, – заторопился он. – Ты скажи свою мысль. Что ты надумал?
Прошло полминуты молчания. Сережа поднял голову, посмотрел отцу в глаза и сказал:
– Я хочу поехать в Россию.
Опять молчание. Иван Павлович не был удивлен: он будто этого ждал. Понимал, что не выходка Лелечки причиной, – все вместе и уж давно… Ему было известно, что немалое количество русских студентов, одиночек, и связи с эмиграцией не имевших, уже уехало в Россию. Это, думалось, особый тип оевропеивавшихся современных юношей с чисто практическими задачами. У Сережиных товарищей и у Сережи – другое, и сами они другое.
– А как же… кружки твои? – произнес, откашлявшись, Иван Павлович.
Сережа заговорил; спеша и немного путаясь, старался объяснить, что «кружки», хотя и разные, но везде только «болтовня», а никто путем не знает, чего хочет; и что «лучшие» у них давно уж считают, что никому о России верить не стоит, а нужен опыт, – «экспериментальное касанье»…
– Ты, папа, если захочешь, – можешь понять. Тебе это неприятно, но ты постарайся стать на другую точку зрения. Против тебя я, конечно, не пойду, только ты подумай: когда меня спрашивают, – что ты там будешь делать? Я отвечаю: а здесь, что я делаю? Да я и не собираюсь там сейчас же что-то «делать», а просто хочу сам увидеть, сам понять. Скажу тебе по секрету, кое-кто из наших так же думают. Только большинство не от себя зависит, Ариша, например… Лелечка скорее. А я, – ты, папа, если поймешь, не прямо запретишь, ты мне очень поможешь. Я даже раз подумал… да все равно.
– Что подумал?
– В конце концов, ведь может случиться, что и ты… – с виноватой улыбкой начал Сережа. – И ты, как-нибудь после, надумаешь… Ведь сегодняшней России ты тоже не знаешь? А что был когда-то добровольцем, на это уж не смотрят, ей-Богу.
Он запутался и смолк. Иван Павлович улыбнулся, покачал головой, предложил только разговор пока прекратить: «Я подумаю, мальчик; вместе и решим твое дело. А теперь вон кто-то звонит…». «Это, наверное, Ден и Лелечка!» – закричал Сережа и побежал в переднюю.
Немало дней прошло, а Иван Павлович все еще «думал». Прежде всего, он постарался отстранить от вопроса себя и свое: свою боль от разлуки с сыном, свой страх за него, свой страх одиночества (может быть, последнего?). Нет, только так, как нужнее, важнее, разумнее – для Сережи. Он знал своего хорошего мальчика. Он понимал, что его влечет к «далекой принцессе», к «прекрасной даме» – России. Не так же ли влекло и самого Ивана Павловича к его прекрасной даме – Свободе?
Вот она где, горючая рана, – и опять о Сереже: поймет ли он, свою Даму увидев, почувствует ли, что и та ему нужна, прежняя, «старая», которая живет в душе «старого» Ивана Павловича? От нее не откажется Сережа (как сейчас не понимает и не может понять, сколько ни объясняй), – вот тогда настоящая разлука, уж, действительно, навсегда, душевная…
«Что ж, естественный разрыв между ближайшими поколениями», – усмехался, про себя, Иван Павлович, но усмешка выходила насильственная. Потому что и не хотел он, – а все-таки чувствовал, что между его «прекрасной дамой» и Сережиной нет разрыва, не должно быть, а если есть, – он неестественный.
Тяжелые эти дни размышлений не были, в сущности, нужны: Иван Павлович с самого начала знал, что ни запрета на Сережу не наложит (еще бы!), ни даже увещевать, чтоб он отказался от поездки, не будет. Увещания, идущие от того, кто имеет власть «запретить», тоже своего рода насилие, – так, по крайней мере, рассуждал Иван Павлович. Если б он верил в Бога, то, вероятно, свое решение выразил бы просто отдачей Сережи в волю Божью. Но, с тем же решением, Иван Павлович сказал себе: «Пусть мальчик мой действует свободно. У него хорошая натура. Он поймет… если нужно и когда нужно. На это и стану надеяться».
Стараясь говорить спокойно, задержал раз Сережу после обеда и объявил, что намерение его обдумал и в принципе не возражает. «Только насчет формальностей… боюсь, не сумею тебе тут помочь. Придется уж самому, ты посоветуйся…».
Сережа вспыхнул, немного растерялся.
– Да, да… Я ужасно рад, папа, что ты – ничего. Я, впрочем, так и знал. У нас много спорят; я не со всеми согласен… Но, главное, конечно, остается. Знаешь, мне трудно будет без тебя, папа. Но ведь я же не совсем, мое задание этого не требует. Мы его не скрываем. Что тут спорить еще? Ну, да обо всем нашем я после тебе расскажу.
Иван Павлович на дальнейших объяснениях не настаивал. Надо выждать. Однако потянулись дни, потом недели, – Сережа, непрерывно задумчивый и молчаливый, разговора не заводил. А Ивана Павловича стали мучить в это время какие-то неожиданные – и «не осмысленные», как он себе говорил, – мечтания: во-первых, – новая надежда: не та, отдаленная, дозволенная, – «поймет после, на опыте», – а другая: «Ведь еще не уехал… мало ли как еще обернется…». Во-вторых, не совсем понятное беспокойство совести: так ли уж он, Иван Павлович, прав, все возлагая на Сережу, от малейшего ему словечка воздерживаясь? Не умовение ли это рук? Хорошо – принцип свободы, но любовь-то с принципами не всегда считается…
Иван Павлович старался гнать от себя эти «мечтания». Теперь, когда у Сережи собирались, даже уходил из дому, нарочно. Да теперь редко собирались.
– Нет, спрошу, наконец, – думал Иван Павлович, возвращаясь вечером домой. – Что ж это, ведь точно нас разделило вдруг… Это неестественно.
Сережа встретил его в передней.
– Сережа, – начал Иван Павлович, – я хотел тебе сказать…
– Нет, папа, это я хотел, постой, подожди! Сейчас вот Лелечка Бер приходила, она так же… Я тебя ждал… – торопился Сережа, идя за отцом в столовую. – Я тебе в двух словах. Ты должен понять…
Иван Павлович опустился в кресло.
– Папа, мы раскололись, – продолжал Сережа. – То есть несколько человек из нас откололись. Вошли в сношения с другими, ну, и с теми, с кем нужно, по делу, по нашему. Они – «да, да, конечно, это легко устроить». Но – точно издевка! давно вижу, просто обманывают. Для чего? Какая цель? Я, наконец, потребовал, чтобы нам прямо ответили: да или нет? Если нет – почему? Мы же ничего не скрывали, – испытывать они нас, что ли, хотят? Подождите, мол, годик, и здесь вам дело найдется… Какое? Мне все это, папа, отвратительно. И какая они Россия? Я им так и сказал. Даже сказал, что Россию они от нас не запрут, захотим – и без них обойдемся.
В волнении, Сережа бегал по комнате, глотал слова. Иван Павлович прервал его, сказал твердо:
– Нет, Сережа. Ехать «без них», это – другой разговор. Ты свободен, конечно, но я требую, – слышишь? Требую, чтобы ты не в возбуждении чувств действовал. Чтобы ты своим маленьким опытом… ну, не о России, а насчет России, воспользовался, серьезно-серьезно над ним подумал. Понял бы хоть кое-что по-настоящему.
Сережа утих. Остановился, постоял, молча. Потом подошел, присел на ручку кресла и, по детской, мальчишеской привычке, прислонился головой к виску Ивана Павловича.
Отец тихонько погладил его по руке.
– Знаю, милый, знаю. Ты хороший у меня человек. И другие, друзья твои… А Россия – она от вас не уйдет… живая Россия.
НОЧЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
(Из воспоминаний)
Помнится мне одна пасхальная ночь.
Это было в Петербурге, в те далекие времена, о которых кажется теперь, что их и вовсе не было. Впервые поднялся тогда «железный занавес» за Николаевским вокзалом, отделявший «светский» Петербург от «духовного», церковного, от Александро-Невской Лавры со всем его населением и с особым его бытом: тогдашний обер-прокурор Победоносцев разрешил религиозно-философские собрания. Полутайные, правда, без «гостей», только для членов, но это не помешало сделаться им сразу очень многолюдными. Почин шел от «светских»; духовенство откликнулось горячо, даже высшая иерархия, не говоря о молодых приват-доцентах Дух. академии, принявших «сан» и еще не принявших.
Получить разрешение было нелегко: дело новое; подействовала, кажется, кем-то брошенная мысль, что это будет «миссия среди интеллигенции».
Председателем собраний был еп. Сергий, – тот самый, что 20 лет, при большевиках, возглавляет гонимую церковь, нынешний «местоблюститель» патриаршего престола. В те времена он был ректором Духовной академии, несмотря на молодость. Помню его хорошо: скромный, тихий русский человек; красноватое, широкое, добродушное лицо; блестят очки; русые волосы – вялыми прядками по плечам. Он так молод, что юные приват-доценты Дух. ак. (новые наши приятели, Карташев между ними) все боятся окликнуть его «Ваней»: они однокашники.
Еп. Сергий – не номинальный председатель, а настоящий, на каждом собрании присутствующий и нередко своей кротостью смиряющий страсти споров. А споры между сторонами, «светской» и «духовной», бывают горячие и ведутся свободно, как нигде.
Не помню, кто дал еп. Сергию мысль пригласить некоторых членов собраний, в ночь Светлого Воскресенья, на хоры лаврской церкви. Мы, конечно, с удовольствием на приглашение откликнулись.
Странная это была ночь. Впрочем, пасхальная ночь в прежнем Петербурге, когда «пустынны улицы, а храмы многолюдны», всегда казалось странной. Даже если не заходишь в церковь, а лишь из холодной, бездонно-весенней темноты глядишь на извивающиеся факелы на верхних углах Исаакиевского собора, на эти огненные языки громадных небесных змей; или, если посмотришь в узкие окна маленького храма где-нибудь в переулочке и видишь кудрявое золото бесчисленных свечей, что трепещет внутри; везде, и там, внутри, и на темных улицах, одна притихшая странность – ожидания. Точно и воздух замолк, от неба до земли; точно и он ждет, сама тишина ждет… чего? Какой небывалой, какой невыносимой радости?
Много мне помнится этих зеленовато-темных, петербургских ночей. Но та, о которой говорю, была по-другому странна; и, вначале не имела, пожалуй, особенно торжественного настроения.
Академическая церковь примыкала к самому зданию академии, расположенной внутри лаврской ограды, в саду-парке. Дверь на хоры была прямо из широкого коридора во втором этаже. По сторонам коридора – двери в громадные, точно залы, жилые комнаты монашествующих иерархов-академистов. В одну из них дверь стояла настежь: там «хозяева» (участники собраний) приготовили нам «разговенье» на двух больших столах.
Но вот – пора, и мы идем, через коридор, в хоры. Они как раз против алтаря. Вся церковь нежно и длинно круглится под нами, с узкими окнами по бокам. В окнах еще поблескивает небесная зелень, – церковь темна, только тают, истаивают крупные свечи у плащаницы, да недвижным рдением разноцветятся в углах лампады. Полутемень – густее внизу: церковь полна народом. Гулко прокатывается голос чтеца, но звук лишь стены облетает, а в середке – шелестящая, живая, людская тишина.
А вот вспыхивают один за другим огни. Еще, еще… Светлее, но не светло. Загораются точками золота ризы, и тяжело колеблют хоругви негнущиеся полотнища…
Служба началась. Вновь, сразу, потемнело в церкви, – ушел крестный ход. Огни роятся за окнами, мерцают, мелькают. Пенье едва слышится: двери заперты.
И вдруг – сразу вскинулось, потоком вхлынуло с огнями, золотыми сверканьями, с людским дыханием и теплым восковым дыханьем свечей: «Христос воскресе из мертвых…».
Заутреня не долга, даже и в «сослужении». После «розговен» в нашей комнате (не совсем все-таки похожих на «светские» разговены, ведь рядом шла служба – на всю ночь) – многие уехали. Мы – остались.
В пасхальную ночь ранняя обедня особенно длинна. Еп. Сергий читал Евангелие, по уставу, на разных языках. Пасхальное пение все время, как бы нетерпеливо-радостно, прерывает службу. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес!».
Но кончилась и обедня. Опять люди, люди, рясы, кресты; помню, кажется и утомленное, доброе лицо Сергия…
Все прошло, затихают голоса, даже шаги. Мы почти одни, надо одеваться и уходить. Двери из коридора в церковь все так же раскрыты настежь. Почему мы не спускаемся сразу к выходу? Я не знаю. Но мы не спускаемся, мы еще раз идем в темную дверь, туда, на хоры. В церковь.
Церковь этой краткой минуты запомнилась мне навсегда. Что было в ней? Разве это не та же самая церковь, которую мы только что видели в ее торжестве из торжеств, в ликовании и сияньи? Да, та же самая. И странно, и страшно – другая.
Она была пуста. Сумеречна, но не темна. Рассветно-холодными полосами зеленели узкие окна. А там, за окнами, еще не догорели костры, и дрожащими, багровыми пятнами отливала зелень окон.
Церковь пуста – и вся полна тяжко плавающим кадильным дымом. Вот это, должно быть, и было ее страшное: пустота – и прозрачная, призрачная наполненность. Колеблется душный дым: он сизый, ало-сизый, – но не от зари его алость: темная алость, от пламени костров за окнами.
Нет, не пустота, – опустенье. И тишина другая: не ждущее прити-ханье перед радостью, но тишина замирающая, тяжело падающая, как и волны фимиама.
Почему так запомнилась эта минута, – эта жуткая и грозная красота опустелого храма, сизые дымы его в отсветах дыма и крови?
ФОН И НЕ ФОН
Жили они тогда в Зачатиевском переулке, у Воскресенья на Остоженке, и Лизочка еще бегала в гимназию.
Первой ученицей не была, да и о том не заботилась. Любимые «предметы» всегда знала отлично, лучше всех.
Самые любимые – греческий и математика, особенно – геометрия. Греческий нравился потому, что «ничей», никто на нем не говорит; говорили какие-то древние, таинственные люди (о них тоже интересно); кроме того, и звуки нравились: вот как начало Одиссеи: ну, точно музыка. А геометрия – другое: Лизочка любила ее за фигуры, за линии, такие стройные, ясные, и, в то же время – «воображаемые». Их как будто нет нигде: а вот я и их рисую, и они очень есть, даже есть «доказательства».
Еще нравился Лизочке «русский»; он и давался ей, только «сочинения не выходили». Как задаст учитель тему, так Лизочке и покажется, что именно об этом она ничего написать не может, да и не хочет писать.
Для нелюбимых предметов не хватало у нее и времени: сядет учить скучный урок и задумается совсем о другом, о чем-нибудь непонятном: его столько вокруг. Ей постоянно приходили в голову всякие «отчего?», «почему?» и «как?». Но спрашивать – терпеть не могла, в крайнем разве случае; ведь можно, пожалуй, и самой понять, решить, если подумать.
Еще совсем маленькая, все доискивалась: как она папу любит, как маму и кого больше? Теперь папа умер, мама, конечно, первая. Но за ней еще осталось много кого любить. И Лизочка, хотя уже большая, нет-нет, и раздумается: как она этих близких людей любит и какие сами они разные.
Две бабушки… Нет, впрочем, только одна, мамина, а другая папина, Grand'mama. Бабушка всегжа жила с ними, a Grand'mama всегда в Москве. Когда Лиза была маленькая, они только наезжали в Москву. Теперь, после папиной смерти, совсем туда переехали. Квартира в двух шагах, в угловом' белом доме, как раз против Воскресенья. Лизочка постоянно туда забегает. Grand'mama с ней дружит.
Это хорошо, что она не позволяет звать себя «бабушкой». Нельзя же одинаково звать таких разных-разных, как она – и бабушка, что с ними живет.
Бабушка – маленькая, сгорбленная, так что ситцевый подол у нее спереди всегда свисает. На голове платочек; медные очки с тесемочкой, вяжет чулок на спицах и нюхает табак из берестяной тавлинки. Бабушка никогда с ними за столом не обедает, у себя кашу только: зуб всего один. Пьет чаек с клюквой, чайную посуду любит перемывать. Бабушка не умеет ни читать, ни писать.
Сколько раз Лизочка спрашивала: «Неужели, бабушка, ни одной буквы не знаешь? Хочешь, я тебе покажу?».
– Да что это, маточка, на что мне? Когда мне время и смолоду-то было? Девушек у нас, в Екатеринбурхе, строго держали. По пятнадцатому году просватали меня… а какое житье спервоначалу-то было! За все сама, и щи вари, и полы мой, а тут дети пошли… Это уж потом, как Василь Захарыч, дедушка твой, полицмейстером стал, у нас и домик свой, и лошадки; а забот-то и того больше… Где ж тут! Да. Вот насчет сыновей Василь Захарыч строг был. Чтоб сейчас в Казань, учиться, а после того и в Москву.
Про эти «строгости» дедушкины к сыновьям Лиза давно знала: один, дядя Коля, теперь адвокат в Туле; мама говорит «известный»; у другого даже своя в Киеве газета… а бабушка и заглавия ее прочесть не может.








