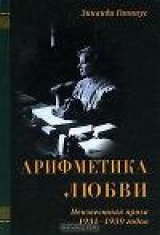
Текст книги "Арифметика любви"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
Петербургские воскресенья не имели истории: их краткое дленье прервалось со всеобщим русским прерывом. Здешние, поскольку они другие, историю свою имеют. Как уже имеет ее, – и сложнейшую, – эмиграция, в первые годы которой, – медовые годы! – они и зародились.
Слово «мед» к эмиграции, к людям без родины, плохо прилагается; а все же, по сравнению с горечью годов последних, эти первые хочется назвать «медовыми». Они невозвратимы, но это хорошо, всего было бы ужаснее, если б годы шли, ничего не меняя, если б дороги и тропинки истории оказались круговыми. А горечь… Однажды, рассказывает Библия, «из сладкого вышло сильное»; почем знать, может быть, в эмиграции сильное выйдет из горького?
Впрочем, вернемся к воскресеньям. Мне хотелось еще только сказать, что нельзя ограничиться сегодняшним днем, рассказывая о здешних: надо считаться с их фазами, сменами, с их историей. Преистори-ческие, – петербургские, – могут служить в виде предисловия. К ним я уже не возвращусь, если попробую, в другой раз, поговорить о современности, о воскресеньях парижских, об «интересах» участников, о них самих во всем их человеческом разнообразии, о том, что отсюда выходило или не выходило…
А что дальше выйдет – мы не знаем и не заботимся. Вряд ли ничего. Из свободы всегда что-нибудь выходит.
ПОЛИТИКА И ПОЭЗИЯ
(Доклад, прочитанный на вечере стихов «Перекрестка»)
Что самое трудное? Невозможно сказать. Слишком их много, трудных вещей. Но вот нечто, если и не самое трудное, то очень. Это – отделить какое-нибудь слово от привычного понятия. Взглянуть на него свежими глазами.
Привычка такое дело, что мы, зачастую, не даем себе и труда остановиться, подумать: да что, в сущности, мы под таким-то словом разумеем? Например, «поэзия». Все знают, что такое поэзия. Знают? Нет, просто тянется за словом цепь ассоциаций, с незапамятных времен к нему приклеенная. Или – политика. Сейчас же другой ряд ассоциаций, других, и так же плотно приклеенных. Если попросить у обыкновенного, среднеинтеллигентного человека более точных определений, вряд ли что выйдет. Из политики получится или нечто смутное (да и правда: где она начинается, где кончается?), или безнадежно узкое. С поэзией – лучше, ведь смутное тут даже обязательно. А в самом общем – так: политика и политики – это на земле, поэзия и поэты – на воздухе, над землей, хоть на вершок, а лучше на аршин, а еще лучше – на сажень и более. Чем выше, тем поэтичнее.
Отсюда естественный вывод: политика – одно; поэзия – другое; до такой степени другое, что и говорить о них вместе, рядом, не подобает.
Представления – примитивные, но они живут и так в привычку въелись, что мы их почти не замечаем. Но чувствуем себя удобно. Вот главный яд привычек: нет охоты нарушать удобство. И как упрямы такие представления! Совсем недавно кто-то сказал мне: «По-моему,
X. нисколько не поэт». Отчего же? спрашиваю. Мало эмоций. Поэзия – это эмоциональность. В другой раз, среди оживленного разговора на общественные темы, сидящий рядом говорит мне тихонько: «Не понимаю, как вы можете и стихи писать, и политикой интересоваться». Опять спрашиваю: но отчего же? Ответ уклончивый и тем более ясный: «Конечно, ваши стихи более философичны, нежели эмоциональны… Но и философия…».
Да, да, и это известно: философия тоже, как политика, к поэзии отношения не имеет… Но оставим пока философию. Довольно с нас и политиков с поэтами. Однако, чтобы рассуждать дальше, попробуем перевернуться. Попробуем представить себе на минуту, что никаких готовых решений насчет политики и поэзии не имеется. Просто – есть люди, очень разные, дела у них тоже разнообразные, и есть времена, т. е. цепь времен, которая называется историей.
Сегодняшнее звено это цепи, – наша современность, – очень благоприятствует пересмотру отношений между политикой и поэзией. Сегодня особенно неразличимы границы политики; стерлись, размазались, – если не всегда были, как экватор и меридианы, линиями воображаемыми. Да и сама «политика» сделалась каким-то мелко-сложным хаосом; люди политические в нем бессильно завиваются. Если они еще думают, что «делают» политику, то напрасно: они делать ничего не могут. Я не говорю, что политику не нужно делать; напротив, очень нужно; только сегодняшние-то политики «старого образца» выродились; так выродились, что уже ни одного большого и настоящего между ними нет. Есть влезшие на ходули. На ходулях такой «политик» кажется выше, а в сущности – был бы только смешон, не будь он так вреден. Судя даже не с моральной точки зрения (оставим мораль в стороне), а с точки зрения ценностей, какую, например, ценность представляют ходули большевиков или другие – Гитлера? Маленький Сассо и маленький Адольф, разве оба они не смешны и не вредны? И разве от ходуль стали политиками настоящими?
Не стали и не станут, куда бы еще ни взобрались и как бы еще ни увеличили хаоса своими «удачами». Им, – как, впрочем, нынешним политикам без удач и без ходуль, – не хватает очень важных вещей для настоящей политики.
Чего же, например? Что необходимо человеку – политику настоящему? (Подчеркиваю: настоящему.) Я скажу, – что; и думаю, спора не будет. Такому политику нужно иметь, в виде плюса к специальным дарованиям, во-первых – дар воображенья; во-вторых – при широком, синтезирующем взгляде на мир, – волевую интуицию; ему нужно вдохновенье, или, иными словами, нужно знать полноту ощущения данной минуты.
Но «полнота ощущения данной минуты» – есть, по Баратынскому, определение поэзии. Не ясно ли, что политике, чтобы быть настоящей, не хватает поэзии? Все сводится к «поскольку – постольку». Поскольку в политике есть и поэт, постольку он настоящий политик.
Совершенно то же получится, если мы начнем обратно, – с поэзии. Ясно, в наше время, что поэт старого, полувыдуманного, образца, – не настоящий поэт; и ясно, чего ему, для настоящего, не хватает. Не хватает, как и политику, только другого. В виде плюса к специальным дарованиям, поэт, – ощущая себя в цельности, – должен, в то же время, ощущать себя частью целого с полнотой ответственности перед этим целым. Поэту необходимо сознательное и волевое отношение к реальной человеческой жизни, к человеческой мысли и к понятию свободы. Все это – до готовности свободно изменять самые формы своего творчества, не изменяя, конечно, ни ему, ни себе внутренно (например, сменить слово делом, или их соединить).
Беру лишь главное, общее; но и его довольно, чтобы увидеть: настоящему поэту нужны атрибуты политика. Поскольку в поэте есть и политик, постольку он настоящий поэт.
Да бывало ли когда-нибудь иначе? Кто назовет мне настоящего поэта, все равно большого или маленького (бывают настоящие и маленькие), чья поэзия и он сам были бы – не то, что совсем вне политики (этаких и не стоит искать), а хоть отдаленно и едва-едва с ней соприкасались? Пожалуйста, отыщите хоть одного. Для моих же утверждений примеров сколько я захочу. И даже если я буду брать узко, поэтов только стихотворцев, и оставлю в стороне примеры слишком явные, резкие, вроде Шенье, Ламартина, Пеги, нашего Некрасова и, тоже настоящего поэта – Поля Клоделя. Но кто скажет, что не было политика в Данте? Или в Гёте? Или в Ибсене? Или в наших, от Блока и Гумилева (toute proportion garde [137]) до Лермонтова и Пушкина? Тут, кстати, приведу отзыв о Пушкине его ценнейшего собрата и современника: «…Когда он (Пушкин) говорил о политике, внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений… Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта… Он любил обращать рассуждения на высокие предметы, религиозные и общественные, о коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию».
Это отзыв поэта, который и сам лучший мой пример: Мицкевича. Или его поэзия не настоящая? А если настоящая, – уж не скажут ли, что в ней, и в нем самом, не было политика?
Была; так же, как в политическом гении Наполеона была поэзия, а в нем самом – поэт.
Прибавлю, в скобках: иные говорят, что политика Наполеона была не политика. Я не хочу и возражать; просто остаюсь с разумным большинством, думающим иначе. Господи Боже мой! Хоть бы крупица этой наполеоновской «неполитики» попала в головы политикам из Лиги Наций!
Здесь – закрываю скобки… а впрочем – нет: предчувствую еще одно возражение, или замечание; надо на него ответить. А как же, спросят меня, наши-то недавние русские «политики»? Будь они обыкновенными реальными политиками, без всяких «плюсов», без возвышенного идеализма – с Россией, пожалуй, и не случилось бы того, что случилось… как раз тогда, когда они действовали. Да, правда. Правда, что в роковой момент у власти находилась группа политиков, типичная в известном смысле, и – проиграла. Только не правда, – и я очень прошу это заметить, – не правда, что идеализм и прекраснодушие – поэзия: к поэзии они отношения не имеют. Политику они ничего не прибавляют, напротив: дают не плюс, а минус. Не прибавляют ничего и поэту; но поэту могут прощаться. Политику же не прощаются никогда.
Все ли поняли это, после тяжелого урока? Увы, многие из наших политиков и здесь еще остаются на страже своих ортодоксальных развалин. Не видят, что уж и сами им подобны. Но есть, слава Богу, другие, и даже из той группы русских политиков, – «бедных рыцарей», – о которой мы говорили. Пример – Керенский. О нем можно сказать слогом Мицкевича и Вяземского, что «очевидно, поддается он внутреннему преобразованию». К слову «свобода» у него как будто нет старого, слепо-эмоционального, идолопоклонства; при первых буквах д-и-к (о слово жупельное, диктатура!) он не дрожит, как было предписано; и, думается, понимает теперь, что действительно нужен политику вот этот плюс: «полнота ощущения данной минуты…», т. е. поэзия, по Баратынскому. Иной раз от нее зависят последние решения.
Нужно ли все это – теперь? Не поздно ли? Нет, никогда не поздно делать пересмотр старого, отрываться от старых привычек. Что касается нашего вопроса, – о связи политики и поэзии, – то я отлично понимаю, как он труден. Тут мало отказаться от давней привычки, тут надо еще преодолеть новые впечатления. Вот, в советской России поэзия очень тесно связана с политикой. Если не все политики – поэты, то поэта без политики там не бывает. Уж не о такой ли связи я говорю?
Только зная темнящую силу внешних впечатлений, касаюсь я этой стороны вопроса. Да вопроса тут, в сущности, и нет. Кто имеет хоть самое первичное понятие о том, что такое «поэзия», тот не может не почувствовать, что в самом слове уже заключено другое, – свобода. Свобода не атрибут поэзии, но самый ее исток. Если она оторвана от истока – на ней печать смерти, какими бы атрибутами ее насильственно ни снабжали. И не только поэзию убивает эта, советская, «связь» с политикой: она убивает и самих поэтов. Вспомним хотя бы страшное письмо Блока, незадолго до смерти: «…Сейчас у меня ни души, ни тела нет… Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка…».
После этого – нужны ли еще оговорки, что не о советской связи поэзии с политикой идет речь? И уж если выбирать, – пусть лучше будут голоэмоциональные поэты, с одной стороны, и короткодумные политики – с другой, без малейшего сообщения. Все лучше этих чело-векоубийственных гримас, – московских экспериментов.
К счастью, жизнь не ставит нас перед подобными выборами. И поэзию, – коренной исток ее, – не так-то легко уничтожить. Там подсушат, – здесь пробьется.
С русской зарубежной «поэзией» я имею довольно близкое соприкосновение. Постоянно вижу, – и это в течение годов, – почти всех здешних поэтов, более или менее молодых. Так как они близки и дружественны, мне хотелось бы в каждом видеть настоящего. Не скрою, что пользуюсь иногда, при наблюдении, и этим «оселком»: а сколько в данном стихотворце, в его стихах, – «политизма»? Я не смущаюсь, если он там пока и неуловим, даже для меня: завтра может явиться что-то, что не сделает эти стихи в грубом смысле «политическими» (храни нас Бог от таких!), а лишь зажжет внутри тайный, живой огонек. Один из тех огней, которыми горит поэзия – настоящая.
Несколько больше смущает меня какое-нибудь неожиданное замечание, вроде: «Как вы можете писать стихи и интересоваться политикой?» или: «Я глубоко равнодушен ко всем большевикам и небольшевикам». Но и это, в конце концов, пустяки, случайное настроение, – только. Потому что я знаю главное, очень важное. Знаю, что и тут, – и даже в этом частичном вопросе, насчет поэзии – политики, – уже идет серьезный пересмотр старого. Сам по себе пересмотр не означает, что новое найдено; только надежду дает на это, потому что без пересмотра нового найти нельзя.
Хочу прибавить еще два последних слова: чтение стихов с эстрады, которое мы сейчас услышим, не такая безобидная вещь: большею частью оно вредит стихотворению и автору. Самое ценное, внутреннее, ускользает от слушателя.
Редко бывает иначе. В стихах так называемых «эстрадных» и ускользать нечему. Понимаются же стихи – лишь ранее известные, когда их читает известный и любимый автор: так случалось с Блоком. Да и как, в самом деле, слушая новое стихотворение нового автора, сразу, в полторы минуты, понять, что оно – настоящее, и понять почему настоящее?
Но если не понять – почувствовать, угадать все-таки можно. Среди сегодняшних молодых поэтов настоящие есть: это я знаю. Посмотрим, угадают ли их, почувствуют ли. И – как почувствуют.
НА ПАРИЖСКИХ УЛИЦАХ ЗАПАХЛО ПОРОХОМ
События и французский здравый смысл. – Прогнозы «наших». – Своеобразная «молодежь». – Новая русская интеллигенция? – Керенский. – Что свойственно юности. – Жена «вредителя». – Воздух смерти
(Письмо из Парижа)
О февральских парижских днях мы уже могли бы теперь писать «воспоминания», если бы… если бы, с внешней стороны, дни эти не были так детально всем известны, во-первых; и так запутаны и сложны с внутренней, – во-вторых. Уж не говоря о нас, русских пришельцах, – сами французы еще не разобрались, кажется, в смысле событий, не знают хорошенько, придавать им важность, или нет. Да и что это такое, в сущности было? Каким словом определить? Не «восстание»; не «бунт»; не «революция», конечно, но и не «беспорядки». Самое, пожалуй, близкое слово – волнения. А если кому-нибудь слово покажется слишком слабым (ведь была кровь на улицах и баррикады) – то пусть он вспомнит, в какой вообще момент мы живем и что происходит рядом: перед совсем недавними событиями, хотя бы в Австрии, парижские явно только «волнения».
Франция имеет в прошлом серьезный опыт; но после долгих десятилетий спокойствия ей было естественно растревожиться своими «улицами». Больше, чем нужно, или меньше, – мы, повторяю, во французских делах не судьи. Хата русской эмиграции как нельзя более «с краю»; и, однако, она (эмиграция) не ограничивалась спокойным наблюдением происходящего, упорно строя аналогии. Мы, мол, все это знаем, сами прошли. Знаем и чем кончится… Опрометчивая самоуверенность! Пора бы понять, что история не под одну мерку делается и что прогнозы всегда бесполезны.
Впрочем, один из старых неполитиков объяснял мне, что влечение наше к аналогиям – невольное, чувственное: слишком еще помнится запах, – или, по Блоку, «музыка» – революции. Запахло уличным порохом – вот оно!
– Я, конечно, понимаю, – говорит он, – одну и то внешнюю, аналогию можно найти: это между февралем парижским – и русским… не февралем, конечно, и еще менее последним черным октябрем, а далеким русским октябрем 1905 года. Посмотрите: и там, тогда, – уличные демонстрации; перестрелка с полицией; всеобщая забастовка; уступки, объявленные манифестом, после которого – восстание на Пресне, кончившееся почти так же, как здешнее «восстание» коммунистов, уже после прихода Думерга.
Почти, почти… Словесное сближение и то с какой натяжкой! Нет, лучше оставим аналогии. Учтем хотя бы эту разницу: мы, – что греха таить! – больше мечтатели; французы же обладают крепким здравым смыслом. Недаром и Думерг, едва выйдя из вагона, произнес знаменательную фразу: «Чудес я не делаю… Но думаю, что политика не такая хитрая вещь. Достаточно и здравого смысла».
Правда, среди всякого народа существуют элементы, всегда готовые к бунту ради бунта, вне целей, чем пользуются другие, для своих целей. Правда и то, что именно о современной опасности, – о коммунизме, – французы не имеют никакого понятия. Можно сказать даже, что почти вся Франция, в массе, настоящего, подножно-ощутимого, понятия тут не имеет. Обывательские низы, мелкая демократия, с которой мне часто приходится сталкиваться, так рассуждает: «Что ж, коммунисты? Они богатым страшны, а мы маленькие трудящиеся. Торговля (или ремесло, или что-нибудь вроде) идет и сейчас плохо. Правительство – одни других стоят: только налоги, да скандалы».
Скандалы и налоги они понимают. К уличным «протестам» отношение смутно-сочувственное и против полиции. Кто-то вспомнил, какой видели они пышный «Праздник трудящихся» в синема на Гренель (рабочий квартал, советские фильмы, неусыпная московская пропаганда).
Хорошо, пусть эти не понимают: они и не знают ничего. Но помогает ли знание? Ко мне пришла, после февральских дней, молоденькая дама, француженка. С ней и ее мужем мы знакомы давно, но в последние годы редко виделись. Оба очень интеллигентны. Мы, вначале, не мало говорили с ними о коммунизме, о нашем «опыте». Они – знали. Но вот приходит г-жа X., неожиданно, и очень взволнованная. Рассказывает: попала, случайно, в гущу известной коммунистической демонстрации, была несколько времени заперта с «товарищами» на Восточном вокзале. Ничего с ней дурного не было, но – как-то «прикоснулась реально», лица видела… И сразу, говорит, она бросилась перечитывать книгу, мой «дневник» (в Петербурге, под коммунистами).
Книга у нее годы лежала; и была прочитана; но лишь теперь, – признается, – «я в ней что-то поняла, почувствовала».
Не так уж много, конечно; но и для этого ей был нужен «опыт» Восточного вокзала. Если король югославский Александр, на мой вопрос, видел ли он в лицо живого большевика, и ответил отрицательно, а между тем в большевизме русском кое-что понимает, – надо учесть, что юность он провел в Петербурге и даже видел там «революцию» 1905 года. Революцию не большевицкую, правда; но все помнят, что и тогда Ленин с Горьким уже действовали, образовав знаменитую «Новую Жизнь».
Поэт Минский (вот этого, кажется, никто уж не помнит), избранный в виде ширмы, сглупу не понял, в чем дело, хоть и был, в обычном смысле, человеком весьма неглупым. Восторженно принял «редакторство», так как марксизм нуждается, мол, в «философской надстройке», и большевикам без него, Минского, не обойтись. Разочарование не замедлило. Не то, что «надстроек», но «редактору» ничего в «Нов. Жизни» писать было не дано; вскоре газету захлопнули, Горький с Лениным и с присными благополучно уплыли заграницу, но «редактора» посадили в крепость. Ненадолго; выпущенный на поруки, под залог, усилиями друзей, тотчас и сам он улепетнул в Париж. Да так и не вернулся больше в Россию, несмотря на свою безвинность. От страха (а какие легкие времена были!) сделался вечным эмигрантом до эмиграции, без смысла и без дела: «надстройки» над ленинизмом не понадобились, как до торжества Ленина, так и после.
Франция, повторяю, большевиков и не знает, и не понимает, не имея с ними опытного соприкосновения. Об опытах, вроде путешествия Эррио («Алисы в страну чудес») и вроде, – я не говорю. С ними, в лучшем случае, можно не считаться. И все-таки, опасность коммунизма во Франции, даже опасность левой революции, минимальна. Не оттого, что мало усердствует в пропаганде Москва и мало помогающих «своих». Но в критическую минуту, – если бы таковая настала, – здравый смысл и долголетняя привычка к свободе все равно взяли бы верх.
Именно так относится к Франции, – спокойно и трезво, – тот слой русской эмиграции, с которым я больше всего соприкасаюсь. Слой, преимущественно, «молодежи». Но определение это широкое. На воскресных наших собраниях (особенно многолюдных в нынешнем году) рядом сидят и родившийся перед войной, и бывший участник ее, или участник войны гражданской. А то и кто-нибудь уже с седеющими висками. Да, скажут мне, но не все ли равно, что они думают о политических событиях, да еще чужой страны, ведь это не «политики». Конечно, не политики. Это «всяческая» молодежь, самых разных дарований и культурных устремлений, и, однако, связанная между собою: не цифрой возраста, а чем-то внутренним, более важным и сложным. Опытным прикосновением к современности (в борьбе за жизнь), знанием, что многое, когда-то реальное, уже не реально, уже не существует… между прочим и политика «в добром старом смысле» (что не секрет для большинства самих старых «политиков»). Но главная связь между людьми данного круга, это их общая «молодая» способность (и воля) к движению во времени, к применению; не застывшая капля «elan vital» [138]. Любопытно, что, когда в эту среду попадает человек без таких «молодых способностей», он, независимо от возраста и дарования, – к искусству ли, к политике ли, – тотчас ощущается как инородное тело. О нем говорят: он – не «мы».
Другое дело, что и самые эти «мы», фактически, по обстоятельствам, занимаются весьма разнообразными и неожиданными ремеслами. Кому неизвестно, что нынешние русские молодые писатели, художники, ученые, поэты, политики – (по склонности и дарованиям) – в то же время шоферы, маляры, бухгалтеры, торговцы, даже землекопы. Но это в счет не идет, конечно.
Удивляться ли, что в разнородной среде, но со своим неопределимым единством, политики «доброго, старого образца» (и художники того же образца) – чувствуются телами инородными? Есть, впрочем, одно исключение: молодой среде оказался не чужд достаточно известный наш «политик», – Керенский. Наблюдая со стороны, вижу: и разноголосица, и нелепые, подчас, споры, – но Керенский для «молодежи» в какой-то степени «мы». Почему? Да опять потому, что он живет, как ни в чем не бывало, с молодым свойством изменяться – переменяться, двигаться во времени; потому что он уже не политик-интеллигент довоенного образца, ни даже «главноуговаривающий» 17-го года. Он переменялся – изменялся вместе с переменой времен. Есть тут и еще один секрет: надо
«Изменяться, но не изменять…».
Мне кажется, – раз уж мы заговорили об известном слое русской «молодежи», – что лишь из чего-то подобного выйдет новая русская интеллигенция. Как прежняя не состояла из одних политиков, из одних художников и т. д., а складывалась из множества разнородных элементов, имея все-таки свою цельность, – так и новая. Не по-«советски» новая, конечно, ибо возьмет кое-что и от старой. И будет, вероятно, еще более цельной, так как современному сознанию раскрывается близкая связь между самыми разнородными областями жизни и деятельности.
Но пока это все лишь далекие гадания. Создастся ли новая русская интеллигенция, или нет, никто не знает. Я говорю лишь о возможностях; и о том внутреннем процессе всестороннего изменения, который явно происходит… ну, хотя бы в этом маленьком уголке русских молодых зарубежников. Они не политики… но порою их взгляд на события, даже чужой страны, имеет свою ценность, пока растерявшиеся старые политические заправилы плетут свои непрочные кружева.
А в конце концов никто сегодня не должен бы пускаться в политические предсказания. Завершение парижских событий впереди. Только что прошедшая демонстрация (или манифестация?) «левых», закончившаяся арестом почти 1000 человек, маленькую французскую демократию не очень обеспокоила; однако вызвала вопрос: «А что будет 1-го мая?» «Mais nоn mais nоn» [139], – возражает другой, – я знаю: будет что-то не первого, а двадцатого мая…».
Поживем – узнаем.
P. S. На последнем, как всегда многолюдном, воскресном собрании «интеллигентной молодежи» присутствовала парижская гостья – Т. В. Чернавина. Кто не знает «Записок вредителя» и «Жены вредителя», этого беспредельно-ясного свидетельства о России советской, и полную ужаса эпопею их бегства из Соловок, с ребенком? В Париже доклады этой интеллигентной, прямой и мужественной женщины привлекают громадную аудиторию… русскую, конечно. Но об этом, о разнице между Парижем и Лондоном (Чернавина была раньше в Лондоне) и о многом еще, слишком долго было бы рассказывать. Да и передача разговоров во время воскресной «встречи» заняла бы слишком много места. Т. В. Чернавина не без любопытства, кажется, присматривалась к новой для нее, толпе интеллигентных молодых зарубежников (о, – «старых», по-советски!). Но вот главное: они, как вся русская эмиграция, знают, конечно, то, что рассказывает нам Чернавина. Одни больше, другие меньше, но знают все.
Между тем, сидя рядом с этой маленькой, энергичной русской женщиной, нельзя было не почувствовать: она знает еще что-то, в словах невыразимое, нам уже неизвестное. Ее еще облекает незнакомый нам сегодняшний советский воздух. Мы лишь веянье его ощущали, не понимая; и – я не знаю, несчастие это наше, или нет, – непонимание? Год-два человеческой жизни – и Чернавина потеряет свое страшное, подкожное, «знание» несказанного. Может быть, – я говорю «может быть», – без такой потери нельзя и здесь вести «человеческую» жизнь. Может быть, хорошо, что мы не проникаем в этот «воздух смерти».
О ВСТРЕЧАХ С КОРОЛЕМ АЛЕКСАНДРОМ
На съезде русских писателей. – Речь Немировича-Данченко. – Король забывает русскую речь. – Петербургские воспоминания. – Цельная личность
Давно сказано, что нет горшей боли, – «II n'est pire douleur» – нежели счастливое воспоминание во дни несчастий. Оттого, должно быть, так трудно мне сейчас возвращаться памятью к нашей поездке в Югославию, поездке сравнительно недавней. За годы во Франции, мы, – я и Мережковский, – не одну совершили поездку в «послевоенные» страны: но поездка в Югославию стоит особняком; она – прорыв в унылой цепи последних годов…
Была осень. Мы ехали с юга, с Ривьеры, – из лета. В Италии (бывшей Австрии) – знакомая по Парижу осень мокрая, серая. Но уже в последние ночи в вагоне, перед Белградом, и ранним утром на белградском вокзале, пахнуло осенью русской: бледное солнце, острый холодок. Русской осени, «красоты ее смиренной, не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный…», но русские понимают и помнят несравнимую прелесть ее, пусть редких, ясных дней.
И там же, на вокзале, – новые глаза людские, без чуждости или равнодушия глядящие на «изгоев»… Я не собираюсь описывать наше пребывание в Югославии, но так как мы приехали на русский писательский съезд (за все годы такого съезда не было ни в одной европейской стране), скажу несколько слов хотя бы о его открытии.
На открытие мы попали прямо из вагона. Громадная, глубокая зала нового, недавно отстроенного, университета. Сверху донизу – головы, головы… уже не публика, – целый народ! Мы, (гости съезда и хозяева) сидим на длинной эстраде, перед таким же длинным столом; посередине – кафедра.
Осматриваюсь, кое-кого узнаю. Рядом со мной – А. И. Белич (академик, писатель, один из инициаторов и главных устроителей съезда, неизменный друг русских), с другой стороны – Б. К. Зайцев. Потом еще кто-то, лица знакомые и полузнакомые, когда-то виденные, будто во сне, и вдруг вспомнившиеся… Речь на открытии читает В. И. Немирович-Данченко. Что за чудесный, широко и плотно сшитый старик! Белая раздвоенная борода, громкий, бодрый голос. Восемьдесят пять лет, – вы, молодые, ну-тка!
Тихо переговариваюсь с соседями. Белич мне называет местных «лиц», Зайцев сообщает, что Куприн приехал, но сейчас у себя, а Бальмонт и Алданов не будут.
Зал, – почти двухтысячная, думаю, толпа, – в невиданном подъеме: хлопанье, овации, бросанье цветов… Речи русские, французские, сербские и даже на неизвестных каких-то языках. Не помню, сколько времени это длилось; но вот, вынесенные общим потоком, мы на улице, в автомобиле и, наконец, в нашем новеньком отеле. Но отдыхать некогда: Белич сообщает нам дальнейшую программу съезда.
О том, как затем развертывалась праздничная картина, о банкетах, приветствиях, о неожиданных разнообразных встречах, о ряде наших лекций в учреждениях, самое бытие которых говорило об исключительном положении русских в этой стране с ее расцветающей столицей, – обо всем мне удалось тогда дать очерк в одной варшавской газете, – увы, лишь в ней, и теперь уже не существующей. Сейчас я хочу ограничиться только одним воспоминанием: написать о встречах с королем Александром.
Своевременной записи у меня нет; не мало подробностей уже стерлось в памяти. Но вот, без подробностей, – впечатлений легкие черты.
Мы в длинной зале с колоннами. Против нашего ряда, через широкий проход, – другой ряд: иностранные делегации, тоже представляющиеся королю. Влево, в нашем ряду, у колонны, замечаю внушительно белую бороду нашего «патриарха» – Немировича-Данченко. Куприн стоит прямо за мной, другие поблизости. Тут же, конечно, и Белич, наш неизменный гид.
Ждем недолго. Король вошел слева. Он в военном мундире: с двумя, кажется, генералами. Сразу, от дверей, начинается обход иностранных делегаций, – левого ряда. Говорит с каждым несколько слов, двигается все ближе и, когда останавливается перед стоящим против меня, – я его узнаю. Не по портретам только, а как-то еще особенно: бывает ведь, что человек, никогда не виденный, вдруг кажется уже виденным, давно знакомым… Это странное чувство усиливается, когда король переходит на нашу сторону, здоровается и говорит со стоящими правее меня, с Мережковским и с другими.
Король высок, не слишком, но чуть-чуть сутулится; молодое, смуглое лицо редкой приятности: живые глаза, кроткие и смелые, и – застенчивая улыбка. Говорит по-французски. Я отвечаю на том же языке, но мне так странно слышать от этого человека, давно будто знакомого, не родную мою речь, что я неожиданно спрашиваю: ведь он говорит по-русски? Улыбка: да, он говорит, но уже начинает немного забывать… О, это жаль, это жаль, замечаю я невольно, нисколько не думая о том, что обаятельно-милый человек этот – король и что за «выговор» королю я получу впоследствии полушутливый выговор от Бели-ча, – мало меня, впрочем, смутивший.
А за мной, в ту минуту, вдруг раздался взволнованный, восторженный голос Куприна, протянулась рука с несдерживаемым приветствием… это было так неожиданно, что король, было, отступил: но тотчас же опять засияла его улыбка. На русское, от сердца, приветствие Куприна – несколько русских слов… Обход продолжался.








