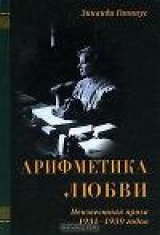
Текст книги "Арифметика любви"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 46 страниц)
Первый вечер этот оказался и последним вечером Собраний. 5 апреля (1903) арх. Антонин, запиской на клочке бумажки, известил нас, что высшее духовное начальство (Победоносцев) решило прекратить Рел. – Фил. Собрания, – «вопреки доброй воле Митрополита Антония».
Запрещение печатать отчеты последовало только через 10 месяцев. Не напечатанными остались два заседания: 21-е и 22-е (первое о «Священстве»).
Сказать, что дело Собраний прекратилось с фактическим их прекращением, – было бы просто неправдой. Оно изменило форму, – конечно… Не прекращалась и связь наша с церковным миром. В этом мире теперь были у нас враги, друзья и полуравнодушные доброжелатели. Если с последними связь несколько ослабела, зато с новыми друзьями мы сблизились так тесно, как никогда раньше. Они и продолжали с нами дело Собраний. Центром его стал, в последующие годы, журнал…
Но обо всем, что было в эти годы, полные глубоких перемен и общих потрясений (1903–1906), о судьбах кое-кого из участников Собраний, а, главное, о том, как живые нити, от Собраний, явно идущие, вплетались в узор тогдашних событий, – я расскажу особо, когда-нибудь в другой раз.
АВАНТЮРНЫЙ РОМАН
1
Мы его, конечно, презираем.
Мы с горестным сожалением смотрим на читающих эти романы и с тревогой следим, как все растет число «нелепых» книг.
Ведь известно же, что такое авантюрный роман. Кто даже не раскрывал ни одного, и тот знает; по крайней мере уверен, что знает. Спросить – скажут много верного, дадут определения, с которыми и спорить нельзя. Скажут, например, что это даже не плохая литература, а вовсе «не литература»; что человеку, мало-мальски понимающему, что такое «слово», и говорить не пристало об этой детективно-авантюрной чепухе…
За определениями следуют тотчас общие выводы, весьма печальные: если подобные «романы» находят, в наше время, миллионы читателей (а они находят), то какое падение вкуса! Какое понижение культурного уровня! И чем дальше, тем хуже: груды этих разлагающих книг заваливают путь к настоящей литературе.
Определения-то «романа», рассматриваемого под специальным углом зрения, – верны: да, не «литература»; под литературную нашу мерку это никак не подходит. А вот с общими отсюда выводами – относительно падения культурного уровня, разложения вкуса в наше время и т. д. – следует погодить. Еще никаких заключений нельзя вывести из того обстоятельства, что миллионы современных читателей тянутся к книге бесстильной, безыскусственной, реалистически-сказочной, не пошлой, но – не «литературной». Может быть, разумнее будет освободить послевоенный авантюрный роман от суда литературного, вынести на свет «книгу» вместе с бесчисленными ее читателями и взглянуть на все это как на явление – одно из человеческих явлений нашей современности. Так мы, пожалуй, ближе подойдем и к «роману», и к современному человеку-читателю; да и к самой современности, кстати.
Один вопрос, прежде всего: неужели кто-нибудь из смотрящих с таким сокрушением на досадный «роман» и миллионного его читателя, серьезно думает, что не будь этого романа, – тот же миллион читал бы, к своему благополучию, Пруста, Мориака, Валери, Джойса, Жида, или хоть Кокто? (Не мне отрицать, что все это «литература», даже Кокто.)
Нет, миллионы читателей современного авантюрно-детективного романа, в громадном большинстве, – новые читатели; и, по многим причинам, они не читали бы ничего, не будь такого романа: ни Мориака, ни Джойса, да и не Флобера ни Гёте, – совсем ничего. Лишнего экземпляра не продал бы сегодня Мориак или Жуандо, если б романов в желто-красных переплетах и вовсе не появлялось.
Новые миллионы читателей – они же и миллионы людей нашего нового времени, или новой настоящей минуты. О них, с их «глупым» романом, без психологии, без описаний природы, без подобия стиля, я хочу поговорить.
2
Думают, что авантюрные романы можно писать без таланта. Нет, талант от автора очень требуется, хотя и не совсем похожий на то, что мы привычно зовем «талантом».
Авантюрный роман – типичен: в каждом присутствуют те же, главные черты: неотъемлемые, ибо на них-то он и держится. Чем талантливее автор, тем ярче у него эти черты и тем совершеннее роман, т. е. ближе к своему собственному идеалу.
Благодаря типичности нет нужды останавливаться на той или другой книге из миллиона. Можно взять любого автора, только выбрать более талантливого.
Я выбираю англичанина. Английский роман этого рода вообще гораздо характернее французского (и немецкого).
Из англичан я выберу Эдгара Уоллэса как самого типичного и, в смысле требуемого таланта, очень совершенного. Но, говоря об Уоллэ-се, я буду говорить обо всех.
Кстати, из всех современных романистов подобного сорта – он и наиболее известен. Совсем не напрасно на каждой обложке стоит: «It is impossible not to be thrilled by Edgar Wallace», – т. е. невозможно не быть захваченным, или пронзенным, Э. Уоллэсом. Он, должно быть, из всех этих «жизненных» романистов, особенно пришелся к современной жизни.
Что она такое, однако, послевоенная европейская (или мировая) жизнь? Как ее воспринимает, что в ней чувствует новый средний человек? Вот эти «миллионы» всех средних ступеней социальной лестницы, – «демос» в наиширочайшем смысле?
Типичный сегодняшний человек вряд ли много «размышляет» о жизни. Он ею живет, воспринимает ее изнутри. Размышлять же и некогда: ведь жизнь эта, если взять ее самые грубые, общие черты, – все ускоряющееся движение. Бег наперегонки, в тесноте. В постоянной борьбе и работе – монотонность мелькающих дней. Злая усталость, беспокойное ожесточение. И, естественные, тут же рядом, порывы куда-то, все равно куда, к кому и к чему, только прочь от утомления и тоски.
В порываниях этих (ко всевозможным «зрелищам», например), да и в тоске, много стихийного; но на стихийном элементе мы не будем останавливаться. Он свойствен общей жизни всех времен. А мы говорим об образе нашего «сегодня», где все ново, ибо по-новому подчеркнуто, напряжено, где выросшие противоречия жестоко сталкиваются, как брошенные мячи.
К такой жизни сегодняшние люди не то что приспособились, а взяли ее как действительность. Она их данное.
Но во все времена истории люди есть люди. И драгоценнейшее их человеческое свойство – не удовлетворяться данным, ища желанного.
Меньшая часть человечества, та, которая всегда стояла на верхних ступенях своей исторической лестницы (чтобы не сказать «передовая» часть, или «избранная»), – желанное свое так брала широко, создавала такие блистательные его образы, что, казалось, между ними и реально данным уже нет связующих нитей; нет мостов. Не нужно ли сначала весь мир в корне переделать, чтобы воплотились мечты?
Высокие мечтанья, необходимые миру, но… для громадной массы человечества они слишком явно оставались мечтаньями. Люди, живущие внутри своей действительности, не представляют себе желанное иначе, как в виде той же действительности, но исправленной.
И это мечты, конечно. Если их развернуть – тоже понадобится, пожалуй, коренная переделка мира. Ведь не от исправления же одних чисто внешних форм она (если бы такое исправление было возможно) станет действительно «желанной»? Это чувствуют самые бессознательные.
Здесь надо вспомнить, откуда берет свое начало вечночеловеческое стремление от данного – к желанному. И у мечтателей, мирящихся только с преображенной землей, и у всех остальных, скромно желающих данное исправить, – лежит на глубине несколько первичных, неразложимых, природно человеческих чувств. Все тех же самых. Во имя них-то и стремится человек от всякого данного, к какому-то желанному (или, иначе, должному).
Чувств этих, в первичности неразложимых, в человечестве вечных, – не много. Одно из них – чувство справедливости.
Не будем касаться сложностей, какими может облекаться это чувство, ни путей его извращения или, напротив, преображенья. Мы говорим о первоначальности, простом и простых. В частности, о человеке настоящей исторической минуты.
Современный человек очень реалистичен, ибо очень реалистична сама его действительность. Поэтому и желанное не может не облекаться для него в сугубо реальные формы действительной жизни. Даже повседневной, – как бы его собственной. Совсем как бы той же, и случается в ней почти то же… чуть-чуть лишь по-иному: дни потеряли тяжкую монотонность, случаи интересны, удивительны, положения опасны, решения смелы; а главное – кончается все, для всех, по справедливости. Так, как требует человеческое понятие о справедливости, то есть, хорошо и достойно (желанно).
Вот эту близкую, нужную, ободряющую, утешающую мечту-надежду и дает миллионам людей современный «авантюрный роман».
3
Эдгар Уоллэс (повторяю, это касается всех авторов и всех романов данногого типа) почти не рисует ни людей, ни обстановки. Предполагается, что люди читателю и так известны: он встречает подобных на каждом шагу, он, пожалуй, и сам один из них, с очень понятными обыденными желаниями: удачи, любви, денег. Мелодраматических злодеев и ангелов нет у Э. Уоллэса, как нет их и в жизни. Лишь чуть-чуть получше у него хорошие, похуже – дурные; посмелее смелые, половчее ловкие.
В ту же меру исправлена и обстановка: слегка преувеличены бытовые «чудеса» техники; здесь маленькая выдумка за фантастичность не будет принята.
Главная выдумка и талант автора направлены на создание положений и действия. Но даже тут надо, чтобы положения самые невероятные, обстоятельства самые исключительные, действия самые смелые и опасные имели вид реально возможных. Только при этом условии читателя захватит рассказ: ведь ему, читателю, нужно верить, что завтра и с ним это может случиться. Как он поступит тогда? Перед ним задача: как она решается? А решение есть, и решение настоящее, ибо – хоть и страшно положение – не погибнет правый: это было бы несправедливо. И молодая девушка, в какое бы подземелье ни была заключена, – не падет невинной жертвой, а соединится в конце с тем, кого любит. Человек же дурных поступков, если и уйдет от суда человеческого, – все равно не уйдет от судьбы. Иначе опять несправедливость; опять, значит, вот эта, данная, не исправленная, действительность… Насмотрелся на нее человек, знает ее, своими боками испытал, – зачем будет он, в краткую минуту отдыха, к ней же возвращаться? Зачем ему книга, где эта жизнь, хотя бы с самой великолепной верностью и наилучшим стилем, описана? К стилю он равнодушен, а чем вернее изображение данного, тем больнее и скучнее.
Ну, а книги далеких мечтаний? Сказки? Фантастика?
Нет, человек реалистического времени не верит фантазиям. Слишком связан он с действительностью. И только тогда, когда видит ее же, близкую, но желанно исправленную, – только тогда является у него – совсем по катехизису! – спасительная «вера в желаемое и ожидаемое, как бы в настоящее».
Прибавлю два слова о «справедливости».
Романы Уоллэса называют иногда «полицейскими». Сыщик, мол, выслеживает вора, ловит, тащит в Скотланд Ярд, и все это кончается торжеством «закона».
Будь так, пожалуй, и не стоило бы много рассуждать об этих «жандармских» книгах. Но это не так.
Послевоенный человек, имя которому не делает исключения для данных правительств с данными законами. Он отлично знает, что, действуя во имя закона, очень можно оказаться действующим против справедливости. И обратно.
У нашего автора, Э. Уоллэса, есть целая серия связанных между собой романов: «Закон четырех справедливых людей», «Трое справедливых», «Опять трое справедливых» и т. д.
Эти справедливцы («Just теп») как раз и действуют, сообща, против «закона», защищают попавших в грубое его колесо, спасают виновных перед ним, но невиновных перед внутренним, человеческим законом справедливости.
«Just теп» и сами едва не погибают в борьбе. Не погибают, конечно (кроме одного из них), – иначе как бы торжествовала справедливость? А без ее торжества – как сохранил бы роман одну из тайн своей пленительности?
4
Большинство читателей не задумывается, конечно, над своим влечением к этим новым сказкам современности, не разбирается. Да и авторы создают их так, а не иначе – по интуиции. Авторы ведь такие же «средние» люди. А мы о них и говорили; во всяком случае – о захваченных круговоротом современной жизни, с ее обостренной жестокостью и противоречиями.
Не сомневаюсь, однако, что если бы у кого-нибудь нашлось время и охота поразмышлять над своей тягой к Уоллэсам, – он согласился бы с моими догадками.
Но я хочу пойти дальше.
Оправдать авантюрно-детективный роман перед огульно презирающими его – тем, что хотя, мол, он и нелеп, но для средней массы новых читателей годен, – плохое это было бы оправдание! В нем оставался бы элемент, если не презрительности, то снисхождения, – и к роману, и к «средним» людям.
Нет, в наше время такой роман находит и другое оправдание.
В наше время он нужен – или бывает нужен – не каким-то средним людям, но почти всем.
Это может показаться ересью… но факт прост и просты объяснения.
Прежде всего: так называемый «средний круг» гораздо шире, чем думают, а жизнь наша, данная минута истории, непрерывно его еще расширяет. Именно жизнь-то все больше уравнивает несредних и средних, в себе уравнивает, заставляя всех вертеться в своем колесе, нести тяжесть, тесниться, толкаться, уставать, падать, подниматься и снова тянуть оброненную лямку. В этом смысле, в смысле труда, усталости и ожесточения, все мы одно, все борцы с действительностью.
И если не считаться с исключениями и не брать частностей (отдельных стран и народов) – смело можно сказать, что это касается, более или менее, всей жизни мира в данный момент.
Не одни, значит, внутренно-средние люди захвачены и оглушены реальной действительностью. Не у них одних кратки минуты отдыха. Оторваться совсем, выйти из нее, – нельзя, некогда: для этого нужны не минуты, а целые месяцы освобожденного от тревог существования.
Но забыться, забыть все, чем жизнь мучила и мучит, все до конца, в самую чистую детскую простоту погрузиться, – можно: эту простоту дает книга без искусства, без высоких мечтаний, без сложности мысли, легкая, как далекий гомон птиц.
Я знаю людей, вовсе не «средних» в обычном смысле, которые признаются (есть, наверно, и другие, только не признаются, условно стыдясь), что им, в иные минуты, лишь один какой-нибудь Уоллэс может дать настоящий отдых: отдых всему, что в человеке отдыха требует.
Если так, то не имеет ли эта книга права на свое место, – не в литературе, – а в самой жизни нашей? Пусть одного она забавляет, пусть другого утешает, третьему дает отдохновение, все равно: раз она это делает – она нужна.
РАЗВОД?
Развод и брак. – Трагедия В. В. Розанова. – 19-я глава Евангелия от Матфея. – Брак и развод в современности
Самостоятельного вопроса о разводе не существует, – он входит в вопрос о браке. Отношение к браку, взгляд на брак, в ту или другую эпоху, определяет и взгляд на развод. А, может быть, определяет отчасти и эпоху.
Многосторонняя сложность вопроса о «браке-разводе» такова, что немногие доходили до его сердцевины. Гениальному В. В. Розанову целой жизни не хватило, чтобы достаточно углубить его, а он им горел и страдал, пережил его и опытно, в жизненной своей трагедии. Все-таки кое до чего он тут добрался. И, прежде, чем перейти к положению вопроса в современности, я считаю не лишним коснуться розановской борьбы за брак-развод. Если борьба его против русского законодательства может казаться теперь анахронизмом, то дальнейшая, против церкви и затем против христианства, остается полной глубокого смысла.
Розанов был величайшим утвердителем брака. Но брака истинного, который только и признавал нерасторжимым.
В ранней молодости Розанов женился на бывшей возлюбленной Достоевского, Сусловой, женщине вдвое его старше, достаточно известной, чтоб в «неистинности» брака с ней можно было сомневаться. Бедный Розанов, однако, терпел эти узы, пока она сама его не бросила. Но, когда он нашел свою настоящую подругу жизни, настоящую жену, мать его детей, – истинный брак его оказывался перед Богом и людьми просто сожитием. И, конечно, Розанов, утверждавший брак не только феноменально, а, по его выражению, и «ноуменально», не был бы удовлетворен, если бы имелось в его время другое законодательство, если бы в гражданском порядке второй его брак был признан. (Он считал его не вторым, а первым и единственным.) Именно потому, что Розанов расширил понятие брака до порядка ноуменального, – религиозного, – он не мог бы примириться с тем, что для церкви «истинный» брак его – прелюбодейство, а брак с Сусловой остается действительным.
Формально и словесно – церковь утверждала то же, что Розанов: «истинный брак – нерасторжим». Но она добавляла: истинный тот, который благословила церковь; церковное благословение и делает его истинным (нерасторжимым). У Розанова было другое понимание «истинности» брака и не вступить тут в борьбу с церковью он не мог.
Венчание еще не делает брака истинным, говорил он. А всякий не истинный – расторжим… [117]И так, как если б его вовсе не было.
Вскоре борьба эта за брак-развод еще расширилась, ибо церковь к своим положениям прибавляла нечто, для Розанова уж совсем неприемлемое. Брак, говорила она, утверждается; но, как ценность высшая, христианством утверждается отрицание брака, отказ от брака (девство, скопчество).
Розанову стоило лишь, для своего утверждения брака, взять опорой ту самую евангельскую главу (19-я, Мтф.), на которую опиралась церковь для его отрицания. К несчастью, Розанов принял эти слова Евангелия не в прямом, а в издавна привычном, церковном, понимании; и его защита брака от церкви вылилась в защиту брака – уже от христианства.
Тут кстати будет напомнить об этой главе и о том, как она и доныне понимается. Она так проста, слова Иисуса о браке-разводе так прозрачны, что даже удивительно, откуда явилось столь не прямое их понимание.
Фарисеи спрашивают Иисуса, как всегда, в порядке «законничества»: о законных причинах для развода в браке. Но Иисус, отвечая, говорит не о законном, а благодатном браке (истинном), который тем и познается, как истинный, что нерушим. И поясняет: они (в браке) уже не двое, а одна плоть. Богом созданное единство плоти – как нарушит человек? – Вопрошатели не унимаются: а закон Моисея? – Закон дан был вам по жестокосердию вашему (по незнанию об истинном браке, о личной любви). Но не должно разрушать брака, если сам он уже не разрушен (т. е. совершено прелюбодеяние).
Ученики ничего не поняли, «не вместили» Его слов (как это постоянно случалось), только испугались: такие обязанности! Да уж лучше совсем не жениться! Видя их непонимание, Иисус прибавил, что дано вместить «слово сие» (о браке) не всем, «ибо есть скопцы», по тем или другим причинам ставшие таковыми. С них и не спросится. «Но кто может вместить – да вместит». И тотчас далее – «приведены к нему были дети, чтоб Он возложил на них руки и помолился…».
Как могло быть принято все это за прославление скопчества? Неужели о трусливом слове учеников «да лучше не жениться» сказал Иисус, что не все «вмещают слово сие»? и указал на высший идеал – скопцов, – которые вместили? И неужели скопчество, а не благодатный брак, должен вместить всякий «могий вместить»? Понималось же, и доныне церковным сознанием понимается, именно так: кто только может стать скопцом – пусть станет.
Вот как умален в христианстве брак перед безбрачием, говорили Розанову, на что он отвечал протестом против христианства: умаляя брак – оно отрицает любовь, жизнь, замораживает землю… Розанов искал опоры в Израиле, в древнем Египте, но борьбу свою за истинный брак, за истинную человеческую жизнь на земле – продолжал…
Неоконченный спор этот затих, заглох. В современности вопрос о браке-разводе так больше никем не ставится. По правде сказать, и слово-то «брак» современность наша повторяет атавистически. Давно, вероятно, шел медленный процесс и незаметно привел к тому, что сегодня имеем мы о браке довольно смутное понятие; да по совести, мало в нем и нуждаемся. Современный брак легок, и легок развод. Так и должно быть. Чем легче, мгновение брака, тем легче, моментальнее должен делаться развод. Это ведь, два сообщающиеся сосуда: убывает, пустеет брак – пустым делом становится и развод.
Положим, если б холливудской звезде, пять раз успевшей развестись и вышедшей замуж в шестой, сказал кто-нибудь правду, как Иисус самарянке: у тебя было пять мужей, но и тот, которого имеешь, не муж тебе, – эта звезда, сегодня, еще обиделась бы, или рассмеялась; но вот, в современной России уже не смеются и не обижаются, все преодолели; и хоть слова «брак», «развод» еще болтаются, но так ненужно, и так установленные формальности лишены всякой цели, что большинство «свадеб» происходит даже без них. Придет девица с узлом в комнату человека мужского пола, вот и брак. Уйдет, или прогонит он ее с узлом, – развод. Это предел легкости развода, как и того брака, следствием которого он является.
В европейских странах до подобной легкости еще не дошли. Но какие основания думать, что не дойдут? Да, наконец, почему бы и не дойти? Сохранились бы и деньги, и время, которые тратятся и при самом удобном разводе. А суть дела осталась бы тою же. Пять, двадцать или сто переменных сожитии, сколько их браками ни крести, браком не сделаются. Как сто «любвей» в любовь не превратятся.
Что касается законодательств, то судить их надо просто: не отвечают современным требованиям – плохи, отвечают – хороши. Отношение к браку у современного человечества таково, что развод должен быть непременно облегчен. И хорошо, что он облегчен.
Другое дело – это новое «отношение». Но его, пожалуй, и совсем не стоит судить. Тем более, что не к одному, ведь «браку» изменилось у современных людей отношение. Может быть, в самом человеке начинает что-то перемещаться, или что-то отпадать. Есть мнение: «Современный человек – это человек с выдающимся подбородком». К нему другие добавляют: «Да, и со срезанным затылком».
Если так, можно ли требовать от срезанных затылков, чтоб они имели не им свойственное отношение к вопросам жизни, устраивали не им свойственный быт и жизнь на земле? Пусть женятся, как умеют, соединяются, как могут, разъединяются, когда захочется. Вопрос о детях? И он легко разрешится с уничтожением частной собственности, – как, приблизительно, разрешен у термитов.
Впрочем, это по логике, а Бергсон давно доказал, что логика, применительно к живой истории, никуда не годится. Очень может быть, что среди уставшего от термитизма человечества явится новый Розанов. А с ним возникнет и забытый вопрос о «я» и «ты», о любви, о семье, о браке истинном, который потому и нерушим, что истинный.
48 ЛЕТ
Трагедия Толстого и его жены [118]
Эта замечательная книга, уже нашедшая живой отклик во французской печати, вновь возвращает нас, и совсем особенным образом, – к теме, которая сама по себе очень тяжела. «Трагедия Толстого и его жены» – трагедия брака, т. е. человеческих отношений самых сокровенных, – как входить в нее; как судить ее? Но я понимаю, скрытой она все равно остаться не могла, – ведь это Толстой! О его семейной трагедии писали и пишут тысячи людей, судят так и эдак, доискиваются, кто прав, кто виноват, муж или жена? Мало того: вокруг нее создаются легенды, подчас злостные (примеры даны в предисловии к вышеуказанной книге). Поэтому всякий, кто может сказать тут свое слово правды, не должен молчать, хотя бы первичное человеческое чувство – прикосновения к чему-то слишком сокровенному – в нем и оставалось.
Авторы книги, о которой пишу, – это сам Толстой и его жена. Е. Гальперин-Каминский дает лишь предисловие, с указанием документов, которыми пользовался, краткую биографию обоих Толстых (для французских читателей), да связующие вставки между текстом; текст же сплошь, – «интимные дневники» супругов, тайные («sec-rets»), которые читали только он и она; письма их друг к другу, или к третьим лицам, самым близким мужу или жене. Большинство документов только что обнародовано в Сов. России (дневники в отдельных изданиях, письма С. А. в двухтомном сочинении Жданова «Любовь в жизни Толстого»).
Выдержки из одного «тайного» дневника перемежаются с выдержками из другого, и видно, как муж и жена друг другу отвечают, пишут будто в одной тетради поочередно. Двое об одном, о своей любви, о своих отношениях. Не понимали друг друга? Нам часто кажется – да, не понимали. Но понимаем ли мы-то, со стороны, какое было еще между ними понимание, сверх словесного, даже толстовскими словами не выразимое? Стоит прочесть до конца эту интимнейшую повесть, 48 лет длившуюся, чтобы убедиться: такое понимание между ними было; и оно оказалось сильнее всех умственных и прочих несогласий; даже было оно, в Толстом, чуть ли не значительнее его «обращения» и всей его «доктрины».
Говорят: С. А. «не подходила» к Толстому. Я скажу, быть может, ересь: но к Толстому, прежде всего, не подходила его «доктрина», его «учение». Вовсе не потому, что он любил «буржуазную жизнь», или славу, или был «грешник»; нет, толстовство не подходило к нему, как к живому человеку. А ему одному столько отпущено было всего, что делает человека живым – на десять других могло бы хватить! Благодаря ей, громадной и всесторонней силе жизни, – Толстой постоянно вырывался из сетей, которыми сам же все время себя опутывал.
Если б Толстой и не был великим писателем, а только жил бы, как жил, горестно и трудно, падая, подымаясь, снова падая и взывая к Богу о помощи, – он все равно был бы велик, ибо мы не знаем более страстного искателя правды. Правды самой высокой, правды во всем и в себе, правды перед собой и перед Богом. Он положил на это исканье и душу свою; и сердце, и… разум. Только разум его был такого свойства, а, главное, доверие его к собственному разуму было таково, что оно-то постоянно и связывало в нем живого человека. Каждый этап, мысль попутную, он искренно принимал за окончательную и, выразив в словах («дав людям»), уже считал себя ответственным за ее воплощение. Но приходила другая, следующая; совесть не позволяла отречься от предыдущей, и он бился в противоречиях.
Является к нему какой-нибудь «последователь» с упреками: не ваши ли слова, что надо бросить роскошную, праздную жизнь, уйти от всего? Почему же вы сами вашей «доктрине» не следуете? – и Толстой, человек громадной внутренней силы, слабеет, терзает себя, кается. Не смеет сказать то, что говорил в дневнике: «…совсем не нужно менять внешние условия жизни, чтобы следовать учению Христа… достаточно, – и это самое главное, – постоянно укреплять, очищать нашу внутреннюю жизнь, оставаясь на том месте, в том положении, которое послано каждому из нас судьбой… Если каждый в отдельности станет лучше и выше, тогда и общая жизнь станет лучше для всех…».
Но о том, что нельзя жить в роскоши и праздности, он ведь тоже говорил? Тоже по совести, «по разуму»… И Толстой склоняет голову: «Да, надо уйти, но я слаб, я еще не могу решиться доставить горе людям, которых, хотя они и не согласны с моими мыслями, я люблю».
Способность любви была у него, природно, исключительная. Любви всяческой, и подлинной, т. е. живой. Но чем больше говорит он о «любви», втискивает ее и себя в свое «христианство», – тем меньше любит; или нет, тем меньше чувствует любовь: сдавленное путами сердце немеет, как немеет крепко связанная рука.
Я говорю о любви вообще, – к людям и к человеку, к миру и Богу; если же мы вернемся к нашей теме, – любви Толстого к жене, – то надо сказать, что эта любовь с особенной силой рвала налагаемые на нее путы; так, что до самого последнего конца, до Остапова, оставалась живой. А испытания ей были посланы безмерные… В меру одного, разве, такого человека, как Толстой. Бесполезно прилагать к этой любви обычные эпитеты: нежная, грубая, духовная, плотская, верная, мучительная, грешная, святая… нет, просто любовь, ни такая, ни другая, а все вместе; любовь, которая два существа заключает в один свой круг. Никакая разность (ума, талантов, свойств) его не разорвет; ни удары судьбы, ни, тем менее, усилия посторонних людей. Все это давало Толстому и его жене лишь страдания, доводившие их подчас до слепоты, до слепых действий и поступков. Но любовь оставалась: в ней была правда, одна и та же для обоих.
В светлые минуты Толстой, с последней искренностью, твердит своей подруге: ты не виновата, не виновата, я понимаю, что ты просто физически не могла следовать за мною по моему новому пути. Я тебя понимаю и я неизменно люблю тебя…
Но перед крупным и самым страшным, – потому что самым мертвым, – толстовцем, Чертковым, Толстой уже начинает оправдываться: «Деторождение в браке, – пишет он ему, – не разврат… и половое общение, позволяющее роду человеческому продолжаться, – не грех, это божественная воля… Христос недаром любил детей…».
Однако, едва прошло несколько месяцев, – вот «Крейцерова соната» с ее послесловием, новая «доктрина», учение о полной чистоте, отрицание брака. Суровая проповедь «братской» любви», ко всем равно. Проповедь, которой сам Толстой, живой человек не следует, – и начинаются новые терзания, недоумение, мучения совести; покаянья перед главным мертвецом – Чертковым и маленькими мертвенькими «толстовцами», – круг которых в это время уже смыкался теснее.
…Я чувствую себя угнетенным, больным, пишет Толстой. Я не могу победить себя… Я хотел бы отдать остаток моей жизни на служение Богу. Но Бог не хочет меня. Или не хочет направить меня на тот путь, по которому я хочу идти… И я раздражаюсь…
Глухо, но всем сердцем, болел он и страданьями Софьи Андреевны. А она страдала не меньше, иногда больше его. Она была той цельной, без особых сложностей женщиной, какой создал ее муж, любовь, долгие годы беспорочного брака. Толстой, в напряженной сложности своей, искал, что-то находил, или думал, что находит. Она же все нашла, ей могли грозить только потери. С мужем и любовью она, действительно, теряла все. Не зная за собой вины (и не имея толстовских «утешений»), она мучалась безвыходно, безразумно, с ощущением самым горьким, – великой несправедливости, над ней совершающейся.
Софья Андреевна – незаурядная женщина. В ней много силы. А вечно прекрасное, – женское и материнское, – так было в ней ярко, что не могли менее яркими быть и другие стороны женского: трепет потери всего, что составляло жизнь, борьба с несправедливостью, собственные несправедливости, несдержанность непонятого страдания.
Все это Толстой понимал. Понимал – и вдруг точно забывал. И опять понимал – и опять забывал. Сила жизни слабела. Можно только удивляться, как еще долго хранилась она под этими путами, которые теперь затягивали на нем, все туже, – другие.








