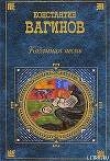Текст книги "Озеро призраков"
Автор книги: Юрий Любопытнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Вскоре из-за поворота, за которым дорога спускалась в ложбину, на луг, кое-где промытый паводковыми водами, показались казаки. Впереди отряда, покачиваясь грузным телом в расшитом седле, ехал Мокроус. Из-за лесной сырости кунтуш был застёгнут на все пуговицы. Он лениво стегал коня плетью, ехал самоуверенно, будто влитой в седло. Сбоку от гнего, то вырываясь вперёд, то чуть отставая, гарцевал Говерда. Днём его кровоподтёк под глазом и над бровью стал ещё заметнее. Он надвинул кучму на лоб, чтобы скрыть след, оставленный руками русской пленницы. Шляхтич Добжинский, насупленный и недовольный всем: и казаками, и плохо проведённой ночью, и сырой погодой – бросил поводья, дав волю коню, который нёс его, повинуясь общему движению. За ними, выставив копья вперёд, будто идя в атаку, ехали остальные, некоторые зевая, а другие, втянув голову в плечи от сырости, пробиравшей до костей. Сзади, понукаемые возницами, тянулись обозные лошади. Пустые телеги кренились в канавах, скрипели, оставляя на сырой земле узкие колеи от колёс, стянутых коваными шинами.
Мокроус привстал на стременах – вдали за луговиной завиднелись соломенные крыши деревни. Избы стояли недалеко друг от друга, серые с узкими оконцами.
Неожиданно сотник заметил, как из леса, окружавшего луг, стали выходить люди с копьями, вилами, рогатинами, длинными палками и дубинами. Они перегородили дорогу, выстроившись узким клином. Кто-то из казаков свистнул. Все разом перестали клевать носами и посмотрели туда, куда им указывал Мокроус. Сотенный голова сразу оценил обстановку. Он решил сомкнуть отряд, на полном ходу наехать на мужиков и смять их.
– Сомкнись! – раздалась команда сотника, и казаки, как один, поспешили выполнить его приказ.
– Сейчас мы покажем этому быдлу, – взревел Говерда и вытащил саблю из ножен.
– Их там много, – проговорил Добжинский, подъезжая к сотнику. – Полсотни будет.
– Это лапотники, – бодро ответил сотник. – Мои хлопцы зараз разметают это скопище нищих. Вот проверим твою храбрость, – засмеялся он, поглядев на шляхтича, – каков ты в бою. Это тебе не девок полонить.
Он присвистнул, ещё раз заставляя отряд сосредоточиться, и хлестнул коня плетью. Казаки во весь опор поскакали навстречу крестьянскому войску.
– Вперёд! – яростно кричал Говерда, настёгивая коня. – Бей пёсье семя!
Его сабля сверкала в лучах выглянувшего солнца. Остальные казаки мчались на мужиков с копьями наперевес. Бросив обоз и взяв оружие, к отряду присоединились и возницы.
Мокроус решил с ходу, с наскоку, врезаться в крестьян, разметать их конями, копьями, а потом рубить саблями. Казаки мчались вперёд, свистя и улюлюкая, и только комья земли летели из-под копыт горячих коней.
Когда до крестьян оставалось совсем немного, с высокого бугра в направлении отряда сечевиков покатились колёса телег, пущенных руками сельских ребятишек. Некоторые горели, обмотанные пучками просмолённой соломы. Колёса катились, подминая под себя траву, как молчпливые предвестники надвигающейся беды.
Казаки поздно заметили надвигавшуюся опасность, а когда заметили, было уже поздно. Чтобы не поломать ног коням, они сбились с темпа: кто выехал вперёд, кто в сторону, кто осадил коня. Отряд смешался. Скорость была потеряна. В этот момент прозвучал выстрел. Стрелял Сенька Крест. Метился он в Мокроуса, но промахнулся. Свинцовая пуля всё-таки нашла свою жертву, пробив грудь одному из казаков. Он свалился под ноги коня. Это был сигнал к началу сражения. В сечевиков полетели камни, а потом мужики бросились вперёд.
– А-а-а, – истошно заорал Говерда, хлестнул коня и со всей силой врезался в кучу крестьян. За ним бросились остальные, уже ошалевшие от выстрела, от первой крови, катившихся колёс, ломавших ноги коням и принося увечья казакам.
Говерда рассёк голову косым ударом сабли подвернувшемуся мужику и, видя его, клонившегося к земле с широкой полосой крови, залившей рассечённое лицо, озверел. Махая саблей направо и налево, он, как дьявол, носился по лугу, оставляя после себя изувеченных и убитых. На него бросились трое или четверо мужиков. Огромный детина, простоволосый, с чёрными длинными волосами – старший сын Вороного Иван, сбоку зацепил Говерду крюком и потащил на себя. Затрещала свита. Казак не удержался в седле от рывка и опрокинулся, запутав одну ногу в стремени. С земли он не успел подняться – рогатина, вилы и багор, прокололи ему грудь. Говерда лежал на жухлой траве, на спине, широко раскинув руки, и его ещё минуту назад жёлтые глаза заплывали мертвенной паволокой.
На помощь мужикам из ольшаника с криками и свистом высыпали разбойники. Они напали на выбитых из сёдел казаков и рубили их саблями. Чёрмный выбрал себе рослого казака и наседал на него. Его сабля металась, как молния, отражая удары и искала момента, чтобы противник открылся. Рубанув сечевика по руке, и когда тот опустил на мгновение саблю, бывший товарищ Болотникова сшиб голову противнику.
Мокроус, сверкая страшной саблей, уже уложил троих или четверых мужиков и готовился расправится с пятым, как ему под рёбра ткнулась стрела, пущенная из самострела. Сотник удивлённо повёл глазами, и в этот момент тяжёлая слега Степана Горшка опустилась ему на затылок. Смушковая кучма слетела с бритой головы сотника, а за нею сползло с коня грузное тело её владельца.
Бездыханными лежали Мокроус, Говерда, Непийвода, Закруть. Посечённые саблями, проколотые копьями лежали на холодной земле неподвижные тела крестьян, а битва продолжалась. На Добжинского набросились сразу трое. Он отбивался саблей от мужицких дубинок, понимая в душе, что долго не продержится. Махая саблей, он пытался выбраться из месива сражавшихся, чтобы, надеясь на резвые ноги коня, отступить и попытаться скрыться от этого яростного быдла. Но не сумел осуществить свой замысел. Федот огрел его дубиной по спиге, а Стёпка Горшок подобрал казацкое копьё и со всего маху всадил Добжинскому под лопатку. «Ну вот и смерть пришла», – успел подумать шляхтич, выпуская из ослабевших рук поводья.
Вороной отбивался рогатиной от наседавшего казака. На плече из разрубленного зипуна чернело пятно крови. Казак саблей пытался достать кудринца, но встречал на пути, то лезвие рогатины, то крепкое дубовое древко. «У клятый ворог!» – шептал Вороной, стараясь увернуться от ударов и ткнуть рогатиной сечевика. На помощь отцу поспешили сыновья – Иван и Алёшка. Втроём они свалили казака с коня, и тот затих под ударами мужицких дубинок.
Трое верховых обозников, видя, что успех сражения переходит на сторону крестьян, – всё меньше и меньше мелькает красных и синих шлыков, а больше их лежит на земле, – бросились наутёк.
Видя, что битва выиграна, Чёрмный вскочил на коня, за ним, оседлав казацких коней, бросились разбойники и часть уцелевших мужиков.
Когда они примчались на стоянку сечевиков, она была пуста. Дымился костёр, над которым висел большой котёл с варевом. Заржали лошади, увидев незнакомых людей.
– Утекли, – останавливая коня и вытирая шапкой разгорячённое лицо, произнёс Чёрмный.
Он взял всё имущество отряда, оружие, награбленную добычу, несколько лошадей с телегами, гружёнными ценностями и рухлядью – ценным мехом. Мужики разметали по поляне всё, что им напоминало о страшном соседстве. Сделав своё дело, они вернулись в деревню.
К вечеру, после похорон своих и чужих, в лесочке, за Вринкой атаман простился с мужиками.
– Вы меня не видели и не знаете, – сказал он им на прощанье. – Я вас тоже. Побудьте пока в лесу, в деревни вам возвращаться рано. Казаки могут нагрянуть снова.
Он оставил им с десяток казацких лошадей, уцелевших в битве, кое-какое оружие и навеки сгинул из этих мест. Потом, после Смутного времени, говаривали, что в Москве поймали какого-то отважного хотьковского разбойника, наводившего ужас на торговых людей. И был он засечен кнутом на Красной площади на Лобном месте. А может, это был и не филимоновский Иван Чёрмный. Много в те времена таких ватаг лесных людей под началом свирепых атаманов бродило в окрестных местах, скрываясь от произвола людей имущих.
* * *
До сих пор под Кудрином известны места, связанные с битвой, прошедшей между казаками гетмана Лисовского и мужиками в 1609 году. Луг под деревней с западной стороны, где сошлись два отряда, до сих пор звался Клинским. Рядом с ним склон, западнее, прозывался Сеча, а большая поляна у ведшей в село Озерецкое зарастающей теперь дороги, где была стоянка сечевиков, зовётся Казаково. Впрочем, и на ней уже поднялся осиновый подлесок и кусты орешника.
1991 г.
Никита из Бобыльска
1.
Матушку Евлампию привлёк сильный шум за окном. Она оторвалась от чтения Великих Миней-Четей митрополита Макария, подошла к небольшому оконцу, забранному толстыми слюдяными пластинами, выходившему на Соборную площадь, хотела посмотреть, что там происходит, но сквозь запотевшую слюду ничего не было видно. Она уж было хотела выйти наружу, как в сенях раздались голоса, дверь распахнулась, и на пороге показалась ключница Никандра. За ней она увидела нищего Фролку Кривого, жившего в одной из келий обители, и рослого бородатого детину Степана сына Фомина, плотника из Бобыльской слободы. В одной руке Никандры был пестерь, сплетённый из широких полос бересты, другая рука крепко держала упирающегося оборвыша.
– Дозволь, матушка, слово молвить? – сказала ключница, и её разгорячённое лицо закраснело. – Вот кто промышляет в наших кладовых.
Она втолкнула в келью мальчишку лет двенадцати, оборванного, в вытертой бараньей шапке, в грязных лаптях.
– В погребах поймали, – добавила Никандра.
– В погребах? – лицо Евлампии посуровело, а чёрные брови насупились. – Вот значит кто вор.
Она окинула взглядом тщедушную фигуру мальчишки в заплатанном кожушке, в широких портах и неудобных лаптях, не по ноге. Задержала взгляд на весноватом лице, на русых волосах, подстриженных «под горшок», взъерошенных и вспотевших. Вернулась к жаркой печи, стены которой были выложены глиняными изразцами с изумрудного цвета диковинными птицами, скользнула руками по тёплой глине, села в кресло.
Запасы у них на зиму были скудны, и недород был, и некому было убирать выращенное, из-за лихих людей крестьяне пашни побросали, в такую суровую годину не до ярмарок было – вот и не запаслись нужным. Тем более жаль было своих трудов, когда в последние дни стали замечать – повадился в кладовые вор: то одно пропадёт, то другое.
Матушка Евлампия воззрилась на мальчишку:
– Обличьем знаком. Ты никак с Бобыльской слободы? – спросила она оборвыша.
Тот кинул быстрый взгляд на игуменью и, потупив глаза, ответил:
– Тамошний.
– Пошто в погреба ходил?
Мальчишка молчал.
Игуменья медленно повернула голову в сторону Никандры, как бы желая вновь услышать подтверждения её слов о противоправных действиях мальчишки.
Та не успела ответить, как из полутёмных сеней раздался голос:
– Вор он. Был в погребах.
– Кто там голос подаёт? – брови игуменьи сомкнулись под чёрным платом.
– А Фролка Кривой. Он мальчишку поймал.
Никандра пропустила в келью низкорослого мужичка в засаленом полукафтанье, прихрамывающего на левую ногу.
– Лжёт Фролка, матушка, – прозвучал густой голос из сеней.
– А это ещё кто? – игуменья бросила быстрый взгляд в сумрачные сени. – Кто такой этот заступник?
– Это я, матушка, – оттеснив Никандру и Фролку, порог переступил высокий детина с русой бородой, в изношенном кафтане, с вьющимися волосами на голове, с жилистой шеей. В крепкой руке сжимал шапку из плохо скатанного войлока.
– Это ты, Степан? – Матушка посмотрела на детину.
Она хорошо знала Степана сына Фомина из Слободы, плотника, коего всегда звала для починения пришедших в ветхость устроений обители.
– Отчего заступником явился?..
– Неправду говорит Фролка. Не воровал Никитка в погребах. Напраслину бает нищий…
– А ты в доброхоты записался?
– Знаю, что не воровал. Он забрёл потому что увидел, что ворота раскрыты.
Евлампия сделала знак рукой, подзывая оборвыша приблизиться… Взяв на низеньком столике чётки и перебирая их, спросила:
– Как зовут тебя, отрок?
Мальчишка засопел, вытер шапкой потное лицо. Потом, исподлобья посмотрев на игуменью, ответил:
– Никитка сын Гаврилов. – И топтался на месте, оставляя на мытых половицах следы грязи.
– Да кто его в обители не знает, – говорила Никандра. – Он постоянно здесь обитает. Облазил все углы и закоулки. Батюшка у них помер третьего лета как, а его матушка вдовица Фрося хворая и немощная.
– Пошто в погреба ходил? – строго спросила игуменья и её большие глаза под низко повязанным на лоб платом внимательно посмотрели на мальчишку.
Тот молчал, а ключница откинула крышку пестеря и вытащила из его глубины моток грязной верёвки. Больше там ничего не было.
Никита помялся, а потом ответил:
– Я видел, как Фролка туда сунулся и пошёл посмотреть, что он там будет делать.
– Это правда? – Игуменья перевела взгляд на нищего.
Тот втянул голову в плечи. Глаза зло сверкнули:
– Я видал, как он замок сбил и открыл дверь. В погребе его и поймал и сдал сестре Никандре.
– Так, так, – подтвердила ключница.
У мальчишки готовы были брызнуть слёзы из глаз:
– Неправду он говорит. Не сбивал я замка. Не открывал дверей…
– Не бери, Фролка, греха на душу, – покачал головой Степан. – Никита врать не будет. Он чужого не возьмёт. А Фролка нечист на руку и ты это, матушка, сама знаешь, – горячо закончил он, повернувшись в сторону настоятельницы.
– Мне недосуг разбираться с вами, – вздохнула матушка. – Да и время такое. Как бы животы своя уберечь от напасти. Отпущаю вас, – она указала на Никиту и Фролку. Господь рассудит… Идите и не попадайтесь каждый. Суд мой будет строг…
– Поклонись матушке, – толкнула в спину мальчишку Никандра.
Тот втянул голову в худенькие плечи и неловко поклонился.
Когда Никандра с Никитой и плотник с нищим ушли, матушка Евлампия, подошла к божнице, сняла нагар со свечи и перекрестилась.
Стояла осень 1609 года. Смутой была охвачена Русь. Цари и самозванцы сменялись один за другим. И в эти жернова попал маленький Покровский Хотьков девич монастырёк на реке Паже. Когда его отдали под начало соседнего Троице – Сергиева монастыря, жизнь в обители с каждым годом стала улучшаться. Обитель крепла, увеличивалось число насельниц. Но вот наступившее лихолетье нарушило всё. Когда стало ведомо, что многочисленное войско ляхов с казаками двинулось в сторону Троицы, насельницы монастыря и некоторые обитатели окрестных деревень с тем, что могли захватить с собой, отправились под стены Троицкой обители. Евлампия с Никандрой задержались, провожая обозы с припасами, кое-какой утварью в Троицу. А когда проводили, сами не сумели спрятаться в монастыре – ляхи уже заняли все подступы в нему, и ворота Троицкой обители были крепко затворены. Так и остались они в монастырьке своём переживать тяжёлую годину. Осаду держит Троица и не может ничем помочь Покровской обители, сами терпят нужду и лишения. Отец Сергий, священник Покровской церкви, отъехав к Троице, так и остался в её стенах, не могущий выбраться оттуда. Надежда на свои силы. Поляки с казаками по лету наведывались в обитель, но ничего не тронули. Но то было, а что будет? Народ обнищал, многие жилища разрушены, люди бросились в леса, живут в землянках и медвежьих берлогах, едят траву и коренья… Не от хорошей жизни залез в их погреба этот мальчишка. В другое время она бы и наказала его, но в эту годину рука не поднимается сделать этого. Они сами ждут неминуемого. Что заблагорассудится вражескому войску? Спалят монастырь, пустят его на дым, как жилища простолюдинов, разграбят…
Евлампия отошла от божницы, рукой оперлась на оконный косяк. В молодости она была красива. Да и сейчас под тёмным монашеским платом, плотно охватывающим голову, на лице ещё оставалась прежняя красота, хоть и поблёкла, и кожа посерела, но глаза, большие и выразительные, говорили о прежнем достойном величии.
Кто бы мог узнать в ней младшую дочь боярина Ивана Васильевича Шапкина-Шарапова. Опричники Ивана Грозного казнили старого боярина вместе с двумя сыновьями, хоромы разграбили, двух дочерей отправили в монастыри. Анастасия Шарапова стала сестрой Евлампией. Сорок лет монастырского жительства… Она и не помнит ту жизнь у батюшки… Словно и не росла любимой дочерью…
Накинув на плечи меховой кожушок, она вышла из кельи и спустилась со ступенек на площадь. Покровский собор, возвышавший свою маковку вблизи Водяных врат, названных так не из-за того, что рядом под тесовым верхом поднимался сруб колодезя, а по причине того, что через эти ворота насельницы ходили по воду на реку Пажу, ключевая вода которой была не хуже, чем колодезная.
Евлпампия хотела, взявши Никандру обойти житницы и амбары, ютившиеся под бугром к оврагу, по которому протекал еле заметный ручей. Кое-каких припасов на зиму они наскребли, не Бог весть, как много, но можно было бедно прокормиться, не протянув ноги. Но как жито, горох и ячмень сохранить, ведь принесёт нелёгкая ляхов, начисто пограбят обитель, не посмотрят, что Боговым промыслом живут. Оскудели окрестные селения, народ подался куда глаза глядят, хоронятся в лесу, по оврагам. Некуда бежать – вся земля, все веси и грады под бесчинством иноплеменных войск.
Она опять услышала шум, привлекший её. У входа в трапезную нищий Фролка Кривой поймал Никитку за ухо и отчитывал его:
– А это за то, чтоб не городил напраслину. Будешь знать, чадо диавола.
Никитка морщился от боли, но не кричал.
К Фролке подошёл Степан, отолкнул нищего:
– Отпусти мальчишку, – сказал он ему. – Сам побираешься по подворьям, нашёл кров в монастыре, ешь чужой хлеб, и указываешь, барма ярыжка!
При монастыре были четыре отдельных кельи, предоставленные нищим. В них жили записные нищие, которые обитали в монастыре не один год ради пропитания. Фролка был один из них, слепой на один глаз, худой, низкорослый, кривоногий. Единственный глаз был как бурав, ввинчивающийся в собеседника. Нраву он был беззастенчивого. От него всегда пахло чесноком и луком и никогда не исчезающим запахом нечистого, исходившего из него даже после бани, куда регулярно запихивала весь сброд, приютившая их обитель.
Фролка рад был надрать уши мальчишке под общее настроение. Он давно имел зуб на Никитку. Нищий сам был нечист на руку и был замечен окрестными пареньками в злом умысле – года два назад уворовал он у монахини Палагеи убрус дюже цветаст и красовит. Он сорвал его с верёвки возле кельи монашки и хотел засунуть себе за пазуху, чтобы потом сбыть, но Никитка и ещё один мальчишка увидели это и засвистели. Фролка положил убрус на место, и никто не знал о его басурманстве, но мальчишки при встрече с ним всегда тихонько посвистывали, показывая этим, что не забыли проделок Кривого, и что его действи могут всплыть наружу. Поэтому сегодня представился удобный случай показать сорванцу, что не так он и чист перед людьми и Богом и тем более скрыть свой грех: Фролка первым зашёл в погреб, чтобы чем-нибудь поживится.
Плотник Степан, шедший от Северных ворот, где поправлял покосившиеся створы, тронул Никиту за плечо и сказал:
– Пойдём в Слободу.
Фролка, скособочив голову, глядел им вслед, потом сплюнул, растёр плевок ногой и заковылял к своей келье.
Плотник с мальчишкой по тесовым мостовинам спустились к Водяным воротам, вышли из них, Степан снял шапку и перекрестился, обернувшись, то же самое сделал Никита, и они пошли через мостик, чьи певучие брёвна были переброшены через реку Пажу, и поднялись на взгорок, где недалеко друг от друга стояли приземистые, почерневшие от дождя и ветра, крытые почерневшей соломой подслеповатые в одно, реже в два окошка лачуги.
Вкруг монастыря селились безземельные люди – бобыли, добывающие себе прокормление возле стен обители. От них и пошло название – Бобыльская слобода. Была она небольшая: по обе стороны Радонежской дороги в кривой ряд выстроились не больше дюжины дворов.
– Ты что делал в сестринских погребах? – спросил Степан мальчишку.
– Маманька хворая, а есть нечего… Шёл мимо погребов…
– Хотел утащить?
– Не знаю. И хотел и не хотел…
– И что у погребов?
– Когда подошёл, вижу Фролка накладку сбивает…
– И ты за ним?
– За ним.
– Поймал он тебя, а не ты его.
– Так вышло…
– Но если бы ты не увидел Фролку, залез бы в погреб?
Никита вздохнул:
– Залез бы, наверно. Голодно.
– У сестёр попросил бы подаяния. Хоть и люто ноне время, а в куске хлеба не отказали бы.
Никита хлюпнул носом:
– Больно есть захотелось.
– А сваливаешь на маманьку. Знала бы она розог бы всыпала.
– Дядька, Степан, не говори уж ты… маманьке.
– Я-то не скажу. – Степан надвинул шапку на глаза Никите. – Не бойся. Но ты не воруй. Не гоже христианину воровать.
– Я ж не воровал. Я только хотел.
– Раз помыслил уже согрешил в сердце…
Они поровнялись со Степановым жилищем, почти новой избой, с квадратными оконцами с наличниками, с крыльцом с балясинами, под двускатной крышей.
– Я в лес по дрова, – сказал Степан. – Не увяжешся со мной? У маманьки поди и дров не запасено?
Никита обрадовался:
– Пойду. Какую никакую, а вязанку принесу.
– Тогда собирайся и жди меня.
Окрестные монастырю крестьяне жили худо. Ещё по весне налетевшая шайка казаков и ляхов увели с подворьев всю скотину и теперь захудалой лошадки на семь вёрст ни у кого не осталось. По дрова в ближайший лес ходить приходилось пешком. А на горбу много ли на зиму натаскаешь! Степан вздохнул, засунул за пояс топор, взял худые рукавицы и вышел на улицу, где его ждал Никита.
Они миновали небольшие огороды, шмыгнувши в проулок между избами квасника Нелюба Парфёнова да колпачника Давыдки Пименова и за круглым польцом заступили в лес, где монастырём была выделена небольшая делянка, на которой могли набирать валежника жители слободы.
Степан, оглянувшись по привычке, хотя знал, что окрест никого нет, срубил две небольшие осинки и сделал и них волокушу, привязав поперечины взятой из дома вервью.
– Ну вот, Никита, – сказал он, – клади валежник, мелкие сушины.
Они стали собирать валежник, Степан топором срубал небольшие сушины, перерубал их и клал на волокушу. Скоро она была полна дров. Степан попробовал протащить её несколько шагов.
– Будет, – сказал он. – Больше не дотянуть. Сейчас перевяжем, чтоб не упали дрова, и в путь.
Он перевязал тонким сыромятным в две нити плетённым ремнём дрова, взялся за жерди. Волокуша, кренясь на неровной почве, тащилась за плотником. Никита, видя, как дядька Степан тяжело тащит воз, стал помогать ему. С отдыхом они через час дотащили волокушу до слободы.
2.
Били в сполошный колокол. Удары разносились над монастырским холмом, над бревенчатыми кельями, проносились над Пажей и терялись в густом окрестном лесу.
Из покосившихся изб слободы выскакивали не сумевшие утечь под стены Троицы люди, на ходу запахивали одежонку, бежали к Водяным воротам. А набат гудел над окрестностями, вспугивая вороньё с высоких сосен.
Люди крестились, не зная, что произошло и шептали:
– Господи, спаси и пронеси лихое! Спаси и пронеси!..
На Соборной площади собрался народ, оставшиеся монахини, всего числом не больше сотни.
– Пошто трезвонили? – вопрошали крестьяне друг друга, не видя того, кто бы им мог сказать, что случилось. – Пожар где, али ещё что?
Из кельи вышла матушка Евлампия с коренастым мужичком в войлочной шапке, отороченной беличьем мехом.
– Гонец прибыл из Подушкина, – сказал она, кивнув на мужичка. – Говори! – обратилась она к нему.
Мужичок снял шапку, зажал её в руке и поклонился толпе:
– Ляхи числом более сотни идут сюда, – горячо сказал он. – В Сатькове остановились на отдых, а вскоре прибудут сюда. Казаки с литовцами бесчинствуют, отымают припасы, одёжу, скот, кто не увёл в лес…
– К нам по Инобожской дороге пойдут, – сказал кто-то в толпе.
– Прячьтесь люди добрые, – сказал мужичок. – Таите добро своё.
– Что таить? Что было уж разграбили. Иное в лес отправили. Скотину жалко. Как без скотины жить-то…
– Что скотина! Сами хоронитесь. Вороги лютуют…
– За какие грехи Господь наказывает нас…
– А вы сестры? – спросил мужичок игуменью, когда люди стали расходиться. – Как вы то?..
– А мы будем Богу молиться. Куда нам податься?
3.
Ляхи с казаками нахлынули внезапно. Не прошло и часу, как мужичонко с Подушкина сообщил тревожную весть, а они тут, как тут. И не один десяток. Монастырская улица наполнилась запахом конского пота и кожаной сбруи. Иные из слуг монастыря и скарба малого, с чем бечь в лес, не успели собрать.
Конные стали рыскать по монастырю, с десяток поскакали в Бобыльскую слободу.
Степана схватили в его избе, скрутили руки назад, выволокли на улицу, связали верёвкой и так за верёвку, как скотину, привели в монастырь на площадь. Там уже были мужики, согнанные с окрестных мест, кто не успел податься в лес. Степана толкнули в толпу пригнанных, не развязывая рук. Рядом с собой он увидел краснолицего коренастого мужичка в полукафтанье с надорванным рукавом, в кожаной рыжей шапке, отороченной овечьим мехом. Степан узнал его: это был Филипп Малой, родом из опустевшей деревеньки Сукольниково, промышлявший тележным ремеслом при монастыре, с месяц или два назад подавшийся в леса от первого наезда шлехетской своры.
– Филька, – воскликнул плотник. – Бодай тебя комар! Ты ж…
Мужик подмигнул ему:
– Тише! Словили меня. Подался я сегодня утречком сюда навестить сударушку, да попался ляхам на завтрак. Вишь, привели на лобное место. – Он криво усмехнулся.
Степан хотел ещё о чём-то расспросить Фильку, но на крыльце раздался шум.
С игуменских покоев, по лестнице спустился высокий человек с измождённым от болезни или от аскетического образа жизни серым лицом, с прямыми светлыми волосами почти до самых плеч, в дорогой бархатной одежде с позолоченными пуговицами и вышитыми по синему полю шёлковыми затейливыми цветами. На поясе болталась длинная шпага. Рядом с ним шествовал, иного слова нельзя было подобрать, круглый человечек с гладко выбритой головой и длинными чёрными усами, спускающимися к подбородку, в зелёном жупане и кривой саблей на боку. Атласные шаровары были заправлены в мягкие козловые сапоги.
Длинный испитой человек остановился перед толпой на предпоследней ступеньке крыльца и заговорил. Голос был скрипучий, как песок, попавший в жернова:
– Ну что, пёсье отродье, – сказал он, поводя светлыми глазами по толпе и держа левую руку в перчатке на эфесе шпаги. – Желаете служить польскому королю Сигизмунду?
Толпа безмолвствовала.
– Не хотите говорить, чума на вашу голову! Не образумились ещё? Не пришло время? – Он сделал длинную паузу, мрачно посмотрел на разношёрстную толпу, понуро стоявшую у крыльца, и рукой подозвал поближе толстого человечка: – Прикажи привести того… нищего.
Толстяк, гремя саблей, бросился исполнять приказание.
– Сказывают, – продолжал пан, – будто от вашего монастыря к Троицкому ведёт подземный ход. Только никто якобы не знает где. Мы бы попытали сидельцев троицких, да они носа не кажут из-за стен. Вот мы и навестили вас. У вас нет стен таких дуже мощных… – он захохотал.
Захохотали и несколько человек, пришедших с ним.
В дверях игуменских покоев показался толстяк, а за ним Фролка Кривой. Его сразу нельзя было и узнать. Непокрытая голова была расчёсана, на плечи был наброшен ярко жёлтый кунтуш, в сапоги с подковками были заправлены бархатные штаны.
– Фролка! – прошелестело в толпе. – Ой! Смотри, народ, обнову справил! Вот и нищ!
– Наряди козла в епанчу, всё равно козлом останется, – сплюнул на землю Филька Малой. – Он лазутчик ляхский. – Глаза слобожанина блеснули из-под шапки.
– Это ваш человек, – ткнул пальцем в Фролку шляхтич. – Вы его знаете. Он говорит, что есть подземный ход из вашего монастыря в Троицкий.
Толпа безмолвствовала.
– Так есть или нет? – грозно повторил пан. Брови его сдвинулись к переносице.
– Откуда нам знать, – произнёс из толпы горшечник Платон. – Есть или нет. Это, чай, не дорога, по которой кажинный день ездишь. Нам это неведомо.
– Если Фролка сказывает, что есть такой ход, его и пытайте. А с нас что взять, – сказал Степан. – Откуда нам знать.
– Кто это голос подаёт? – поднял кверху бровь пан.
Степана вытащили из толпы и хотели бросить под ноги пану, но Степан, откинув в стороны поляков, набычился, глядя на долговязого шляхтича.
– Привяжите его к столбу, – распорядился пан, указав на плотника.
К Степану подбежало несколько солдат, схватили за верёвки и поволокли, опутав руки и ноги, к столбу, врытому посреди площади. Содрали сермягу, оставив в одной домотканной рубахе, и привязали к столбу.
– Сказывай, где здесь подземный ход? – обратился к нему пан.
– Не ведаю ни про какой ход, – ответил Степан.
– Не верю. Должен знать.
Степан молчал.
– Всыпьте ему батогов. – Пан повёл глазами в сторону, где обочь крыльца стоял десяток вооруженных кирасиров.
Двое рослых ляхов с палками в руках встали по сторонам столба.
Долговязый шляхтич махнул рукой. Удары батогов посыпались на спину Степану.
После десяти или больше ударов, пан спросил:
– Ну так вспомнил, где есть ход.
– Я не слыхал о таком, – ответил Степан.
– Привяжите столбу вон того, – сказал пан, указав на Платона горшечника.
Тот был ростом ниже Степана, худой, как тростинка. Шляхтич, видимо, подумал, что у такого мозглявого человечка легче выбить признания.
Платону тоже всыпали батогов.
Он ругался во весь голос, когда его били, но тоже сказал, что не знает, где ход.
Отведали батогов ещё трое крестьян, но с тем же результатом, и долговязый прекратил экзекуцию.
– На сегодня хватит, – сказал он. – Завтра будет время.
– Добже. Продержим в темнице, поголодают, сразу языки развяжутся, – сплюнул себе под ноги круглый человечек с усами.
– Запереть в сарае, – распорядился длинный шляхтич, указав на толпу мужиков. – Еды и воды не давать.
Мужиков увели на западную сторону монастыря, где была сооружена небольшая баня, а за нею на широком лугу сенной сарай. Ворота сарая закрыли и подпёрли крепкими осиновыми слегами.
4.
Степан полулежал на колком сене в углу у венцов сарая и молча слушал рассказ Фильки Малого.
– Житьё в лесу – мало сладкого, – говорил тот. – Летом, сам знаешь, каждый кустик ночевать пустит, да и зимой бывало зимовали. А осенью хуже некуда. То дождь, то снег, землянку заливает, грязь, всё мозгнет – нет, не житьё. Одна отрада – пощипать какой польский обоз.
– А что бывало? – спросил Степан.
Филька усмехнулся:
– Бывало? Ещё как. Не кажный день ляхи по дороге ездят, но случается. А мы тут как тут.
– А что в обозах-то?
– Разное. Зелье пороховое, ратные доспехи, оружие, пропитание везут, деньги. Но когда казна, обоз сопровождает много служилых людей, дозор и впереди и сзади. Это не по нашим силам. Мы так – кто отбился, кто заблудился… Всяко с ними в дороге случается: то телегу в канаву завалят, то лошадь оступится…