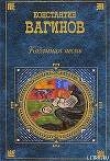Текст книги "Озеро призраков"
Автор книги: Юрий Любопытнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Сеча на Клинском лугу
1.
Впереди oтряда ехал Мокроус на гнедом жеребце. Жупан из узорчатой парчи, перехваченный широким золотистого цвета пояcoм, красные атласные шаровары, заправленные в зелёной кожи с загнутыми носами сапоги, дорогое седло и кривая сабля придавали ему богатый, воинственный и начальственный вид. На голове возвышалась белая смушковая кучма, оканчивающаяся коническим шлыком, свисавшим на левую сторону. В левое ухо была продета тяжёлая золотая серьга в форме полумесяца, оттягивающая мочку вниз. Чёрные усы были настолько длинны, что не свисали вниз, как у остальных казаков, а были заложены за уши.
Полсотни бравых молодцов, следовавших за ним. с длинными копьями, самострелами и мушкетами, одетых столь же вычурно, сколь и небрежно: в разного цвета свиты, в синие и красные шаровары, чёрные куртки-киреи и бараньи шапки – почтти сливались с осенним разноцветным лесом, уже сбрасывающим листву. Прошедшие недавно дожди обильно смочили землю, и теперь в канавах стояла грязная вода, на которой плавали жёлтые и багряные листья. Сзади отряда, растянувшись почти на четверть версты, скрипя и кренясь на ухабах, колыхались повозки. На одной из них, оберегаемой наиболее тщательно, находился обитый коваными пластинами большой сундук, в котором хранилась казна казачьего войска.
Рядом с Мокроусом на ладном молодом жеребце лихо гарцевал шляхтич Станислав Добжинский, чей наряд мало отличался от казацкого, если не считать более изысканного польского покроя. Сзади в обозе два холопа везли походный сундук шляхтича с предметами туалета.
Мокроус ни за что бы не взял этого высокомерного молодого пана с собой, если бы не приказ самого Лисовского. Зачем гетман послал этого лазутчика вместе с его отрядом, об этом Мокроус мог только догадываться, наверное, для того, чтобы казаки не скрыли большую часть добытого – деньги и золото нужны были гетману, чтобы выплптить жалованье солдатам. После нескольких дней похода сотник привык к обществу польского волонтёра, и его уже не раздражало то обстоятельство, что шляхтич совал свой нос, куда ему не следовало. Вооружённого столкновения Мокроус не ожидал и эта осенняя экспедиция принимала форму увеселительной прогулки. Да и кто мог оказать сопротивление отборной казачьей полусотне? Крестьяне? Были попытки нападения на поляков и казаков, но плохо вооружённые местные жители всегда бывали биты, сначала в сражении, а потом батогами или нагайками.
Осада Троицкого монастыря, которую долгие месяцы вело польско-казацкое войско, могла бы затянуться до зимы, а принимая во внимание отчаянную храбрость защитников крепости, и до весны, и это заставило гетмана Лисовского позаботиться о провианте на предстоящую зиму. Поэтому он послал несколько отрядов казаков пошарить по окрестностм, выгрести из закромов крестьян жито и дугтие припасы. Была середина сентября, крестьяне уже сжали хлеб, обмолотили его и ссыпали в сусеки амбаров, во дворы, свезли на мельницыв и привезли обратно в виде белой удивительно пахнувшей муки.
Мокроусу, сотенному голове, досталась дорога на Дмитров. Продвигаясь от осаждённой крепости к Озерецкому, довольно большому селу, вокруг которгго в лесах были разбросаны деревеньки, большей частью монастырские, он уже отправил несколько подвод с зерном и награбленной у крестьян живностью: коровами, овцами и лошадьми – под Троицу. Доставалась добыча на редкость легко, местные жители будто бы и не знали, что монастырь окружён неприятелем и, казалось, беззаботно ждали, когда у них возьмут выращенный урожай.
Обогатились и самти казаки. Два дня назад заехали они в небольшое сельцо Ворохобино. Жители при виде их воинственной шайки кинулись в лес, побросав свои избы и пожитки. Запасов отряд нашёл немного, но их неудача в этом окупилась сторицей в другом. На взгорке, крытая осиновым лемехом, возвышалась одноглавая деревянная церковь. С копьями наперевес, с гиканьем казаки помчались к ней, словно на приступ крепости. Ворвались в храм, стали срывать со стен иконы, расшитые жемчугом и бисером покрывала, полотенца, кидать в мешки незатейливую церковную утварь и предметы культа. Им не верилось, что в невзрачной на вид церквушки могли таиться такие драгоценности.
Батюшка уже старый, но ещё крепкий, пытался отсановить казаков, призывая покинуть божий храм. Но осатанелые усатые разбойники не внимали его речам.
– Опомнитесь! – заклинал их поп. – Или на вас креста нету? Басурмане вы или православные? Да будь даже католики – один у нас Бог Иисус Христос. Пошто поганите храм?
Один из казаков, ражий Степан Говерда пнул попа сапогом в живот. Тот упал на дощатый пол, заслонился от казака серебряным нагрудным крестом. Говерда сорвал крест с шеи старика.
– А ну кажи, где казна?
– Нет у меня казны, – простонал старик. – Да если бы и была не отдал бы вашему «тушинскому вору»…
– А-а, так!.. Не признаёте царевича Димитрия, законного наследника!..
– Не царевич он… Царевич убит в Угличе… А он вор, вор, не знамо чьих кровей. И ваш царь Сигизмунд, коему вы поклоняетесь, вор…
– Так вот тебе, пёс…, – каблук казацкого сапога пнул лицо священника. Старик замер. Только его седая редкая борода вздрагивала да из уголка губ пролилась на пол алая струйка крови.
– Побойся Бога, – к Говерде подошёл высокий казак. – Що ж ты стариков обижаешь, али нехристь ты?..
– Отойди, Чуб, – оскалился Говерда и хотел ещё что-то сказать, но увидел через дверь, как казаки протащили во двор небольшой, тёмного дерева, ларец. Забыв про старика, он бросился наружу.
Долговязый казак оттащил священника в сторону, прислонил его к царским вратам алтаря.
– Посиди, диду, посиди. Вот злыдень Говерда, на старика руку поднял…
В пылу разбоя казаки хотели поджечь и церковь, но Мокроус не позволил. «Не басурмане же мы», – подумал он. Он разделил награбленную добычу между своими товарищами, и весёлая ватага двинулась далльше в сторону Дмитрова.
Мокроус весело поглядывал на щеголеватого шлчяхтича и усмехался в усы. «Посмотреть бы на него в битве, каков он гусь», – думал он. А здесь можно сойти и за храбреца. И кой чёрт они ввязались в эту драку между Речью Посполитой и Московией? Этого Мокроус не мог себе представить. Вначале, окрылённые успехами, почти без сражений дошедшие до стен Москвы, они представляли единое войско. А теперь, когда смута не только в Российском государстве, но и в лагере зазхватчиков, дело принимало серьёзный оборот. Казаки пьянствовали, грабили и в этом находили успокоение. Вот и его головорезы объединены лиь одним интересом – набить себе кишени да потом пропить всё в объятиях какой-либо чаровницы шинкарки.
Лес был спокойным. Не порхали птицы и ничто не нарушало его осенний тишины. Лишь один раз дорогу казакам перешёл лось. Лениво поглядев на диковинный отряд, он повёл головой с широкими, как блюдо, рогами и неспеша удалился в густой кустарник.
Дорога была узкая, ветви деревьев свисали низко. Чуб, долговязый казак, с длинным худым лицом, вовремя забывал пригнуться и его кучма с пришитым галуном, сброшенная веткой, летела наземь, обнажая яйцеобразную голову, стриженную «под макитру» – «под горшок».
– Эй, Чуб, так и голову потеряешь. – весело ржали казаки, цепляя на копьё оброненную шапку и дразня товарища, то протягивая ему головной убор, то отнимая его.
– Да заберите вы её, бисовы дети, – ругался Чуб и отворачивался в сторону, не обращая внимания на галдящих сотоварищей.
Кто-то затянул песню, кто-то подпел, но широкой поддержки она не нашла и затихла незаметно, как и возникла.
– Пора дать отдых и коням, и людям, – сказал Мокроусу Добжинкий, останавливая коня перед канавой. – Да и солнце сегодня как летом печёт, разморило всех.
– Не время ещё, – ответил Млкроус и покосился на шляхтича. «Как ему надоел этот ясновельможный пан. Хуже горькой редьки». – Не время ещё, – повторил он для большей убедительности, потому что знал – дворянские сынки Речи Посполитой иногда туги на ухо.
Добжинский отъехал в сторону, пожав плечами. Командир отряда Мокроус, если у него своё мнение насчёт отдыха – пусть будет, как он хочет.
А Мокроус был себе на уме. В его голове созрел, как он думал, хороший план. Зачем он будет с отрядом таскаться по лесам, по дебрям. Он встанет возле какой-либо деревеньки лагерем, благо они все, рядом, и потихоньку станет наведываться в них, искать то, зачем послан. И переходы будут не так утомительны, и казаки не будут на него ворчать, что старый бес гоняет их по лесам каждый день. Осада продлится ещё не один месяц. Чем там кружить вокруг монастыря под ядрами, стрелами и пулями, уж лучше здесь коротать время. Надо только место хорошее найти, чтоб от дорог было недалеко и от деревень поблизости. Поэтому он не спешил объявлять привал, надеясь вскоре остановиться на ночлег.
Так, передвигаясь по лесной дороге, они вдруг заметили, что сбились с пути. Дорога суживалась, обходила вековые деревья, растворялась в полянах и полянках и вдруг пропала. Еле заметная стёжка петляла меж ёлок и берёз, по которой можно было ехать только одному верховому. Остановился обоз, наткнувшись на непреодолимую стену деревьев.
– Эй, Чуб! – крикнул предводитель ехавшему впереди казаку. – Где ты, бисов сын, шлях потерял? Где проскочил поворот?
– А кто его знае, – ответил Чуб. – Може и проскочил. Та нехай вертаемся, поищемо где-нибудь.
– Вертаемся, – сердито отозвался Мокроус. – Так довертаемось, що до ночи не найдём дорогу.
Чуб ничего не ответил. Еловая ветка больно хлестнула его по лицу. Кучма соскочила и ему пришлось спешиваться, чтобы поднять её.
– Эй, Чуб! – снова крикнул Мокроус. – Геть вперёд! Що мы здесь будем блукать все вместе. Езжай разузнай, где шлях.
Чуб с неохотой поехал выполнять поручение старшего, и уже почти скрывшись в кустах, громко крикнул:
– Ждите меня здесь! Никуда не отъезжайте!
Ответом ему был дружный смех казаков.
– Перелякався, стоеросовая детина.
Мокроус отрядил ещё троих своих сподижников на поиски потерянной дороги. Таким образом, были посланы казаки на четыре стороны в надежде, что кто-нибудь из них найдёт путь в лесу.
Перавым вернулся Чуб и сказал, что впереди большой овраг, заросший густым ельником, через который едва ли пробраться конному, не говоря уж об обозе. За ним прискакал второй всадник и сообщил, что справа расстилается большое болото, в котором полно воды. Он не лгал, потому что его конь был по брюхо мокрым, а сапоги и шаровары казака были забрызганы водой.
– Чуть в яму с водой не угодил, – рассказывал казак, вытирая шапкой вспотевшее лицо. – Надо ехать обратно, а то будем блукать тут дотемна.
Вскоре приехал ещё один, Непийвода, горестно взмахнувший рукой, давая понять, что и он вернулся с неудачей. Ждали четвёртого, Закрутя, поехавшего на полудень. Казаки спешились. Кто развалился на траве, в лесу ещё зелёной, кто прохаживался, разминая затёкшие ноги, проклиная беса, который завёл их в такие непроходимые дебри. Вдруг они услышали свист. Это свистел Закруть. Говерда ему ответил таким же свистом.
– Вертается, – пронеслось в рядах ватаги. На лицах казаков появилась надежда, что этот-то уж наверняка должен найти шлях.
Послышался шум раздвигаемых кустов, топот лошади и на узкую поляну, где расположились казаки, выехал Закруть, толкавший в спину тупым концом копья какого-то человека с клюкой и грязной холщёвой сумой на плече. Человек ковылял на кривых маленьких ногах, обутых в худые лапти, серый когда-то кафтанишко был обтёрт до дыр, полы превратились в лохмотья. На косматой голове была валяная шапка, низко сдвинутая на лоб, из-под которой глядели серо-голубые глаза.
– Где такого упыря откопал? – разом заржали казаки, увидя лядащего мужичка. – Или из болота выловил?
Человек остановился, не ощущая на спине древка пики и оглядел казацкое сборище. На вид ему было лет пятьдесят. Он был хром, косолап и к тому же горбат. Увидев вооружённых людей, эту разномастную свору, он заученно протянул:
– Подайте убогому на пропитание, Христа ради? Подайте, – и протяул вперёд, ладонью кверху, грязную руку.
– Нашёл, где побираться, – громко сказал Говерда, гарцуя на коне вокруг человека. – Сейчас вот отведаешь сабли, не такого Лазаря запоёшь.
– Кто такой? – грозно воскликнул Мокроус, расправляя усы и закладывая их за уши. – Куда идёшь?
– Убогий я, – заканючил нищий. – Сирота. Подаянием живу. Милостыней божьей.
– А не лазутчик ли ты москальский? Что в лесу делаешь?
– В деревню иду, домой. Вот сухариков насобирал, – протянул Мокроусу чуть ли не полную суму горбун. – Добрые люди дали.
– Звать-то тебя как, божий человек? – Спросил Мокроус, немного смилостивившись, видя, что лесной человек никак не похож на лазутчика.
– Скажи, как зовут, – повторил вслед за сотником Говерда. – А то не будем знать, по ком панихиду творить. – Он подмигнул казакам.
– Тихоном кличут, – ответил человечек. – Из Легкова я. Отпустите меня… Домой иду. Из Хотькова, из монастыря, молился святым Кириллу и Марии, родителям Преподобного Сергия.
– Вот на дорогу нас выведешь, тогда и отпустим, – произнёс Мокроус и взмахнул нагайкой. – Обманешь – отведаешь вот этой плети. – Он потряс ременной нагайкой над головой Тихона. – Понял, божий человек?
– Проведу, проведу, – закивал убогий. – Как не провести добрых людей. – Он говорил, а глаза из-под шапки перебегали с одного казака на другого, рассмотрели обоз. – Дорога-то здесь недалеко лежит. Заросла травой-муравой… Никто по ней теперь не езживает… А я думал, вот повстречал разбойников, а вы добрые люди…
– За разбойников нас принял, – рассмеялся Мокроус. – Отдал бы я чарку доброго вина, чтобы увидеть хоть одного разбойника. Давай, веди нас до дороги. Да не вздумай бежать, а то худо будет.
Тихон поправил сползшую с головы шапку и пошёл вперёд.
– А далече ли шлях? – спросил его Говерда, скаля белые зубы
– Недалече, – ответил Тихон. – Болото обойдём и как раз в него упрёмся.
Он заковылял по еле приметному лосиному следу, а за ним гуськом, друг за другом, хвост в хвост двигались казаки, довольные, что скоро выедут из этой глухомани. За ними, ругаясь и проклиная судьбу и сотника, возницы обозов настёгивали выбивающихся из сил лошадей, рубили молодые осины и кустарник, преграждавшие телегам путь.
Приблизительно через полчаса, попетляв по лесу и ободрав бока о кустарник и еловые лапы, казаки выехали на широкое пространство, напоминавшее дорогу. По бокам росли кусты орешника, уже полуувядшие, изредка возвышались корявые дубы со множеством следов у корней, оставленных кабанами, приходившими лакомиться желудями, дальше тянулся высокой стеной голый осинник.
Тихон остановился и посмотрел на Мокроуса.
– Похоже, что шлях, – промычал тот. – Куда он ведёт?
– По правую руку вон за тем дубом, – ответил убогий, – развилка ведёт к Легкову, позади меня будет сельцо Озерецкое, а впереди деревеньки Орешки, Кудрина, поодаль Стройкова, а дальше через Чёрный враг путь лежит к обители Покрова Пресвятой Богородицы нашей, что на Хотькове.
– А не врёшь? – спросил Мокроус, пощёлкивая плёткой по сапогу, хотя знал, что горбун напуган видом стольких воинственных людей и вряд ли обманывает. Ясно, что он вывел их на дорогу, а куда она приведёт – не столь важно. Мокроус знал одно – мимо деревень она не пройдёт.
– Ступай с Богом, – сказал он Тихону. – И больше не попадайся нам.
Сказав это, в душе подумал, – а не попадись этот нищий, неизвестно сколько времени они проблуждали бы в этом проклятом лесу.
– Ну что прирос к земле! – крикнул на несчастного Гоьверда и больно огрел нагайкой убогого по лицу.
Тот взвыл от боли, зажал щеку рукой, втянул голову в плечи и бросился, что было сил в тщедушном теле, в кусты. Ватага загоготала.
– Вот злыдень, – прошептал Чуб, глядя на Говерду. – И как таких земля держит.
Мокроус, долго не раздумывая, бросил своего коня вперед, в сторону Хотькова.
Проехав немного по извилистой, с глубокими колеями от когда-то проезжавших здесь телег, дороге, отряд слева от себя увидел большую ровную поляну, вернее, луговину, в окружении раскидистых дубов.
– Привал, – разом загалдели казаки. – Коням отдых нужен. Завтра продолжим путь…
Мокроус и сам знал, что надо отдохнуть и людям, и коням. Его и самого вымотала эта дальняя дорога, и место ему здесь понравилось – высокое, ровное, как блин, – и он отдал приказ остановиться и спешиться. Подтянулись подводы, где были припасы, оружие, а самое главное – казацкая казна. Лошади были измучены, возницы тоже, продираясь по бездорожью, где руками, где плечом помогая животным выбраться из ямы или объехать упавшее дерево.
День клонился к вечеру. Из леса, из низин и болот тянуло прохладой и сыростью. На траву ложидась тяжёлая роса. Казаки спешились, быстро соорудили коновязь, срубили несколько сухих деревьев и разожгли большой костр, чтобы приготовить пищу. Для Мокроуса и шляхтича были разбиты два шатра в самом центре лагеря. На случай дождя из жердей и лапника был сооружён длинный навес, под сенью которого улеглись некоторые казаки после ужина, другие расположились в повозках или под ними, кинув под себя ворох сена.
Скоро лагерь затих.
2.
Деревня Кудрино, насчитывавшая шесть дворов и принадлежавшая, как и окрестные деревеньки, Троицкому монастырю, располагалась на взгорье, окружённая лесами. С восточной стороны пролегал Чёрный овраг, заросший вековыми дремучими елями, к нему примыкал овраг Плетюхинский, более пологий, с редколесьем по склонам. С западной стороны протекала узкая ключевая речонка Вринка, из которой крестьяне брали воду для питья. Ключами изобиловал и Чёрный овраг, но это место это было дикое, куда и днём боялись ходить, потому что он считался страшным, в нём водились лешие и прочая злая сила да неоднократно встретить там одиного путника могли лесные люди – разбойники – беглые холопы боярские или монастырские подневольные люди. Эти дикие ватаги, насчитывающие от трёх до десяти-пятнадцати человек, наводили страх и на крестьян, а ещё больше на богомольцев-ходоков, ещё надавно толпами бредущих в Троицкий монастырь, на купцов, везущих свой товар с севера на Дмитров, где была перевалочная база – товары грузились на лодьи и шли по рекам на юг к Каспийскому морю. Ватаги бродили от дороги Переяславской до Дмитровской, и в это смутное время, когда московское государство терзали внешние и внутренние враги, им было раздолье. Не раз и отдельные ляхские отряды, блуждающие по дорогам, испробовали на себе разбойничий кистень.
В ясный день бабьего лета Фёдор Михайлов по прозвищу Вороной с пятью взрослыми сыновьями на задворках домолачивал остатки ржи, неплохо уродившейся в этом году. Сыновья были женатые, кроме младшего Никиты. Они размеренно билим цепами по ржи, иногда отдыхали, перекидываясь двумя-тремя словами, и снова молотили тяпцами по снопам.
Сам Фёдор не принимал участия в этой работе. Вместе с Никитой из распахнутых дверей амбара вытаскивал холщёвые мешки и грузил на стоявшую рядом подводу. Пахло дёгтем, ржаной пылью и лошадиным потом.
Фёдор торопился. Сегодня чуть свет в деревню забрёл убогий Тишка. Как обычно попросил милостыню. Со свежим шрамом, пересекавшим безволосое лицо, дрожащий и перепуганный, он являл собой скорбное зрелище. Фёдор зазвал его к себе в избу. Дал молока, хлеба. Хлеб как раз пекла хозяйка Марфа. Был он мягкий, ноздреватый и душистый. Фёдор знавал в молодости Тишкиного отца, легковского плотника Фому, большого умельца по деревянному делу, который вместе со товарищами хаживал по всему здешнему околотку – избы рубил, сараи и амбары, мастерил часовни и церкви.
– Где это тебя так угораздило? – спросил Фёдор убогого, показывая на вздувшийся шрам. Вороной по нутру своему был жалостливым человеком и никогда не отказывал, если у него было что дать, любому нищему, забредшему с сумой в деревню, оставлял на ночлег и никогда не боялся, что такие люди сделают ему что-нибудь недоброе.
– Казацкий сотник, – ответил Тихон, запихивая в рот тёплый хлеб и запивая молоклм. И он рассказал Вороному про вчерашнюю встречу с казаками.
Рассказ убогого встревожил Фёдора. Проводив Тихона, идущего в Хотьков, он сообщил соседу Петрушке Коневу о том, что в окрестном лесу появились казаки, или отбившиеся от войска, осаждавшего Троицу, или, наоборот, посланные их головами с какой-то целью.
– Сообщи деревенским, – закончил Фёдор разговор с Петрушкой. – Надо бы скотину в лес увести да и самим схорониться. Неровен час, нагрянут сечевики – будет худо: разграбят и на дым спустят всю деревню.
Фёдор отправил Марфу вместе с односельчанами в лес через Вринку на тайное, заповедное место, где были сделаны шалаши и невдалке в тенистом овране бил ключ. Густой молодой ельник загораживал полянку со всех сторон. Там можно было переждать лихое время. Сам же, проводив жену, вместе с сыновьями решил дообмолотить два десятка оставшихся снопов, а зерно увезти в лес, скрыть от непрошенных гостей. Поэтому он торопился, поглядывал в сторону Дмитрова, откуда можно было ждать появления казаков.
«Только бы пронесло, – думал Фёдор, завязывая очередной мешок с зерном. – Так всегда, только начнёшь радоваться какой-либо обнове или урожаю, или прибавлению поголовья скота – так нет, случается несчастье и всё может, как нечаянно свалилось, так и негаданно уйти. Вот и ныне урожай на зависть, а завтра его могут отобрать, сжечь, развеять…»
– Хорошо, сынки, хорошо, – говорил он, видя, как сноровисто сыновья управляются с обмолотом. – Сейчас завершим и – в лес! Может не успеют нагрянуть разбойники…
Ближе к полудню последняяя мера зерна была провеяна и ссыпана в мешок. Парни присели отдохнуть, привалясь к осиновым венцам амбара.
– Стёпка Горшок катит, – сказал Никита, указывая на поле, по которому к деревне приближалась телега, гружённая мешками.
– Это он с мельницы едет, – ответил Фёдор. – Вчерась утром уехал и только возвращается. У него одни девки, какая от них мужику помощь – вот везде один и суетится.
– Он двужильный, ему всё нипочём, – рассмеялся старший Иван.
На скрипучей телеге подъехал Степан Горшок, коренастый плечистый мужик лет сорока пяти, с окладистой бородой, которой ещё не коснулась седина. Воз был нагружен щедро и иногда на колдобинах Степан его подталкивал плечом, чтобы не изнурять саврасую кобылицу, которая уже выбилась из сил.
– Бог в помощь! – приветствовал Степан семью Вороного. – Тпрру, – он остановил лошадь, натянув вожжи.
Мужики поздоровались.
Степан присел на корточки, отёр лицо рукой.
– Умаялся. Чека на полдороге выскочила, колесо съехало. Еле поправил в одиночку-то…
Он с завистью посмотрел на дюжих фёдоровых сыновей. Вот опора отцу в старости и отрада зрелых лет. А ему жена принесла трёх дочерей, не красавиц, но работящих. Девки были на выданье, а сйчас в это лихое время как-то даже и не радостно было, что две из них были просватаныы в дальние деревни – в Подушкино и в Ворохобино, в хорошие семьи, но как у них сложится жизнь в такое неспокойное время, когда иноземцы шляются по всей земле русской и нет порядка, и неизвестно, что принесёт завтрашний день. У Вороного младший сын тоже должен был жениться на Оринке из соседней деревеньки Орешки. И Степан спросил соседа:
– Свадьбу не отменил, Фёдор?
– Дело слажено. Чо менять. После Покрова, если Бог даст, и отпразднуем свадьбу.
– Будешь отделять сына, или в семье оставишь, при себе?
– Отделю. Зиму-то пусть живёт с молодой с нами, а по лету срубим избу рядом, пусть ведёт своё хозяйство, наживает добро, растит детушек.
– Орина – девка видная, – изрёк Степан, поправляя онучи. – Она мне доводится дальней роднёй. Семья работящая, не ленивая. Уж какие неурожайные годы были, а они не голодали, а тем более, не ходили с сумой по дворам. Отец её держал в строгости, она и прясть, и ткать большая умелица, да и вообще рукодельница. На зиму у них завсегда полно и орехов, и грибов. И желудей натаскают множество – это на всякий случай, упаси Бог, что случится, муки не хватит, чтоб, значит, прокормиться можно было.
Степан окинул взглядом Никиту, который внимательно прислушивался к речам соседа.
«Хороший парень, хваткий, вот бы ему такого зятя, – Степан тихо вздохнул. – Хотя у него будущий зять, жених старшей дочери, тоже не промах, но далеко отсюда за десять вёрст, а здесь была бы дочь рядом, в одной деревне, если что не так, мог бы и поругать, и приголубить, и слово верное сказать. Но такова доля, видимо, девическая, женская, да и вообще крестьянская, не живи, как хочется, а живи, как Бог велит».
– В этом году будем с хлебом, – произнёс Степан, глядя на тугие мешки с зерном. – Я уже вот смолол… Знатное жито уродилося… Пироги будем печь, блины, авось, прокормимся зимушку…
– Не говорим так, – оборвал его Фёдор. – Ты вчерась уехал, а у нас такое…
– Чего такое? – не понял Степан, удивлённо уставившись на соседа.
– Да вот… Вся деревня на дыбах стоит. Казаки окрест объявились. Значит, жди беды. Повыгребут всю твою муку да ещё и двор спалят. Надо припрятать зерно, пока не поздно. Они мигом нагрянут, чай, на лошадях. Куда им вздумается сегодня идти, один Бог знает. Тишка убогий намедни их видел.
– Где же? – спросил Степан. Его круглое лицо побледнело.
– Возле легковской повёртки. Они, слышь, заблудились, дорогу на Озерецкое да на Хотьков спрашивали…
Степан сдвинул шапку на ухо.
– Эвон что… Ну, мать честная, дела-а! Ну и весть ты мне сказал, Фёдор. Надо домой торопиться.
– Твоя жинка уже всё спроворила. Мы увели скотину в лес. Вот теперь думаю жито схоронить…
– Тятька, смотри! – вдруг раздался голос Никиты. – Пожар за лесом…
Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Никита. За лесом поднимался густой столб дыма.
– Небось, Орешки горят, – определил Фёдор. – Как раз они.
– А может, не они. Может, дальше? – усомнился Степан. – Вроде бы далеко дым…
– Да нет, версты две. Чуешь, прямо за оврагом. Дым-то ядрёный, не дальний. Орешки, помяни моё слово.
И мужики, забывшие, что надо ехать быстрее в деревню, что-то предпринимать, как завороженные, смотрели на чёрные клубы дыма, расползавшиеся над густым еловым лесом.
– Никак ездок, – опять послышался голос Никиты. – Верхом кто-то скачет. Шибко несётся…
– Где ты видишь? – спросил сына Фёдор.
– Да вон к опушке прижимается. Сейчас на дорогу выедет. Вишь, рубаха белеет…
Двор Вороного задами был обращён к Орешепи и всадник мимо никак проехать не мог. Он мчался во весь опор, настёгивая лошадь. Скоро он приблизился и увидел махавших ему шапками мужиков. Конь повернул к амбару.
– Никак это Федот Нос, – проговорил Фёдор.
– Он самый, – подтвердил Степан.
Федот был без шапки. Спутанные, размётанные ветром волосы, спускались на лоб. Лицо разгорячено. Не слезая с лошади, он истошно заорал, захлёбываясь словами:
– Беда, мужи…ики! Беда-а! Казаки на деревню напали. Спалили избы. Скотину увели, жито выгребли. Беда-а! – Он заплакал, вытирая перепачканное то ли землёй, то ли гарью лицо рукавом домотканной рубахи.
– Давно это… казаки? – стараясь быть внешне спокойным, хотя в груди стучало от волнения сердце, спросил Фёдор, подходя к Федоту.
– С час назад налетели, окружили деревню. Сначала говорят: отдайте нам жито и скотину. Мы говорим: побойтеь Бога, супостаты! Али вы басурмане? Что ж вы у бедного люда последнее отымаете. На носу зима, чем жить будем. А они зубы скалят. Вы, говорят, прокормитесь, у вас припасы, наверняка, где-нибудь попрятаны. Ну мы не отдаём. Они запалили избы, а нас саблями пугать начали. Девки-то с бабами, видя такое дело, со страху в лес подались, а они за ними… Все-то успели, а, кажись, Орина с Настькой не схоронились.
При этих словах Никита побледнел.
– Постой, постой, – прервал Федота Вороной. – И девок, значит, полонили?
– И девок… Матушка здесь Оринина выбежала, ухватом на казака замахнулась, а он её плетью. Отец Оринин кинулося с топором на одного усатого, так его саблей, саблей…
– Убили свата? – вскричал Вороной.
– Поранили старика, а избы спалили, проклятые. Вон зарево-то какое! Где жить будем? Где пропитания достанем? По миру пойдём. – И Федот снова заплакал.
Над лесом дым развеялся и поверху деревьев, словно отражаясь от облаков, проступала неявственно тонкая розово-бледная полоска зарева.
– Все в лес попрятались, а я вот к вам. Спасайтесь, мужики, от супостатов, от воронья.
«Не врал, значит, Тишка убогий, – подумал Вороной. – Вот и дошло до их деревни разбойное время, о котором так много ходило слухов».
Степан, настёгивая лошадь концами вожжей, во всю прыть погнал её в деревню.
Фёдор посмотрел на младшего сына. Тот стоял сам не свой, сжимая рукоять цепа. Отец вздохнул. Ну вот, невесту сына угнали казаки. Сообщение об этом повергло в трепет и его. Орешки сожгли, девок увели на надругательство, теперь жди беды в Кудрине. Раз пошли палить деревни, доберутся и до них.
– Теперь куда? – спросил Фёдор орешкинского мужика.
– Куда? Знамо дело, в лес, где бабы и все остальные. И вы уходите. Не сегодня так завтра ляхи с казаками будут здесь.
– Быстрее! Трогай? – сказал Фёдор сыновьям. – В лес. – И обращаясь к Никите добавил: – А ты иди к матери, и из леса носа не показывайте.
– Всё исполню, батюшка, – ответил Никита и бегом побежал в деревню.
– Спаси вас Бог! – сказал вслед мужикам Федот И, настёгивая лошадь, помчался к Плетюхинскому оврагу.
3.
Рассказав Вороному про встречу с казаками, перекрестясь на образа, Тихон простился с хозяином, закинул мешок, куда он положил даденный Федором каравай хлеба, за спину, и, опираясь на палку, пошёл по тропинке, которая должна была вывести его в Хотьков.
Войдя в перелесок, он остановился и перевёл дух. Посмотрел на соломенные крыши изб, потемневшие от дождей и сырости, на клочки полей с колючей стернёй. Вспомнились слова Вороного, сказанные при расставании.
– Куда теперь путь держишь? – спросил его Фёдор, открывая дверь сеней.
– В Хотьков иду, в монастырь, – ответил горбун. Там у меня в Бобыльской слободе названный брат живёт. Зиму прокоротаю. В Легкове-то совсем скудно, зиму не прокормишься. В Хотьков-то богомольцы ходят. Троицу осадили, а в Покровском пока не чинят препятствий христовой вере… Пропитаюсь подаянием.
– Не ходи через Чёрный враг, – напутствовал его Фёдор. – Сказывают, там лихие люди появились. Сам не видал, но слышал. От казаков ушёл, от них не уйдёшь. Быстро голову кистенём промолотят…
– Убогому они ничего не сделают, – ответил тогда Тихон. Его сухие губы растянулись в усмешке. – Чего с меня взять: у меня в кармане блоха на аркане да вошь на цепи. Благодарствую тебе за угощение, – добавил он, спускаясь со ступенек.
Убедившись, что за ним никто не наблюдает, горбун круто свернул с тропинки и, обходя заросли ельника и поваленные деревья, не торопясь, видимо, с намеченной целью, стал углубляться в чащобу Чёрного оврага. Остановившись на его берегу, приложив ладонь ко рту, он свистнул. Издалека ему ответили таким же свистом. Оглянувшись, Тихон, скользя по влажной траве, стал спускаться в русло оврага, придерживаясь рукой то за ветки кустарника, то за ствол берёзки или рябины. Внизу по дну оврага протекал небольшой ручей. Летом он местами пересыхал и только отдельные бочажки, образованные бившими здесь ключами, не давали ему пересохнуть совсем. А в другое время, когда влаги хватало, ручей разливался в сажень шириной, а по весне бурлил и клокотал, размывая глинистое ложе оврага.