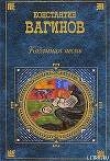Текст книги "Озеро призраков"
Автор книги: Юрий Любопытнов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
КРУГОВЕРТЬ
Когда Тимоня Хлупнев вышел из автобуса, он не обратил особого внимания на падавший тяжёлыми, мокрыми хлопьями снег – эка невидаль в феврале. Он порылся в карманах, достал смятую папиросу, закурил и, надев шерстяные новые варежки, связанные женой, размашисто зашагал, утопая в снегу. Дорога в деревню начиналась в старом еловом лесу, и, зная, что в такой поздний час на ней никого, кроме него, нет, Тимоня громко напевал:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны…
Когда он вышел на Тростянку, небольшую речку, пересекавшую дорогу, снегопад усилился. Такой круговерти Хлупнев за свои полста лет ещё ни разу не видывал. Миллионы водянистых хлопьев сыпались сверху, образуя молочно-тёмную, бесконечную стену снега. Она молчаливо окружала Тимоню, и в её вышине и по бокам тонуло пространство…
Тропинку потерял Тимоня на Золотниковском поле за Чёрным Клином. Сначала это его не обескуражило. Он размашисто шагнул влево, думая нащупать ногами твёрдую, утоптанную полосу, и когда не нашел её, принял вправо, но и здесь ждала неудача. Напрасно Тимоня вытягивал шею, стараясь поймать взглядом какие-нибудь приметные ориентиры дороги. Он знал, что три дня назад здесь прошёл бульдозер и должны были возвышаться по краям островерхие глыбы и комья снега. Но их не было.
«Неужели всё завалил снег? – подумал Тимоня. – Как же это так, крути-верти…»
– Эй-ей-ей-й! – покричал он, не в надежде услышать ответ, а больше для храбрости, чтобы не было одиноко.
Никто ему не откликнулся, и хотя ничего другого он не ожидал, Тимоне стало не по себе в этой снежной ловушке.
А всё эти… его приятели – Димка Матанин да Стёпка Чирвеев, черти!.. Прибежали сегодня в ремонтно-строительный (Тимоня даже скособочил рот, передразнивая, как они прибежали), сунулись к нему. Он как раз срочную работу заканчивал для отдела главного механика, нервничал – там не подходило, здесь не вырисовывалось. Выматерился без остатка, пока сделал, устал. А эти тут как тут.
– Хочешь выжрать? – спросили они Тимоню.
У Тимони и глаза разгорелись.
– А чо?
– Чо! Хочешь?
Тимоня сглотнул. Зазря ведь не выпьешь. Наверное, что-нибудь строгануть, подогнать, выпилить. Сколько раз на дню прибегают за этим в строительный, всем чего-нибудь надо. Он сел на верстак, ноги свесил, начальственно спросил:
– Что надо?
– Да бабе одной стенку собрать… импортную. Вино она ставит.
Димка и Стёпка уткнулись глазами в Хлупнева.
Тимоня сдвинул кепку на лоб, как это у него бывало в минуты раздумий, поскрёб затылок изуродованным механической пилой пальцем и, прищуря глаз, спросил:
– Когда?
– После смены…
Тимоня опять поскрёб затылок, двинул губами.
– Мне ведь ещё… в деревню, крути-верти…
– Доберёшься. Мы быстро… трое. В момент сварганим.
Тимоня сплюнул на пол и согласился.
Стенку собрали часа за три без перекуров. И то пришлось поколупаться. Чертёж был безпонятный, фурнитура – барахло, резьбы – дрянь. Да и в квартире не размахнёшься – мешались друг другу. Сначала Тимоня всё в чертёж тыкался, крутил его, вертел, приспосабливался. Потом забросил его в угол, стал так собирать, и дело на лад пошло.
Хозяйка обрадовалась, когда всё было сделано. Собрала на стол. За разговором ещё часа полтора– два просидели. Вот и припозднился Тимоня. Хорошо, что ёще на автобус успел, а то бы кукарекал в городе где-либо на вокзале.
А снег шёл и шёл. Он придавливал Тимоне плечи, залеплял глаза и уши, таял на лице, каплями сбегал к подбородку. Тимоня брал то правее, то левее и наконец понял, что окончательно потерял ориентировку в этом снежном месиве.
«Ай, чёртова курица, крути-верти, – ругался он, усталый садясь в снег, чтобы немного передохнуть. – Ведь так замёрзнуть недолго».
Замерзать ему не хотелось, и, отдохнув минут пять, он снова принялся разыскивать дорогу, разгребая снег руками и ногами. Скоро, однако, выбился из сил и вдобавок потерял варежки. Куртка промокла, брюки тоже, мокрыми насквозьь были и матерчатые ботинки с обсоюзкой поверх подошвы. Вначале было жарко, а теперь Тимоня почувствовал, что спина холодеет и начинают мёрзнуть руки и ноги. Не к месту вспомнились слова песни, которую часто певали родственники в застольщине: «В той степи глухой замерзал ямщик».
«Вот так, наверно, и замерзали, – отметил про себя Тимоня, и у него опустились руки, а сердца коснулось недоброе. – Конец. Что толку грести снег. Его уйма – весь не перелопатишь».
Тимоня когда-то читал, что можно и не замёрзнуть, если хорошо укрыться снегом, будет он вместо одеяла. Ведь живут эскимосы в ледяных жилищах. Подумав так, он подрыл снег и удобнее устроился в получившейся выемке. Будь что будет, решил он и посмотрел вверх и увидел серую пелену, легко опускавшуюся на него, и ему стало грустно и жалко себя. Он глубоко вздохнул, поднял воротник и закрыл глаза.
Сначала ему было неприятно сидеть в этой яме: всё на нём было мокрым, стягивало кожу, к тому же его начало знобить. Потом озноб прошёл, он перестал дрожать, напала какая-то вялость, и мысли пошли неспешные и длинные, как зимняя дорога.
Мысль о близкой смерти не раздражала Тимоню, как было раньше, когда ему думалось о ней. Тогда он воспринимал смерть как нечто враждебное и тёмное. А сейчас ему было всё равно, и не было страха перед неминуемым. Завтра, наверно, его обнаружат здесь, а может, и не завтра… Жена будет плакать, заревёт Наташка, дочка его…
Тимоня куда-то провалился, и какое-то время мыслей не было. Были пустота и небытие… Потом он снова обрёл самого себя, и ему показалось, что его грубо толкали и кричали над ухом. Потом опять стало покойно, что-то пошатывалось под ним, скрипело, как в детстве, когда он в первый раз ехал на санях. Тогда лошадка резво бежала по первопутку, а по бокам саней, чуть вдалеке, за полями, тоже бежали кусты бредника, заиндивевшие и похожие на больших белых ежей, берёзы на опушках, опустившие до сугробов тонкие в инее косы, овраги с осиной и черёмухой, переметённые до краёв пушистым снегом. Рядом пел песню полоз и оставался на белом снегу искристый его след да сбитая, неотчётливая ископыть лошади.
Потом Тимоне стало жарко, так жарко, что он напрягся, чтобы открыть тяжёлые веки и посмотреть, откуда такое испепеляющее тепло. Что за чертовщина! Лежит он в своём доме, на диване, в новом белье. Вроде бы обмытый, чистый, как ангел. Умер, была первой мысль Тимони. Врач, верно, уже справку о смерти выписал…
Послышались шаги. Ага, жена ходит. Тихо, почти неслышно. В слезах. Жалко ей его, конечно. Жалко! А если бы знала, как Тимоня вертел-крутил, наверно, не было бы так жалко?.. Окна зашторены, пахнет спиртом, ещё чем-то больничным… Вскрывали в морге, всполошила мозг Тимони горькая мысль. Оттого, что его вскрывали, стало нехорошо и стало подташнивать. Он провёл рукой под рубашкой, стараясь нащупать шов, оставленный ножом хирурга, но не нашёл. Его разрубленный толстый ноготь задел за тело, и Тимоне стало больно, и он радостно подумал, раз больно, значит, жив.
Хотел поправить своё тело на постели, но сил не было. Он ощущал такую слабость, что первоначальная радость мигом перешла в уныние: что радоваться, всё равно при смерти, лучше бы сразу к одному концу… Вон и Грушка плачет. А чего ей плакать, если он будет жить…
Тимоня прикрыл глаза, а сам всё думал. С кем останется Грушка? Найдёт ли хахаля? Вот Клашка – та найдёт. Неожиданно его мысли перешли на Клашку. Интересно, придёт ли она проститься? Нет, побоится. Тимоне будет всё равно, а ей… ей ещё жить да жить. Одна жена только об нём и заботилась. А он ведь ни во что её не ставил. Уж её-то он пообижал!.. Бывало, как немного переберёт, так и давай к ней приставать – и это не так, и это не сяк. До чего доходило – руки распускал. Было дело. Тимоня аж вспотел, как вспомнил. Не понравилось ему как-то, что она с Колькой Аксютиным на колодце долго языком трепала. Колька был мужик хват, нет-нет да и заглядывался на Тимонину половину. А Грушка не какая тебе бабёха, так себе. Она – баба стоящая. А вот, чтобы языком не молола с кем ни попадя, он и огрел её коромыслом по крутым плечам, как только поставила вёдра на пол. Тимоня почувствовал, как закраснел весь аж под одеялом, под рубахой, – так ему стало Грушку да и себя жалко, что хоть святых выноси…
А если бы Грушка знала, что он хороводился всё прошлое лето с Клашкой Никифоровой? Что бы было?! Если всё вспомнить, роман можно написать. Баба попалась… Прихватила Тимоню как арканом. Бывалыча едет он с работы. С автобуса сойдёт и тропинкой через Тростянку по лесу напрямик к дому. Идёт, а у Иванова луга, что под Духмяной горкой, Клашка и вырисовывается. Тимоня оглянется – никого нету, и пойдут они. Сначала всё были шуточки-прибауточки, а потом всерьёз дело пошло. Вцепилась Клашка в него: не стряхнёшь, не сбросишь, стала от Грушки отбивать – и такая она, и сякая… Разве это жена?! Ты вот посмотри на меня. У меня и глаза какие, и волосы… Да я для ради тебя в лепёшку расшибусь. Бросай дом и переходи ко мне…
И стал Тимоня какой-то раздвоённый. С одной стороны живёт в своём доме, а глаз в другую сторону забегает. И стало ему казаться, что он не всамделишной жизнью живёт, а какой-то пустой, не настоящей и липкой. И откручиваться от Клашки не открутишься (сам не особенно, наверное, хотел), и дома житья не стало. Всё он глаза не может по-честному поднять, всё юлит, егозит, всё обманывает. Может, и хорошо, что Господь приберёт его к рукам, раз сам запутался. Всё разом и распутается, без крику, без слёз и без нервов.
Опять Тимоне стало жарко. Уйдёт он в могилу настоящим человеком, и никто про него худого слова не скажет. Вот он лежит, строгий, молчаливый, навек уносящий с собой все свои колобродства и всю свою непутёвую жизнь. И сразу всем станет легче: и жене, и Клашке, и даже Наташке, дочке его. И ему тоже – ни забот, ни тягот.
Тимоня окончательно решил, что умирает и что его теперь ничто не вызовет к жизни. Ему хотелось уйти в могилу настоящим человеком, хотя бы в эту последнюю минуту быть честным. Часы его сочтены. И зачем ему нести с собой свои грехи?..
К дивану, на котором умирал Тимоня, подошла Груша. Он увидел её заплаканные глаза, тёмную точку родинки на щеке. На плечи был наброшен платок, который когда-то подарил ей Тимоня.
– Гру-у-уша, – позвал Тимоня жену замогильным голосом. – Груша-а, сядь ко мне. – Он хотел дотронуться до её плеча, но сил не было… – Груша-а, прости ты меня христа ради. Непутёвый я был. А теперя, поскольку отходил я по своей тропке, скажу тебе всё как на духу.
Стукнула кухонная дверь. Тимоня скосил глаза: кто это? Вошёл Тихон Барсуков, брат жены, скотник. Он что-то жевал жирное, губы у него были масляные и оттого казались толстыми. Груша, вытирая слёзы, отошла в сторону, села у стола, посреди избы.
– Вот, – плача обращается она к брату, – говорила я ему: поменьше пить надо да шляться бог знает где. Пришёл бы вовремя и не отморозился бы…
Потное, красное лицо Тихона наклоняется над Тимоней. Тимоня видит широкие брови, нос блестящий, как после бани. Пахнет от шурина сытостью и водкой.
– Отудобел? – не то спрашивает, не то утверждает Тихон и вынимает из кармана широкого мятого пиджака бутылку, ставит её на табуретку рядом с изголовьем и присаживается в ногах у Тимони. – А я вот голоса услышал, – говорит он густым басом, – подумал: пришёл ты в себя, а?
Тимоня поднял глаза и снова их опустил.
– А я тебя, брат, нашёл на дороге. Еду домой, смотрю: бугорок, думал бульдозер ковырнул. Лошадь фыркнула, а то бы так и проехал. Повезло тебе, брат. Разгрёб снег, а ты… Привёз вот, сбегал к Полинке, растёрли… Вот ещё осталось. Груша говорит мне: бери больше, сгодится, может, много надо…
– Ииибо-о, – слабо выдавил из себя Тимоня.
Тихон сначала не понял, а когда понял, сказал:
– Мне за что. Груше спасибо скажи. Уж она металась здесь. Говорит, отморозился весь. Да ништо. Это и со мной бывало. Помнишь, ходили в Новинки? Э-э, да ты тогда пацаном был… Я ведь и снегом тёр. Горят ноги, руки-то?
– Тиша, – сказал Тимоня, – умираю.
Барсуков придвинулся к нему.
– Ты это, брат… кончай! Вон лучше выпей, разожгёт.
– Теперя уж не разожгёт, – отвечает Тимоня слабым голосом, смотрит на бутылку «Пшеничной» с весёлой голубовато-жёлтой этикеткой, двигает острым кадыком. – Ладно, давай… последнюю в этом мире, а в том не видать – поднесут ли.
Тимоня выпивает, гулко булькая и издавая горлом приглушённые звуки, и устало отваливается на подушку. В его глазах слёзы.
– Слушай и ты, Тихон, – говорит он таким голосом, что скотник содрогается. Больно серьёзен и взаправдашен был и Тимоня, и его светлый клок волос, как бы приклеенный ко лбу, и его глаза, пустые и мертвящие, и рука его белая с пальцем-коротышкой, по-зимнему незагорелая, лежавшая сиротливо поверх одеяла. И весь он был отрешённый, ступив ногой уже в другой мир, где всё по-иному и где можно говорить только правду. – Слушай, Тиша! Сволочь я… Самая последняя…
И Тимоня стал рассказывать всё, что только передумал. Говорил он складно, как читал в книжках, высоко, с подъёмом, каким мог в эту минуту, и чувствовал, как голос его дрожит, и ему казалось, что он выбирается из той ямы, в которую сам себя посадил, что он вырос и вознёсся над всем привычным, и мир, в котором он жил до этого, показался ему маленьким, жалким и суетливым.
«Боже, как легко умирать, – думал он, когда прерывал свою покаянную речь, чтобы немного отдохнуть. – Не понесу в могилу ничего, очищу душу, и легче мне будет ступить в юдоль мрака и бесконечности. – Он запнулся в мыслях. – Какие-то не свои слова говорю», – отметил он и посмотрел на жену. Та вытирала концом платка красные от слёз глаза. Тимоня тоже прослезился, так ему стало себя жалко.
Он временами забывался, голос его звучал тише, иногда прерывался. Тимоня засыпал, но не надолго. Снова открывал глаза, просил:
– Налей ещё, Тиша! Как идёт, проклятая, знает, что в последний раз.
За окнами неспешно стал сереть дрожащий февральский рассвет. Он слабо сочился через двойные стёкла, ещё не отличаемый от электрического домашнего света.
Тихон давно делал знаки сестре, чтобы она уходила.
– Иди приляг, отдохни, – говорил он ей. – Уже утро.
– Как же это так, Тиша, а? Как это так? – Она всё не могла прийти в себя после рассказа Тимони.
– Отдохни, – успокаивал её Тихон. – Приляг.
Груша ушла наконец и затихла в своей комнате.
Тихон подошёл к окну, отодвинул тюлевую занавеску.
– Ух, ты! – воскликнул он, прижав лоб к стеклу… – Сколько снегу-то!.. За всю зиму столько не выпадало!..
Липы на улице стояли в белых шапках, в белых воротниках были крыши домов. Кустарник в палисадниках прогнулся под тяжестью снега, образуя мохнатые сугробные шалаши.
В деревне светились окна. Тихону было видно, как напротив, у Фроловых, Николай Кузьмич, хозяин, орудуя деревянной лопатой, раскидывал снег, расчищая двор. Утопая в снегу, на колодец пробиралась Настасья, тёща Лёшки Осколкова, дружка Тихона. Бабка шла, высоко поднимая ноги в валенках, чтобы не зачерпнуть снег. Два ведра плыли по бокам, оставляя на снежной замети две извилистые борозды.
Сзади раздался стук отодвигаемой табуретки. Тихон оглянулся. Хлупнев сидел на диване и щурился от света. Чуб его был взъерошен и высоко вздёрнут надо лбом. Глаза пронзительно смотрели перед собой, но, казалось, ничего не видели. Но это продолжалось несколько мгновений. Тимоня неожиданно вывалился из-под одеяла и босой прошёлся чуть не вприсядку возле дивана, помахивая поднятой к потолку рукой.
– Что, взяла, старая! – кричал он. – Шалишь, старуха! – обращался он к воображаемой смерти. – Мы ещё повеселимся! Ещё не всё выпито-съедено. А ты – в гроб! Ещё не выросло то дерево, из которого Тимошке Хлупневу в земле домик сделают. Нетушки! Тимоня ещё повертит на этом свете.
Он бегал вприпрыжку вокруг стола и победно поглядывал на обескураженного шурина, который прирос от неожиданности к полу, и только глаза его, следившие за перемещениями Тимони, говорили, что это не истукан, а живой человек.
– Что стоишь? – кричал ему Тимоня, всё больше распаляясь. – Давай наливай! Щас снова к Полинке полетишь. Отошёл я! Праздновать будем, крути-верти.
Тихон подошёл к дивану, налил в стакан.
– Ну вот, совсем отудобел. А то всё лимонился: Клашка. Клашка!..
– А что – Клашка? – не понял Тимоня.
Он остановился, глаза загорелись, уставились на Тихона.
– Ты что – сбрендил? Лоб пробил, каяся в грехах, выложил тут всё, как у попа на исповеди, а теперя – что Клашка. Во даёт!
– Говори-и-ил? – захлебнулся словом Тимоня.
– Хы-ы, – Тихон повёл бровью. – Да складно как…
Тимоня поскрёб затылок, призадумался.
– Я-я… говори-и-ил? – спросил он снова.
Тихон усмехнулся:
– Ты что – не помнишь? Матерился да свои похождения рассказывал. Как у болота, у Духмяной горки…
– Так и впрямь?..
– Что я врать буду. Ты у жены лучше спроси.
Тимоня подбежал к табуретке, схватил стакан, опрокинул его в рот и подлетел на одной ноге к Тихону. Глаза его стали злыми.
– А соврал я, понял? Соврал! Хотел Грушку проверить!
Тихон уставился на Тимоню.
– Да, да-а! Что вылупился! – Тимоня поправил сползшие брюки. – Ловко я вас надул, а-а? Ха-ха-ха! – И запел во всё горло:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны…
1981
ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА
В ту ночь Климов долго не мог заснуть. Он лежал с закрытыми глазами, прислонив лоб к холодной стене террасы, старался думать о приятном, но сон не шёл. Сначала он не мог понять, почему не засыпает. Потом неожиданно, отчётливо, как-то вдруг, понял: рядом у соседей во дворе, лаяла собака. Лаяла она не сердито, ему представлялось даже нехотя, тягуче. Она прерывала лай, с минуту раздумывала, что ей делать дальше, и продолжала лаять. Наконец она затихла, только слабо повизгивала. А Климов стал думать: отчего она лаяла так? Может быть, ей было скучно? Скучно оттого, что её держат на цепи за глухим тесовым забором, а ей хотелось побегать по деревне, забежать на высокий берег и смотреть оттуда на широкую и яркую луну, которая, чуть качаясь в облаках, лила свой белёсый свет на тусклую речную воду.
За садом загрохали цепью. Заскрипел ворот колодца. Вот он, видно, выскользнул из рук – ведро полетело в глубину, плескаясь и ударяясь о стенки сруба.
Это слышно явственно, будто происходит за спиной, совсем рядом. Черпак ударяет о край ведра. Наверное, пили… Кто мог в такой поздний час пить воду? Кто-то с похмелья или запоздавший, утомившийся в дальней дороге человек. Вот он вылил оставшуюся воду обратно в колодец. Это был чужой. Он не знал деревенских законов.
Рано утром Климов ушёл на плотину. Взял лодку и стал удить. За тёмно-синим лесом не торопясь вставало большое и жаркое солнце. Оно будило луговую траву, тяжёлевшую от росы, светило сумрачную, тяжёлую после ночи воду. В прибрежных круглоголовых кустах бредника во всю распевали птицы.
Клёв был хороший. В бадейке плескались несколько плотвичек и окуньков. Климов настолько был увлечён рыбалкой, красотой водоёма в низких берегах, в которых открывал новые, не замеченные ранее подробности, плеском от игры больших рыб, наверное, щук, красками зари – и это так его захватило, что он забыл обо всём на свете.
Солнце было уже высоко в небе, когда он вернулся в дом. В полутёмных сенях громыхнул пустым ведром и сразу вспомнил события прошедшей ночи. Но ничего, кроме улыбки, они у него не вызвали. Сняв рубашку, он вышел умываться во двор. Умывальник был пуст. Взяв ведро, Климов пошёл на колодец. Качая воду, он взглянул на дом, стоявший на другой стороне улицы, и удивился: что-то изменилось в нём. Уже выкачав ведро, он понял, что окна не были пустыми, как несколько дней назад. Через помытые стёкла пробивался жёлтый цвет занавесок. Кто-то поселился в доме под ветлой. «Может, среди приехавших есть мужчина», – подумал Климов и обрадовался. Если это так, то теперь вдвоём они могут ходить на плотину, удить рыбу, вообще, если приехал мужчина, прекрасно. Однако, сколько он не присматривался, стараясь обнаружить присутствие новых дачников, никого не увидел. Дом оставался сиротой, как и раньше.
Вечером к нему зашёл пятидесятилетний совхозный кормач Фёдор Сухонин, крепкий, жилистый мужик, «квадрат», как его прозвали за низкий рост и широкую, как пивной бочонок, фигуру. Климов у него на днях сторговался купить «оленебой», ружьё начала нашего века со стволом, сантиметров на восемь – десять длиннее теперешних.
– Бельгийское, – говорил ему Фёдор. – Кучно, собака, бьёт, у-у! Если бы ты не был мне приятель – не отдал бы. Ни за что! Только тебе!
Говорил он правду или нет, Климова это мало интересовало, а ружьё ему нравилось. Фёдор принёс ружьё, а он поставил на стол обещанные пол-литра. Сухонин настоял, что без магарыча сделка не состоится и ружьё стрелять будет плохо.
Он выпил стопку зажмурившись, не дыша, словно выпивал с неприятным запахом лекарство. Открыв глаза, потянулся к тарелке. Похрустел жёлтым солёным огурцом. Выбросил в открытое окно скользкие твёрдые семечки.
– Нонешних-то небось и не дождёшься, – прожевав, сказал он. – Вон лето какое! Всё непогоды. Ночи холодные. Огурец тепло любит, а от холода разве что уродится.
Лицо его покраснело, а глаза заблестели.
– Новых соседей-то не видал? – спросил он, прислоняя грузное тело к стене.
– Нет, а что? – в свою очередь задал вопрос Климов.
– Да так. Дамочка тут одна приехала. – Он посмотрел на Климова. – Моих лет. Приходила к председателю сельсовета. Так, мол, и так. Дом она купила. Говорит, лето тут с внучкой буду жить. Вон наискосок дом. – Сухонин показал рукой – напротив тебя. Бабка Дуня в городе у своих… дом пустует… у них там свой участок, зачем им развалюха, вот и продали.
Климов посмотрел на дом, будто в первый раз его видел, и, подвигая тарелку с хлебом ближе к Фёдору, сказал:
– Я утром ещё заметил, что в нём поселились. Занавески повесили, вон посмотри.
Сухонин почтительно посмотрел на Климова.
– А ты глазастый, хоть и городской. Может, для компании выпьешь?
Климову выпивать не хотелось, и он снова отказался. Фёдор с сожалением взглянул на него и пожал плечами:
– Дело хозяйское. Как хошь. Неволить грех.
Климов улыбнулся про себя. Он знал, что Сухонин только внешне сожалел, а в душе был рад: больше достанется. Они посидели ещё с полчаса, поговорили о рыбалке, охоте, плохой погоде, о том, что такое холодное лето повлияет на урожай. Когда за окном стало меркнуть, Фёдор поднялся, потянулся, взял кепку, подал Климову руку.
– Пока! Пойду, пожалуй, а то хозяйка ругаться будет, и так засиделся. Ну, чтоб без промаха била, – сказал он на прощанье, кинув взгляд на прислоненное в угол ружьё.
Он ушёл, неловко нагибая голову под ветками яблонь. А Климов долго сидел за неубранным столом, глядя в окно на охваченное заревом заката небо. Он надеялся, что в доме поселится мужчина, напарник по рыбалке, а приехала женщина пятидесяти лет. Было от чего заскучать.
2
После разговора с Фёдором прошло дня три или четыре, а Климов ещё не видел никого из обитателей дома под ветлой. Но в нём жили. По вечерам в окнах горел свет, колыхалось бельё, развешанное для просушки на верёвке, привязанной одним концом к рябине, а другим – к гвоздю, вбитому в угол террасы. Сухонин говорил правду: вместе с бабушкой в доме жила девочка лет семи. Она изредка выходила на улицу поиграть с деревенскими ребятишками, а остальное время проводила в обширном саду, где росли старые антоновские яблони, вишни и сливы. Бабушка была с властным, не терпящим возражения голосом. Вечером она выходила из дома и звала внучку:
– Ира-а! Пора спать!
– Я ещё минуточку погуляю? – просила девочка.
– Никаких минуточек. Ты слышишь? Кому я говорю?!
С Климовым она здоровалась сухо, как, впрочем, и с остальными жителями деревни.
Однажды он шёл по улице с рыбалки. День уже кончался. Сине-серые плотные тучи отслаивались от небосвода и тяжело плыли поверх домов. Он шёл задумавшись и у дома под ветлой неожиданно столкнулся с молодой женщиной, вышедшей из-за угла изгороди. На ней была блузка из какого-то тонкого материала, пестревшая разноцветными полукольцами, расклешённая юбка, в руке – полиэтиленовая сумка. Женщина шагнула в сторону и бросила на Климова недоумевающий взглялд. Его наряд её смутил что ли? На нём была посеревшая от дождей, выгоревшая на солнце соломенная шляпа доисторических времён, серая рубашка навыпуск и синие джинсы с закатанными штанинами, причём одна выше другой. Был он босиком. В одной руке держал удочку, в другой пустую бадейку. Клёва не было, и лицо было пасмурным.
Он видел женщину всего одно мгновение, но этого было достаточно, чтобы запомнить её, особенно глаза. Они были необыкновенно большими и светились, как озерки в густых камышах, спокойные и тихие. Незнакомка прошла к дому, где жили новые обитатели, а Климов в растерянности, которую не ожидал от себя, продолжал стоять на том месте, где столкнулся с ней.
На крыльцо выбежала девочка.
– Мама приехала. Ма-а-ма-а! – радостно закричала она и повисла на шее у женщины.
Климов повернулся и медленнео зашагал к себе. Придя домой, поставил в сенях бадейку, прислонил в угол удочку и прошёл к зеркалу. Живя в деревне, он никогда не обращал внимания на свои наряды, а сегодня почему-то посмотрел на себя со стороны и засмущался, и задумался. Конец этого дня (Климов чувствовал это) не был похож на прожитые. Что-то светлое, тонкое и радостное окружило его. Он чувствовал лёгкость и приподнятость.
Вечером, не найдя покоя в доме, он вышел на улицу. Было уже поздно, но в июне и ночь, как вечер. Небо на западе светлое, звёзды еле проглядывались. На фоне неба, как вырезанные из тёмной жести отпечатывались редкие листья деревьев. На пригорки неторпопливо вползал туман. Был он тёплый и состоял из нескольких тонких слоёв.
Климов спустился к реке. Вода текла, журча на мелких местах, будто кто-то тонкими стёклышками ударял о толстые, и они звенели, но звон не уходил далеко. Вызванный к жизни, он быстро затихал и угасал.
Побродив по берегу, Климов вернулся в деревню. В доме под ветлой горел свет. За ветками яблонь светились жёлтые прямоугольники окон.
«Интересно, что она делает сейчас, – думал он, глядя на светящиеся окна. – Пьёт чай, может, или дочке чего-то рассказывает, или платьице ей гладит? А впрочем, какое до всего этого мне дело?» – поймал себя на мысли Климов и, хлопнув калиткой, пошёл в дом.
3
Эта женщина живёт в доме под ветлой уже несколько дней. Ходит с девочкой гулять на реку, в берёзовую рощу, к песчаному карьеру. Климов украдкой наблюдает за нею. У него не идёт рыбалка, не клюёт рыба. Он ложится спать очень рано, стараясь как можно быстрее приблизить следующий день, чтобы снова увидеть её.
Она всё чем-то напоминает о себе: то створка окна стукнет, то мелодия приёмника вcколыхнёт ломкую тишину ночи, то дымок из трубы проложит извилистую тропинку в небо, то ветер донесёт запах свежевыстиранного белья, развешанного для просушки. Она скрыта листвой деревьев, акварельными сумерками, но он видит её. То она идёт под яблонями, то расчёсывает длинные волосы, стоя перед зеркалом, то звонко смеётся утреннней заре. Ему кажется, что она притаилась в бревенчатом доме, сама ему не показывается, но следит за каждым его шагом и всё о нём знает и как-нибудь росным ранним утром пробежит мимо него с кручи, разметав по плечам волосы, и крикнет:
– Кли-и-имов! А я о тебе знаю всё! Ты от меня никуда не уйдёшь! Не уйдё-ё-ёшь!
Он забывался в этих сладких грёзах, на его лице стала блуждать странная улыбка, на вопросы отвечал невпопад, что дало повод Сухонину при встрече заметить:
– А не втрескался ли ты в дочку этой барыни, что приехала? – И посверлил острым взглядом.
Климов ничего не ответил, отвернулся от Фёдора и безразлично стал смотреть в небо.
– А она одна, – продолжал Сухонин. – Мужа у неё нету…
– Откуда знаешь? – Климов нарочито зевнул.
– В деревне всё знают, – усмехнулся Фёдор и почесал лоб.
И в этот вечер Климов опять не знал покоя. Везде, куда бы он не смотрел, он видел эту женщину с удивительными глазами: они смотрели на него с бока чайника, из которого он наливал кипяток, из зеркала, мимо которого проходил, отражались в стекле окна. Она была везде. Он крутил ручку транзистора и ворочался на старом диване.
4
С неделю была скверная погода: шли дожди, солнце не показывалось на сером, скучном небе. Было холодно. Выходить на улицу Климова заставляла только необходимость: принести дров, чтобы протопить печь, сходить по воду. Соседей он не видел. Они, очевидно, тоже не выходили из дома.
Но вот погода переменилась. Потеплело.
Как-то утром Климов вышел из дома. Солнце в молоке поднималось над лесом, над рекой, плескал на дома, сады, заросли ивняка на берегу свой свет. Голосисто пели, восседая на тыне, крутогрудые петухи. Избы стояли радостные, по-новому белели наличники, светились стёкла окон, казалось, на цыпочках застыли деревья, потянувшись к солнцу. Всё жило ожиданием жаркого дня, всем наскучила прохладная погода, когда термометр не показывал выше восемнадцати градусов тепла.
Щурясь от обилия солнечного света, Климов спускался по извилистой тропинке к реке. На мостике, сколоченном из неровных берёзовых жёрдочек, выступавшим над водой, он увидел её, полоскавшую бельё. На ней были брюки и просторная полотняная кофточка. Волосы мешали ей, и левой рукой она ежеминутно откидывала их со лба…
Климов остановился в нерешительности, не зная, идти вперёд или вернуться. Женщина поднялась, встряхнула выжатый жгут и положила его в корзину. Подняла с мостика узкую ленту, перевязала волосы у затылка и, повернувшись, увидела Климова.
– Давайте я вам помогу, – сказал он и, сбежав с бугра, взял корзину.
Она взглянула на неожиданного помощника. Климов увидел её глаза, в которых отражались тёплые солнечные блики. Они искрились и переливались, как светлые пятнышки на воде в утренний или вечерний час, когда солнце цепляется за верхушки деревьев на горизонте.
Они прошли шагов тридцать. Климов еле взбирался с тяжёлой корзиной в гору.
– Давайте понесём вместе, – предложила огна. – Вам одному тяжело.
Он возразил:
– Вдвоём неудобно идти. Тропинка узкая…
– Тогда передохните. Я бы одна не донесла. Столько белья!
Они остановились, и Климов поставил корзину на землю. Его спутница широко распахнутыми глазами глядела на речную в весёлой зелени долину. Руки её теребили застёжку у рубахи, и Климов заметил, что они насквозь простиранные, с белой набухшей кожей на кончиках пальцев.
– Красиво здесь, – она перевела дыхание.
– Да, – согласился он. – Красота изумительная.
Внизу, над лугом, над кудрявыми, ровными, будто постриженными кустами бредника, курился туман. Его ровные пряди прижимались к траве, стекали в пологие низины, растекались по ним и пропадали, растворялись в нагретом воздухе.