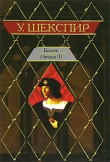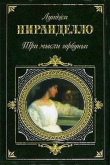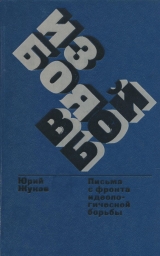
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
Монтерлан прожил долгую и бурную жизнь. Свое первое литературное произведение «Жизнь Сципиона» по римскому историку Титу Ливию он написал еще в возрасте… шести лет. В четырнадцать лет он пробовал силы в бое быков в Испании – убил двух быков. Ученик ультрапатриота Барреса, он ушел добровольцем на первую мировую войну и в 1918 году получил свои семь осколков снаряда. В 1922 году опубликовал первый роман «Сон», в 1924 году – «Похоронную песнь погибших под Верденом».
Вскоре Монтерлан становится знаменитым и… вдруг нокидает Францию на несколько лет, чтобы путешествовать по странам Средиземноморья. Во время этой поездки – то в Алжир, то в Марокко – он и написал роман «Роза песков», романтическую и вместе с тем суровую историю французского лейтенанта Люсьена Олиньи, который отправился в Северную Африку, чтобы в боях с бунтующими арабами быстрее сделать военную карьеру. Там герой романа полюбил молодую дочь бербера, сблизился с кочевниками, проникся уважением к ним и отказался от участия в очередной военной вылазке, хотя это и угрожало ему серьезными последствиями. Кончается роман гибелью этого лейтенанта от руки повстанцев – его предает приятель, французский художник – беспринципный искатель приключений в Африке.
Монтерлан не решился тогда опубликовать свой роман. Лишь в 1938 году он напечатал его тиражом… в шестьдесят экземпляров, да и то с купюрами и под чужой фамилией. Сейчас, оправдывая свое решение оставить роман под спудом, Монтерлан поясняет в обращении к читателю, помещенном на обложке книги: «Когда я вернулся во Францию после трехлетнего отсутствия, я увидел, что война неизбежна: нацистская партия только что получила большинство мест в рейхстаге, Я увидел Францию, которая показалась мне слабой, ее грубо оскорбляли (итальянская) фашистская и гитлеровская партии. Я счел невозможным печатать книгу, которая была бы использована против Франции…»
Но это объяснение не убедило критиков, которые, между прочим, помнят, что в годы фашистской оккупации Моптерлан чувствовал себя вполне спокойно – он писал и ставил пьесы в парижских театрах: премьера его «Мертвой королевы» в «Комеди франсэз» состоялась в 1942 году, а премьера пьесы «Ничей сын» – в театре «Сен – Жорж» в 1943 году.
Но так или иначе роман «Роза песков», пусть с тридцатишестилетним опозданием, вышел в свет и предстал перед судом читателя. И если отвлечься от его истории, то следует объективно признать, что перед нами зрелое произведение большого мастера, на лице романа, как подчеркивает опытный критик «Леттр франсэз» Анн Виллелор, «не появилось ни одной морщинки».
И хотя сам Монтерлан уверяет, что издал этот роман только потому, что ныне он лишен политической актуальности и читается как исторический документ, в действительности «Роза песков» звучит сегодня не менее злободневно, нежели тогда, когда она писалась. Быть может, страшась этой злободневности, Монтерлан предпослал роману сочиненный им самим скептический афоризм: «Мир трагичен потому, что люди из всего делают ненужные трагедии». Но роман вопреки автору всей силой своего реалистического показа колониального Марокко тридцатых годов сурово судит тех, кто создает трагедии.
Монтерлан хотел написать книгу, главной мыслью которой было бы «милосердие». Получилось же убедительное оправдание той самоотвержеппой, суровой борьбы за свободу, которую арабы Марокко начали вести уже тогда, в самом начале тридцатых годов. И горькие слова беспощадного колонизатора маршала Льотэ, приведенные в качестве эпиграфа к этой книге, проникнуты предчувствием неминуемой катастрофы: «Внешняя Франция (то есть французские колонии. – Ю. Ж.)охвачепа моральным кризисом и политическим недомоганием, в особенности Индокитай (!). Этот кризис проистекает из нашей тенденции рассматривать расы, подчиненные нашей власти, как неполноценные. Несправедливо обращаться с берберами, аннамитами, арабами, мальгашами с пренебрежительной снисходительностью, которая порождает ненависть и готовит завтрашние восстания».
Вот почему никак нельзя согласиться с теми парижскими критиками, которые утверждают, как это делает, например, критик «Нувель обсерватер» Франсуа – Режи Бастид, будто «сегодня будут читать эту книгу как подогретое экзотическое блюдо». Нет, хочет того сейчас сам Монтерлан или не хочет, его «Роза песков» займет место в строю современного политического романа, атакующего устои старого мира.
Итак, политический роман завоевывает все более широкое место во французской литературе. Пусть его авторы еще не всегда оказываются в состоянии дать четкий и ясный ответ на животрепещущие проблемы современности – не такое уж это простое дело! – пусть далеко не все литературные произведения, посвященные этим проблемам, совершенны, важен сам по себе знаменательный факт: следуя лучшим традициям мировой литературы, французские писатели создают смелые, злободневные произведения, посвященные борьбе против зловещих сил войны и международного разбоя. С каждым годом таких произведений становится все больше и круг их авторов ширится. И в этом – верный признак душевного здоровья наиболее сильного течения современной французской литературы.
Со времен Бальзака, Гюго, Золя для передовых писателей Франции всегда были характерны глубокое исследование народной жизни, пристальное внимание к человеку, искренняя и неподдельная заинтересованность в оздоровлении общественных нравов. Декаденты, модернисты немало потрудились над тем, чтобы отбить у литераторов вкус к этой тематике; запираясь в пресловутой «башне из слоновой кости», они поворачивались к народу спиной и замыкались в тесном кругу собственных, узколичных переживаний и представлений. Но тем самым они обедняли, обкрадывали самих себя, их произведения становились вымученными, иссохшими, и читатель утрачивал к ним всякий интерес.
Тем отраднее, что в последнее время во французской литературе отчетливо сказывается возрождение социального романа, романа нравов, семейного романа, причем их авторы все чаще не ограничиваются модными в наше время «моментальными фотографиями» того, что попало им на глаза, а размышляют о виденном, подводят читателя к глубоким выводам гражданского порядка.
В этой связи хочется особо отметить пользующийся сейчас большим успехом у французского читателя роман Клэр Эчерелли «Элиза, или Настоящая жизнь», заслуженно отмеченный в 1967 году премией Фемина[32]32
Член Гонкуровской академии Эрве Базэн предлагал увенчать эту книгу премией Гонкура.
[Закрыть].Это роман о рабочем классе, о жизни тружеников, работающих на автомобильном заводе Ситроэна, о горьких проблемах рабочих – алжирцев, подвергающихся дискриминации, о мужественной деятельности коммунистов, сплачивающих рабочих и возглавляющих их борьбу за свои права.
Роман посвящен событиям конца пятидесятых годов. Еще живы отзвуки самоотверженной борьбы французского народа против войны во Вьетнаме (главная героиня романа Элиза, как и автор романа, дочь докера; она помнит многое: «Порт был парализован забастовкой. Докеры держались двадцать три дня. Судили девушку, которая легла поперек рельсов, чтобы остановить эшелон с вооружением»). Бушует первая колониальная война в Алжире. Теперь народ борется против нее. Алжирцы, работающие на заводе, участвуют в организации Фронта национального освобождения. Их бросают в тюрьмы, высылают. А Элиза полюбила алжирца Арезки, активиста Фронта, подпольщика. Они бродят по ночному Парижу, и он о многом рассказывает своей подруге, просвещая ее, открывая ей глаза на тот жестокий мир, в котором она живет.
Война разрушает эту любовь – Арезки арестовывают и высылают. Но Элиза уже не та наивная девушка, какой она была в тот день, когда приехала в Париж в поисках «настоящей жизни». Сначала она находилась под влиянием брата Люсьена, работающего на том же заводе, бывшего студента, который полон левацких настроений – революционная экзальтация в нем спорит с банальной леностью. Его друг интеллигент Анри – такой же левак, скептически относящийся ко всему на свете. С их точки зрения, все, что делается по почину коммунистов или профсоюза, входящего во Всеобщую конфедерацию труда, «недостаточно», «бесполезно», «неудачно», но сами они ничего толкового организовать не в состоянии.
Для Элизы же теперь партия притягательна. Для нее «подлинная жизнь» не игра в революцию, а сама революционная борьба. Она еще разделяет некоторые заблуждения Люсьена – «его наивность, его преувеличения», но ее тянет к коммунистам. И вот перед нами рабочий вожак коммунист Жиль, чей образ правдиво и тепло обрисован автором. Он терпеливо и внимательно помогает Элизе найти правильный путь.
– Поверь мне, нужно, чтобы вы пришли к нам, – говорит он ей. – В одиночку ничего не добьешься. Десять лет вы будете бунтарями, а затем в один прекраспый день смиритесь. И кто знает, вы окажетесь в другом лагере. – Элиза начинает верить этому человеку. «Он восстанавливает ваше достоинство, которое отнимали у вас воздействие конвейера и презрение начальства, – задумчиво говорит она, – он возвращает вам чувство уверенности в себе…»
Клэр Эчерелли сказала корреспонденту «Юманите – диманш»: «Это единственный положительный герой. Единственный, кто знает, куда он идет и почему идет», в то время как «анархические бредни Люсьена в конечном счете бесплодны». Заметив, что прообразом Жиля был коммунист, рядом с которым она сама работала на заводе, Эчерелли добавила: «Он говорил много такого, что мне в то время было чуждо, но позднее все стало яснее. Много такого, что сегодня думаю и я сама…»
С огромным интересом читаются страницы романа, посвященные демонстрации, когда рабочий Париж вышел на улицы, чтобы протестовать против войны в Алжире, и произошли острые столкновения с полицией. Были убитые, раненые. Кое‑кто растерялся. Но Жиль не колебался – «он извлекал уроки из этих последних дней с выдающейся мудростью и, не унывая, устремлялся в будущее…»
Этот пример ободряет Элизу. Узнав об аресте Арезки, она вступает в борьбу. «Я переверну Париж. Есть адвокаты, газеты. Жизнь человека что‑то значит!.. Кто‑то поднимается, чтобы кричать, протестовать, требовать». И хотя ей не удается разыскать и вернуть па завод Арезки, хотя она остается наедине со своей болью, со своими разочарованиями, Элиза не сломлена: «Под пеплом – неизбежная надежда».
Эчерелли удалось убедительно и правдиво показать мир рабочего класса «изнутри» потому, что жизнь Элизы – в значительной мере ее собственная. На долю этой тридцатилетней женщины выпала нелегкая судьба. Дочь докера, который в 1940 году был взят в плен гитлеровцами и в 1942 году убит при попытке к бегству, Эчерелли, как сирота, воспитывалась за счет государства в лицее, но не закончила его. Потом раннее замужество, ребенок, скорый развод, и вот она в восемнадцать лет с младенцем на руках в Париже в поисках средств к существованию:
– Это было трудно – без диплома… – рассказывала она в одном интервью. – Мне смеялись в лицо, когда я просилась на службу в контору: «Об этом не может быть и речи, вы не умеете даже стенографировать». Я стала искать работу продавщицы, но у меня не было рекомендаций, да и внешность моя не блестяща. Я жила в гостинице, у меня был ребенок, который хотел есть, – деньги были нужны немедленно. Я попыталась пойти в услужение. Не взяли и па эту работу: нашли, что я слишком тоща. Мне шел двадцать первый год, и я действительно не отличалась крепким сложением. Прочла объявление в га зете: «Требуются работницы на конвейер у Ситроэна». Это было в 1957 году. Я проработала там семнадцать месяцев…
Завод встретил будущую писательницу неприветливо:
– Усталость отсекала меня от других и от всего, что происходило вокруг меня… Конвейер – это тяжело… Условия работы не давали возможности вступать в контакт друг с другом. Разговаривать мешали шум и усталость…
Эчерелли продолжала:
– Я видела людей, которые работают в социалистических странах. По – моему, нет никакого сравнения: там у рабочего чувство, что он необходим обществу. Для меня же завод был олицетворением полнейшей бесчеловечности. Плюс к этому полицейская система: на любом уровне всегда есть кто‑то, кто за всеми следит. Это ужасно…
В 1963 году Эчерелли удалось устроиться в контору агентства «Досуг и каникулы молодежи». Стало чуточку легче. Она начала много читать. Родилась дерзкая мысль о собственной книге. Вставала в пять часов утра в своей крохотной комнатке «для прислуги» на шестом этаже и писала. Писала долгих три года. Потом начались мытарства в издательствах. Роман о рабочих?.. Издатели пожимали плечами. Отказал один. За ним другой. Наконец, издательство Деноэля решило рискнуть. Но… из пятисот страниц рукописи было выброшено двести: в корзину ушла почти вся первая половина романа – французская провинция, детство Элизы. И все же даже изуродованный, роман привлек внимание и читателя и критики. Теперь издатель ходит именинником: премия Фемина присуждена его автору!
К сожалению, романы из жизни рабочего класса нынче крайне редки во французской литературе, да и только ли во французской! Слишком многие современные литераторы чураются этой тематики, то ли потому, что считают ее старомодной, то ли просто в силу своей фактической отдаленности от рабочей среды они предпочитают писать о том, что им ближе, – не знаю. Но факт остается фактом: среди сотен романов, лежащих на прилавках парижских книжных магазинов, редко – редко обнаружишь такой, который бы показал жизнь рабочего человека вот так же обстоятельно, как это сделала Эчерелли.
Мне думается, что это не столько вина, сколько беда, и притом большая беда, современной французской литературы. И это глубоко ощутили многие писатели в бурные майские дни 1968 года, когда Франция была потрясена острейшим социальным конфликтом. Какими бледными, худосочными выглядели на фоне этих громокипящих событий еще вчера превозносившиеся критикой до небес иные модные сочинения, изобиловавшие экскурсами в подсознание человека, тщательно исследовавшие нюансы психологии и психопатии, щеголяющие самоновейшими формальными приемами, но крайне далекие от жизни!
Один мой знакомый, опытный литературный критик, с горечью сказал: «События застали французских писателей врасплох. Они просмотрели истинные настроения народа и истинное состояние общества». Я думаю, что это слишком суровая оценка: нельзя требовать от писателя, чтобы он был оракулом. К тому же события во Франции застали врасплох не только писателей, но и многих политических и государственных деятелей. Важно отметить другое: если бы французская литература шире и глубже разрабатывала социальную тематику, если бы французские писатели чаще обращались к жизни рабочего класса, крестьянства, и прежде всего молодежи, читатель лучше знал бы, в каком направлении развиваются глубинные социальные процессы, симптомом которых и явились майские события 1968 года.
В этом отношении современные писатели могут многому поучиться у своих знаменитых предшественников – классиков французской литературы, которые всегда пристально изучали жизнь, быт, борьбу трудового народа. И не случайно именно сейчас в среде французских писателей усиливается интерес к этому классическому наследству. Пример Бальзака, Золя, Гюго вновь обретает свое пленительное обаяние.
– Кто из писателей больше всего повлиял на вас? – спросил, обращаясь к Клэр Эчерелли назавтра после присуждения ей премии, критик «Леттр франсэз» Жан Жожар. Она ответила:
– Бальзак.
Влияние Бальзака вновь усилилось во французской литературе, хотя торопливые модернисты не раз готовились его хоронить, как «старомодного» писателя. По – прежнему сильно и влияние Флобера. Об этом невольно вспоминаешь, читая объемистый, обстоятельный, написанный в реалистической манере роман Эрве Базэна «Супружеская жизнь», пользующийся огромным спросом [33]33
Подробнее об этом романе я расскажу в главе «Писатель и Жизнь».
[Закрыть]. Из Парижа перенесемся в дальний, глухой угол юга – в Верхний Прованс. Там один из старейших писателей Франции, Жан Жионо, развернул действие своего романа нравов – диких и горьких нравов отсталых горцев. Роман называется необычно – «Эннемонд и другие характеры». Да и на роман‑то новое произведение Жионо не очень похоже – это своего рода монолог писателя, который, не спеша, рассказывает о любимом крае и его людях.
Семидесятитрехлетний провансалец Жан Жионо – человек устоявшихся консервативных взглядов. Он весь в прошлом, и притом в далеком прошлом. Творения Гомера и Библия – вот источники его жизненной философии и творческой манеры. Уже в двадцать лет Жионо написал «Рождение Одиссеи» – странную и красивую книгу, которую он опубликовал лишь в 1930 году. В ней, любуясь родным Провансом, он изображал современного Улисса, античного сына извечного Средиземноморья, который, вернувшись из дальних странствий, рассказывает поэтические истории. Его романы – это своего рода поэмы в прозе, из которых так и брызжет сок образной речи и которые напоены горьким ароматом горных трав. Поклонник Уитмэна и Льва Толстого, он ищет спасения для человечества в возврате к библейской простоте; в развитии цивилизации видит одни опасности.
Провозгласив себя «интегральным пацифистом», Жионо перед второй мировой войной опубликовал памфлеты «Отказ от повиновения» и «Жить свободным», за что ои даже преследовался по обвинению в «подрыве морали армии». Этот «интегральный пацифизм» не помешал ему, впрочем, легко найти общий язык с гитлеровцами и их марионетками в Виши после разгрома Франции. За сотрудничество с врагом Национальный комитет писателей в 1944 году внес Жана Жионо в свой черный список, и его в течение трех лет не печатали ни одна газета, ни один журнал и не издавало ни одно издательство. Но по-
том он снова появился на литературной арене – все таким же, ничуть не изменившимся.
И вот передо мной его повествование о долгой жизни властной, жестокой и страстной крестьянки с провансальского нагорья Эннемонд и ее соплеменников. Жионо описывает весь жизненный путь своей героини. Вначале мы видим ее юной красавицей, она готовится стать учительницей, но проваливается на экзамене в институт и возвращается пасти овец на отцовской ферме. В конце перед нами разбогатевшая, хищная восьмидесятилетняя старуха, она нажила свои капиталы ценой жестокой борьбы с соперниками, не останавливаясь перед убийствами и мошенничеством. Она парализована. За ней ухаживают дети – она успела народить тринадцать сыновей и дочерей. Молча глядит Эннемонд долгими часами на суровые и величественные горы – все в жизни проходит, лишь вечная природа неизменна.
В изображении Жионо это край сильных, злых и молчаливых людей, которые не выпускают ружья из рук и готовы перегрызть друг другу глотку ради наживы. «Некоторые потеряли свое сердце десяти лет от роду. У некоторых его не было вовсе», – повествует он. Ему все это представляется. вполне естественным – какова природа, таковы и люди. Они влекут его к себе – в них он видит что‑то античное, первородное. Жионо не мог не сказать о том, что и этот дикий уединенный край был опален дыханием войны – эсэсовцы добирались даже сюда, и эти дикие в его изображении горцы дрались с ними насмерть. В бою погибли муж и сын Эннемонд, но и такие волнующие моменты Жионо изображает по – своему: в его передаче эта схватка выглядит как своего рода азартная и бездумная ярмарочная борьба; недаром муж Эннемонд, погибающий в бою, – бывший циркач. Кстати, участие в движении Сопротивления не мешает Эннемонд и ее семье наживаться на черном рынке…
Роман – а он лаконичен и занимает каких‑нибудь сто двадцать пять страничек небольшого формата – дополнен другим текстом без названия; в нем Жионо воспевает дикие красоты пустынного приморского района Камарги, рассказывая о том, как живут там люди и звери: люди дерутся между собой, а звери безжалостно пожирают друг друга. «Бессмертие души, – заключает Жионо, – это гримаса клоуна для забавы детей, а вот то, что очевидно, что бросается в глаза, – это бессмертие плоти, бессмертие материи, цепь превращений, колесо жизни, бесконечное чередование приключений и случайностей…»
Бегство от цивилизации, уход в дикость, отрицание всего светлого, что есть в человеке, прославление беззакония как якобы естественного состояния человека, свободного от предрассудков и условностей, – такова философия Жана Жионо, который при всем том остается, бесспорно, талантливым писателем. Я уверен, что горцы Верхнего Прованса не узнают себя в зловещих героях его романа – такими бессердечными он их изобразил. Ведь это люди как люди, с присущими им слабостями и достоинствами. Но, рисуя собственный, воображаемый Верхний Прованс, подгоняя его под каноны своей библейской философии, Жионо все же собрал подлинные крупицы отсталых деревенских нравов и пережитков. Мы смотрим на них как бы через увеличительное стекло, и это помогает нам в конце концов лучше разглядеть все то плохое, что еще живет во французской деревне, отравленной ядом частнособственнической психологии.
Таковы некоторые, наиболее популярные в нынешнем литературном сезоне в Париже романы, посвященные социальной теме, рисующие нравы общества и семьи. Они берут читателя за живое, заставляют его о многом задумываться, волнуют. Эти романы подсказывают, что, если человек хочет остаться человеком, он не может и не должен мириться с мерзостью того образа жизни, законы которого диктует голый чистоган. Их авторы, таким образом, честно выполняют свой гражданский долг.
Луи Арагон, как я писал выше, требует места в современной литературе для «экспериментального реализма». Эксперимент, поиск нового живого слова, постоянное обновление стиля, неустанная забота о более глубоком содержании литературного произведения всегда были предметом особого внимания писателей, сознающих свою ответственность перед читателем; ведь задержка в творческом развитии – смерть для литератора.
Великолепное, вечнозеленое дерево реалистической литературы растет непрерывно, широко раскидывая свои ветви, постоянно обновляясь и развиваясь. Бальзак писал иначе, чем, скажем, Сервантес; Золя – не так, как Бальзак; Анатоль Франс – по – другому, нежели Золя; Арагон – иначе, чем Анатоль Франс, но все они дороги читателю, ибо творчество каждого из них озарено немеркнущим светом живой мысли. Реалистическая литература – это мыслящая литература, а литература социалистического реализма – тем более. И эксперимент, цель которого – искать и находить все новые связи, соединяющие сердца писателя и читателя, коммуникации, как теперь принято говорить, активнее вовлекать читателя в творческий процесс, побуждая его к совместному переживанию, постоянно обновлять литературную форму, – этот благородный эксперимент является необходимейшим условием творческого роста литературы.
Но главное при этом, чтобы писатель денно и нощно думал не только о том, как сказать, но и что сказать. Иначе ему грозит страшная участь: читатель быстро пресыщается формальными изысками, если он обнаруживает, что за ними в сущности нет глубокой идеи и они существуют как бы сами по себе, в безвоздушном пространстве.
Увлечение чисто клиническим исследованием хода человеческого мышления и самоанализом, стремление пойти еще дальше и углубиться в подсознательный мир, подвергнуть исследованию сны и бред человека все еще охватывают многих французских писателей. Утрачивая интерес к окружающей среде и к волнующим людей политическим и социальным проблемам, иные из них все больше концентрируют свои усилия на описании собственного узкого мпрка, где все под рукой, все рядом: садись перед зеркалом, гляди в него и пиши.
Пусть не поймет меня читатель так, будто я против автобиографического жанра, боже упаси. Многие автобиографические произведения вошли в золотой фонд мировой литературы. Достаточно вспомнить хотя бы книги Льва Толстого или Горького. Но что вы скажете, например, о такой книге, как «Световые годы», автор которой Резвани – сын иранского фокусника и русской эмигрантки, воспитанник белогвардейского колледжа, хозяин которого, как он отмечает, свято хранил портрет Николая II, – с величайшим удовольствием и откровенностью расписывает на сотнях страниц самые грязные истории, свидетелем и участником которых ему довелось быть?
Охотников до клубнички, увы, немало, и книга прино сит автору немалый доход. Буржуазная критика похваливает Резвани, сравнивая его с Генри Миллером и Селином. «Это новое «Путешествие на край ночи»», – пишет она. Но если в «Путешествии на край ночи» Селина еще можно было разглядеть хоть какие‑то черты бунта против общества, обрекающего человека на барахтанье в грязи, то здесь перед нами просто индивидуум, который преспокойно разлегся в луже и блаженно щурится на солнце.
К слову сказать, сейчас стало весьма модным все гуще уснащать туманные и запутанные сочинения, снова и снова исследующие сознание и подсознание одиноких, скучных героев, сексом, подробнейшими описаниями насилий, блужданий по всяческим злачным местам и так далее и тому подобное, дескать, не поперчишь, не посолишь – не продашь! И вот даже солидные издатели, такие, как Жюльяр, Альбен Мишель, Кристиан Буржуа и другие, публикуют сочинения, какие еще недавно в Париже продавались только из‑под полы.
В этой связи мне хотелось бы вернуться к книге Андре Пиейра де Мандьярга «В стороне от жизни», за которую ему, как я уже упоминал выше, в 1967 году была, как это ни странно, присуждена премия Гонкура, правда минимальным большинством голосов (но все же большинством!). Ее автор, в соответствии с модой, усердно исследует сознание и подсознание своего героя, хотя внешне его роман отнюдь не грешит какой‑либо экстравагантностью – он написан в спокойной, я бы сказал даже подчеркнуто консервативной, манере. Но это первое впечатление обманчиво – в традиционную форму вложено двусмысленное содержание. Это похоже на картины Сальвадора Дали, который, смешивая натуралистически выписанные детали, творит чудовищный и часто бессмысленный мир призраков.
Пытаясь оправдать решение Гонкуровской академии о присуждении премии этому роману, некоторые критики подчеркивали, что в ней Пиейр де Мандьярг открыто заявляет о своей ненависти к режиму Франко. Да, герой этого романа неоднократно называет генералиссимуса «фурункулом», размышляет о зверствах, совершенных в годы гражданской войны в Испании генералом Кейпо де Льяно, и, встретив старого антифашиста, плюнувшего вслед жандарму, подходит к этому старику и поет «Интернационал». Но все это лишь политическая приправа к долгой истории отнюдь не героических похождений героя романа в Каталонии, – истории, которая, как писала газета «Франс – суар» в мае 1967 года, производит «впечатление, будто читаешь замечательный путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны, замаскированный под роман».
Иной читатель тут же прервет меня: позвольте, скажет он, вы же начали вести речь об экспериментальном романе, а ссылаетесь на произведение, смахивающее на путеводитель по кварталу публичных домов. Это что-то уже из совсем другой оперы, такого рода книги вообще лежат за пределами литературы!..
Не спешите, однако, с такими выводами, мой строгий читатель. Как‑никак, жюри Гонкуровской премии увенчало книгу Мандьярга высшей во Франции литературной наградой, и уже это обстоятельство обязывает нас отнестись к ней с должным вниманием. Тем более что критика, подчеркивая наличие сюрреалистических корней в творчестве этого писателя, призывает читателей не воспринимать все, что он пишет, буквально, а искать в его натуралистических описаниях блужданий по грязным притонам какой‑то глубокий второй смысл. Что же касается этих красочных описаний самих по себе, то что ж, французская литература шестидесятых годов XX века терпит все, ее нравы весьма огрубели.
О чем же идет речь в романе?
Безмятежный супруг и счастливый отец, Сигизмунд, приезжает в Барселону. Цель поездки – полуделовая-полутуристская. Он получает письмо, присланное до востребования. На конверте – почерк его домработницы. Еще не развернув письмо полностью, Сргизмунд бросает на него взгляд и различает страшную фразу: «…она тут же скончалась». Сигизмунд догадывается, что речь идет о его любимой жене Сержине, но он хочет отсрочить подтверждение этой догадки. Он снова запечатывает письмо, кладет его на столик в своей комнате и… уходит знакомиться с кварталом публичных домов, о котором он был столь много наслышан уже давно.
На протяжении долгих трех дней Сигизмунд исследует это «дно» Барселоны, и автор пользуется случаем, чтобы во всех деталях расписать его мерзости. Сигизмунд со знанием дела, не торопясь выбирает себе проститутку по вкусу, некую Хуаниту, и три дня подряд пользуется ее услугами, причем и это Мандьярг описывает весьма дотошно, со всеми натуралистическими деталями.
Но Андре Пиейр де Мандьярг – аристократ, человек, которому было бы весьма неприятно, если бы его обвинили в порнографии. Поэтому он то и дело пытается подвести какую‑то философию под низкие деяния своего героя. Вот как он ее рисует – я цитирую роман:
«Письмо, конечно, не будет вскрыто сегодня ночыо, а по всей вероятности, и завтра. По крайней мере на двадцать четыре часа его (Сигизмунда) действия и жесты гарантированы. Его шаги подчинены лишь одному закону: дойти до окончания этого срока, который, впрочем, можно и продлить. «Никогда, – говорит он себе, – я не был в такой мере хозяином своей жизни, как сейчас; я не мечтал о столь сверхчеловеческой свободе». Он мог бы назвать себя всемогущим, поскольку ничто не было важным для него в том интервале времени, которым он пользовался…»
Вы скажете: это похоже на пародию. Нет, отвечу я вам, это точный перевод!
Стараясь придать какую‑то значительность своему герою, который столь сомнительно ведет себя, автор все время силится подсказать читателю, что в душе Сигизмунда, в его сознании и подсознании происходят какие‑то необычайно сложные процессы. Вот он бродит по злачным местам Барселоны, и его Сержина, которая, как он знает, почти наверняка погибла, незримо при сем присутствует. «Образ его молодой жены сливался теперь с ликами проституток, стоявших у стен в три ряда», – торжественно подчеркивает автор. Вот он вдруг вспоминает, что Сержина любила ходить в картинные галереи, и в перерыве между двумя визитами в притоны идет в музей. Вот он сидит в кафе гомосексуалистов и вспоминает, как Сержина рассказывала ему о зверствах франкистов. Подумайте только, какая сложная натура этот Сигизмунд!
Но на свете все кончается, кончается и этот роман. На третий день Сигизмунд вскрыл наконец письмо своей Домработницы и удостоверился в том, о чем уже давно Догадался: его жена покончила самоубийством, увидев, как у нее на глазах в пруду утонул их сын. Он садится в машину, выезжает из Барселоны и стреляется. Это все.