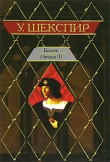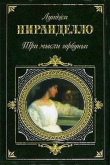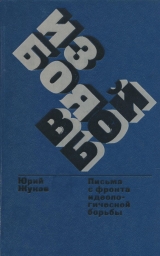
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 45 страниц)
К сожалению, это своеобразное киноисследование нравов больного неизлечимой душевной болезнью общества оказалось столь перегруженным показом его пороков, что социальная основа замысла потонула в хаотическом показе поистине страшных и отвратительных сцен морального разложения. Стремясь сделать этот показ более наглядным и убедительным, Феллини впал в грубейший натурализм. Экран был заполнен хаосом бредовых образов: сцены скотского распутства, одна отвратительнее другой, сменяли друг друга. И, как всегда бывает в подобных случаях, зритель быстро уставал и оставался равнодушным. Участники Венецианского фестиваля 1969 года, где впервые был показан «Сатирикон», увидели в нем, как писал критик газеты «Монд» Жан де Ба-ронселли, всего лишь «репортаж о «сладкой жизни» в Риме первого века» и испытали «разочарование».
Более удачной была кинокартина «Клоуны», снятая Феллини год спустя по заказу телевидения. На Венецианском фестивале 1970 года она была отмечена премией итальянских критиков. Феллини всегда стремился к изображению цирковой среды и редкий его фильм обхо-
днлся без вставных кадров, посвященных клоунам. На этот раз он предпринял своеобразное социологическое исследование – его как бы встревожил нынешний упадок этого древнего искусства, и он отправился в путешествие по циркам Европы, интервьюируя клоунов. Этот своеобразный фильм – репортаж, перемежающийся реминисценциями, посвященными тому восприятию цирка, которое было свойственно автору в далеком детстве, овеян невысказанной грустью и ностальгией. Можно подумать, что Феллини хочет сказать этим фильмом, будто подлинную человечность в наше жесткое суровое время хранит лишь этот узкий мирок.
Что это, парадокс или искреннее ощущение, порожденное усталостью художника и сознанием отчужденности от того злого мира, в котором он живет? Не знаю. Могу наверняка сказать только одно: мне искренне жаль этого большого художника, который так долго блуждает но мрачным тропинкам современного искусства, уйдя в них с широкого торного пути реалистического творчества.
Как обеднил самого себя Феллини, как ограничил возможности воздействия своего таланта на зрителя и как притупил свое творческое оружие, погрузившись на целые годы – да, на годы! – в вязкое болото душевных кошмаров и утратив интерес к тем итальянцам, которые находятся за пределами узкого круга, живущего «сладкой жизнью». А как нужна эта связь в наше тревожное время, вероятно, отлично понимает гражданин Феллини, вместе со своим народом участвовавший недавно в ночной вахте борьбы против американской агрессии во Вьетнаме.)
Мне хочется верить, что большой мастер кино Федерико Феллини с таким же интересом и симпатией, как и многие тысячи его соотечественников, просмотрел фильм своего более молодого собрата по профессии Нанни Лоя, также насыщенный творческими поисками совсем иного рода.
Я был на первом просмотре нового фильма этого мастера в Риме, организованном для иностранных журналистов. Как и следовало ожидать, реакция этих всегда требовательных зрителей была очень острой, и они буквально засыпали присутствовавшего на просмотре Нанни Лоя вопросами. Что имел в виду автор? Какую цель он перед собою ставил? Чего добивался?..
– Правильнее было бы назвать наш фильм «Мы – итальянцы» или «Вот они, итальянцы», но нам показалось, что это было бы претенциозно, – сказал Лой журналистам, когда они его спросили, откуда взялось название «Made in Italy». – Мы подумали, что это англосаксонское выражение в общем‑то подойдет – оно заинтригует зрителя. А вообще говоря, это, так сказать, кусок жизни Италии…
Но это не просто «кусок жизни», выхваченный в толпе операторами, прогуливающимися с кинокамерами, спрятанными за пазухой, это не монтаж сценок, заснятых наудачу. Здесь все сыграно (и притом наилучшими актерами! Тут и Анна Маньяни, и Альберто Сорди, и Вирна Лизи, и Нино Манфреди, и десятки других), но сыграно так, что при самом придирчивом отношении вы не найдете и тени театральности.
«Мы подбирали актеров в точном соответствии с ролями, – сказал мне в этот вечер Лой. – Каждый из них вживается в свой образ с первой же секунды».
И это тем более важно, что новый фильм Лоя – это не монолитная история, а искусная мозаика из десятков эпизодов, которые буквально искрятся на экране; порой они длятся лишь несколько секунд, но глубоко врезаются в память все до одного.
Фильм разбит на главы, носящие нарочито «энциклопедические» названия: «Нравы и обычаи», «Женщина», «Школа», «Семья», и под этими столь спокойными и даже равнодушными названиями – гроздья, буквально гроздья эпизодов – земных, плотских, то веселых, то грустных, но всегда впечатляющих и остроумных в лучшем смысле этого слова. И это не какие‑нибудь скетчи для увеселения публики, нет. Каждая, пусть краткая, сценка несет свою большую смысловую нагрузку.
Вот голодный мальчик глядит, глотая слюну, как его отец – рабочий жует принесенный им бутерброд; он отказывается взять кусочек со словами: «Мама сказала, что я уже ел». Вот крестьянка в грубом мужском костюме сильными движениями рук накладывает вилами сено на телегу – вы уверены, что перед вами мужчина, и вдруг она берет на руки лежавшего на сене младенца и дает ему грудь. Вот учитель жалкой деревенской школы, который только что прочел ученикам из казенного учебника главу о том, как счастлива солнечная Италия; он печально гля дит на карту, где его страна выглядит в виде сапога, и переводит взор на разбитые ботинки грустных ребятишек. Вот эмигранты, улетающие в поисках работы в далекую, холодную Канаду. Вот кардинал, хозяйничающий в своей конторе как самый грубый капиталист – эксплуататор. Вот богатые бездельники, прожигающие свою жизнь…
Этот фильм красноречиво и лаконично изобличает страшную систему, жертвой которой является прекрасный итальянский народ. «Режиссер вправе критиковать, – сказал Нанни Лой журналистам. – Мы ставили своей задачей правдиво показать недостатки общества, в котором мы живем. Мы считаем, что, сделав «Четыре дня Неаполя», получили право на это. Но мы, как видите, не страдаем пессимизмом. Верим в человека, верим в итальянского рабочего. Верим в то, что он сумеет найти выход».
Да, хотя в этом фильме показано много тяжелого, безысходного, он не только не оставляет у зрителя тягостного впечатления, а напротив, вселяет уверенность, что люди, показанные на экране, действительно сумеют найти выход. Именно этот оптимизм является наиболее сильной стороной в творчестве Нанни Лоя. Его фильмы не удручают, не обезоруживают людей. Напротив, они их окрыляют.
Так Нанни Лой еще раз на опыте показал, что художник, которому дороги интересы своего народа, может и должен сочетать неустанный творческий поиск лучших форм самовыражения с постоянной заботой о жизненных интересах общества. Именно его герои, живые и реальные, способны одолеть разгулявшихся на экранах Запада джеймсов бондов и воодушевить кинозрителя большими человеческими идеалами.
Январь 1968. Гневный кинематограф
В кинематографической литературе Запада это направление все еще именуют по – старинке «подпольным». Подпольное? Почему?.. Этот вопрос невольно возникает, когда читаешь в «Нью – Йорк тайме» рекламные объявления о показе фильмов «подпольного кино» в кинотеатрах; заплатите два доллара и идите глядеть любой из них: либо «Девушки из Челси» Энди Уорхола, либо «Скорпион подымает голову» Кеннета Ангера, либо «Относительность» Эда Эмшвиллера, либо «Он сам или она сама» Грегори Маркопулоса, либо любой другой; около двухсот режиссеров работают в американском «подпольном кино», и ими поставлено пятьсот фильмов.
Так почему же их именуют подпольщиками?..
Один из ведущих деятелей этой новой творческой ветви американского кино, которую одни критики превозносят до небес, а другие яростно проклинают, Йонас Мекас, литовец по происхождению, беседует с нами в тесной, заваленной литературой и коробками с кинолентами конторе нью – йоркского Кооператива кинопостановщиков. Тут же на столе стоит кинопроектор, и он по ходу беседы иллюстрирует свои мысли кинокадрами.
Видать, пока что материальные дела этого кооператива идут неблестяще. Всесильный Голливуд, который вначале позволял себе роскошь игнорировать этих беспокойных фантазеров, нынче переходит в контратаку на людей, осмелившихся поднять творческий бунт. Й все‑таки в кооперативе царит приподнятое настроение: о нем заго ворили в «большой прессе», его фильмы прорываются на открытый экран, они получают премии на международных фестивалях…
– Это было шесть – семь лет тому назад, – говорит Ме-кас, теребя нитку, выползающую из его видавшего виды вельветового пиджака. – Мы, тогда еще очень молодые кинематографисты, поняли, что Голливуд идет к закату. Его виднейшие мастера постарели. Его творческая деятельность выдохлась. Голливудские фильмы делаются по старинке, мы отстаем на десятилетие от европейского кинематографа. Молодежь туда не допускается. И вот у нас созрел дерзкий замысел: надо попробовать делать фильмы самим. Без студий и без банковского кредита. Без профессиональных мастеров и без технического аппарата. На шестнадцати-и даже на восьмимиллиметровой пленке. Самим снимать фильмы и самим их показывать!
По тонкому, нервному лицу Мекаса пробегает тень улыбки:
– Мы задали кое – кому немало хлопот: игнорировали цензуру, нарушали правила получения лицензий и регистрации фильмов. Полиция охотилась за нами, запрещала показ. Меня дважды сажали в тюрьму за нарушение правил. Но мы существовали. Вот тогда‑то нас и прозвали подпольщиками: ведь у нас не было ни гроша, и чаще всего мы показывали свои фильмы где‑нибудь в грязном подвале, в подполье…
Несколько лет тому назад репортажи о подпольном американском кинематографе выплеснулись в «большую прессу». Они щекотали воображение иных обывателей: послушать авторов этих репортажей, получалось так, словно «подпольщики» на своих сборищах учиняют черт знает что, пропагандируя порнографию и наркотики. Но порнографию, насилие, использование наркотиков сейчас вовсю прославляет сам Голливуд. Экраны Бродвея нынче буквально сочатся жирной грязью. И если полиция охотилась за Мекасом и его коллегами, то это происходило вовсе не потому, что иные из них во имя ложно понятых творческих исканий или отдавая дань моде концентрировали свое внимание на проблемах половых извращений либо наркомании. Ее страшило другое: социальная направленность творчества лучших представителей новой школы американского кино.
В сущности о молодых людях, объединившихся вокруг издаваемого Йонасом Мекасом журнала «Фильм Калчер», можно лишь с большой натяжкой говорить как о представителях одной школы, одного творческого направления – слишком разные они люди, слишком пестры их интересы, чтобы их можно было охарактеризовать как единомышленников. Объединяет их одно: бунт против мертвящей диктатуры Голливуда.
Среди фильмов, относящихся к школе «подпольного кино», можно встретить и сугубо натуралистические киноповествования, и эстетские изыски, и некие кинематографические абстракции, но наряду с этим и бесспорно интересные, подлинно современные, смелые экспериментальные ленты, на которых лежит печать острой злобы дня.
Я бы определил эту последнюю группу фильмов как гневное кино – его мастера не просто лицезреют действительность, не просто выискивают в ней какие‑нибудь сенсационные, необычайные выверты, как это делают мнОгие нью – йоркские «киноподполыцики», а гневно разоблачают страшную действительность современной Америки.
Одними из первых представителей этого направления были Лайонел Рогозин, снявший в 1956 году интересный фильм «На Бауэри» – о самом нищем районе Нью – Йорка (сейчас Рогозин закончил новый, антивоенный фильм с ироническим названием «Великолепные времена»; его идея такова: «Как быстро мы позабыли то, что свершилось четверть века назад»), а за ним Бен Меддоу, Сидней Мейерс и Джозеф Сприк, создавшие три года спустя кинокартину «Гневное око». Потом Кеннет Ангер создал фильм «Скорпион поднимает голову» – о фашиствующей американской молодежи. Потом начало появляться все больше таких гневных фильмов.
В эти дни я видел здесь много фильмов, поставленных этими беспокойными, пытливыми людьми. И до чего же они были разные! Здесь смешано все: и самый грубый натурализм (Эдд Эмшвиллер, например, долго и добросовестно показывает, как режут свиней, а потом демонстрирует гастрономический магазин с колбасами и окороками); и романтическое мерцание космических глубин в его же «Относительности»; и попытки применить как‑то по – новому опыт Дзиги Вертова и французских последователей метода «киноправды» (такой попыткой представляется мне «психодрама» Энди Уорхола, который обошел со своей камерой пятнадцать номеров отеля «Челси» и с согласия их обитателей, весьма богемной публики, снял подряд все, что там происходило, – пристойное и непристойное. Так получился длящийся три с половиной часа кинофильм о том, как люди ведут себя наедине с самими собой).
Деятели «подпольного кино» особое внимание уделяют исканиям в области формы.
«Всякое искусство живет в развитии, – сказал мне Йонас Мекас. – Когда Алексей Толстой писал свою трилогию о гражданской войне, он не повторял приемов Льва Толстого; к этому времени, например, уже был открыт метод киномонтажа, и Алексей Толстой смело ввел его в литературу. Но и это было тридцать лет тому назад, и после этого были Хемингуэй, Джойс и другие. Поэтому, когда появится новый большой писатель, который напишет эпопею о второй мировой войне, он уже не будет писать ни как Лев Толстой, ни как Алексей Толстой – он напишет по – своему. Так и мы, кинематографисты, мы ищем свой современный язык. В отличие от окаменевшего Голливуда новый американский кинематограф, живой и творческий, стремится рассказать о том, что нас окружает, новым языком и в новом контексте…»
В том, что я видел, отчетливо обозначались влияния многих европейских мастеров, начиная с классика Эйзенштейна и кончая молодыми – Годаром и Аленом Рене. Явственно сказалось и проникновение в кино абсурда, привнесенного школой «поп – арта» в живописи, из которой вышел тот же Энди Уорхол; это он позволил себе, например, выставить на всеобщее обозрение фильмы «Еда» – как человек жует пищу, «Стрижка» – как в парикмахерской стригут человека, «Сон» – на протяжении всего фильма вы видите, как тихо опускается и поднимается грудь спящего человека, «Эмпайр» – в течение восьми часов (восьми часов!) вам показывают снятый с одной и той же точки небоскреб «Эмпайр стейтс билдинг». Наконец, мелькают на экране и такие озорные изыски, как «фильм, изготовленный без кинокамеры»: вам демонстрируют киноленту, исцарапанную иглой и запятнанную химическими реактивами. Это уж чистая абстракция, милая сердцу любителей безъязычного искусства.
Сильно в этом новом американском кинематографе увлечение поисками нового поэтического языка. Грегори Мар-копулос, Стэн Брэкедж, Стэнли Вандербик и тот же Эд Эмшвиллер, углубляясь в анализ психики, исследуя область подсознательных ощущений, привлекая красочные метафоры, заимствованные в мифологии, создают весьма своеобразные кинопоэмы для избранного круга людей, способных понять их с полуслова. Однако для массового зрителя нх фильмы остаются набором загадок и шарад. Я видел, например, фильм Маркопулоса «Он сам или она сама», навеянный новеллой Бальзака, в которой упоминались душевные терзания гермафродита. Не говоря уже о том, что сам сюжет, привлекший этого кинохудожника, имеет лишь, чисто клинический интерес, образная канва фильма поражала какой‑то удивительной старомодностью: герой его – с дамской туфлей, прижатой к щеке; разбитый бокал, из осколков которого выползает муха, – все это невольно напоминало давно забытые мелодраматические кадры из дореволюционных фильмов Григория Мозжухина и Веры Холодной.
Но тут же рядом – искания совершенно иного порядка: люди стремятся найти новый киноязык, способный ясно, четко и просто выразить большие идеи современности и донести их до народных масс. И если жизнь иных мастеров «подпольного кино» как бы раздваивается, когда, скажем, они свое творчество посвящают чисто формальным изысканиям, далеким от реальной жизни, а в то же время активно участвуют в борьбе за гражданские права негров и против американской агрессии во Вьетнаме, то другие мастера, сочетающие свою творческую и гражданскую деятельность в едином потоке, действуют гораздо более последовательно и логично.
– Мы бескомпромиссно отвергаем старое общество, – сказал мне Йонас Мекас. – Но протестовать против его порядков мало. Важно найти им замену. Лучшее общество будет построено лучшими людьми, и мы должны помочь своим творчеством их воспитанию. Отсюда и наша формальная задача: глубже проникать в уже созданные, пусть даже устаревшие, формы и до конца их использовать, находя им новое применение, а наряду с этим открывать новые, еще не исследованные области творчества. Кинематограф обычно отражает то, что необходимо сегодня. А сегодняшний день – это борьба…
И вот я смотрю оригинальные и вместе с тем простые, впечатляющие и в то же время доступные каждому фильмы нью – йоркской кинематографической школы.
«Скорпион поднимает голову». В этом фильме Кеннет Ангер рассказывает страшную правду о той части американской молодежи, которая отравлена вирусом неофашизма. У нее примитивная духовная пища: комиксы и книжонки о насилии и распутстве. Она не способна рассуждать. Ее приучают к повиновению и способности терять все, вплоть до унижения, – вы видите на экране, как при посвящении в члены клуба новичка подвергают самым постыдным процедурам. Награда за это? Свобода насилия и разврата. Идеология? Примитивна, как набор съестных припасов в мелкой бакалейной лавчонке: на стенах в штаб – квартире – свастика, нацистские флаги, портрет Гитлера. Автор не полемизирует ни с кем. Он не читает морали, не ставит точек над «Ъ>. Все до предела лаконично. Зритель сам должен сделать вывод.
«Время саранчи». Питер Гаснер показывает, на что способны молодчики, описанные Ангером, когда их спускают с цепи. Это рассказ о постыдной американской войне во Вьетнаме… Казалось бы, все сделано необычайно просто: Гаснер по крупице собрал редчайший кинематографический материал, заснятый американскими военными корреспондентами, операторами Фронта национального освобождения Южного Вьетнама и японским телевидением и… наложил на эти кадры звукозапись речей американского президента, официальных заявлений и комментариев. Но какой потрясающий, поистине убийственный обличительный фильм получился в результате этого!
Перед вами – истребление мирных жителей армией США. Отлично знакомый зрителю властный хрипловатый голос президента Джонсона вещает: «Мы боремся за честь Америки». На экране – избиения и расстрел пленных партизан. Тот же голос: «Мы защищаем свободу». Падают бомбы, пылает напалм. Голос: «Я делаю все, что могу, чтобы объединить весь мир в борьбе за свободу». И так весь фильм. Ни одного слова от автора, никаких комментариев. Все ясно само собой.
«Бриг». Так называется на солдатском жаргоне дисциплинарная тюрьма для провинившихся морских пехотинцев. Драматург Кеннет Браун, который сам служил в морской пехоте и которому довелось отведать тюремной похлебки на этом «бриге», написал убийственно правдивую пьесу о порядках, господствующих там, «бриг» – словно копия с фашистского концлагеря, где в человеке стремились убить душу… «Ливинг тиэтер» отлично поставил пьесу. Ею заинтересовалась широкая публика. Назревал политический скандал. Власти под предлогом, что труппа не полностью уплатила налоги, закрыли театр.
Что было делать? Руководители театра обратились за помощью к «подпольному кино». И тут Йонас Мекас со своим братом Адольфасом совершил подлинный творческий подвиг…
– Мы пришли в театр поздно вечером, – сказал он мне, – и проникли туда как злоумышленники, втянув через окно осветительную аппаратуру и три камеры. Труппа уже ждала нас за кулисами. В нашем распоряжении была всего одна ночь: на утро полиция наверняка узнала бы о нашем замысле и все провалилось бы. Надо было спешить. И мы решили применить метод «киноглаза», которым пользовался Дзига Вертов, – снимать так, как если бы это был оперативный кинорепортаж.
Не было ни репетиций, ни съемки дублей. Йонас Мекас вскочил на сцену, сказал: «Начали» – и смело вошел в толпу актеров. Он вел съемку, импровизируя на ходу, поворачиваясь то влево, то вправо, меняя ракурсы, переходя к крупному плану, когда это казалось ему необходимым, либо снимая сцены с дальней дистанции. Его помощник еле поспевал перезаряжать камеры.
Это может показаться невероятным, но было так: в течение одной ночи был снят полнометражный фильм огромной политической силы, причем вы забываете о том, что перед вами, в сущности говоря, лишь спектакль, действие которого происходит на небольшой театральной сцепе. Вы видите перед собой как бы снятый на месте действия документальный репортаж об американской военной тюрьме с ее звериными нравами.
Так было на практике доказано, что и за одну ночь можно заснять яркий, впечатляющий фильм, если и режиссер фильма, он же и оператор, и актеры, и весь технический аппарат работают с воодушевлением, если они верят в то дело, которым занялись, если в душе у них горит большая гражданская идея.
Фильм «Бриг» был увенчан первой премией на кинофестивале в Венеции. Американские власти оказались в щекотливом положении: как быть? Запретить фильм, как была запрещена пьеса? Но тогда разразится большой скандал и вся эта история нанесет огромный морально – политический ущерб пресловутому корпусу морской пехоты, который считается гордостью вооруженных сил США. Разрешить его показ? И такой исход был бы опасен для престижа морской пехоты. В конце концов было принято соломоново решение: фильм «Бриг» показывали в течение нескольких дней в маленьком кинотеатрике в Гринвич – вилледж, в районе нью – йоркской богемы, и на этом вопрос был исчерпан…
И вот мы смотрим этот полузапрещенный фильм, с волнением вглядываясь в каждый кадр. Перед нами проходит долгий томительный день в американской военной тюрьме, начиная с половины пятого утра, когда тюремщики будят кулачными ударами заключенных, и кончая часом отхода ко сну, когда дежурный по тюрьме приторно ласковым голосом спрашивает: «Все мои котята спят?» – и вдруг орет: «Отставить!» Люди вскакивают как встрепанные, стоят по стойке смирно, их снова и снова лупят, потом им позволяют лечь, но все повторяется сначала и так несколько раз.
На «бриге» заключенным строжайше запрещается разговаривать между собой. У них нет имен – только номера. Как же они существуют? А вот как…
На экране люди, которых только что подняли кулачным боем с коек: они построились, чтобы идти умываться. На пороге камеры – белая черта. Подойдя к ней, каждый заключенный должен истошным голосом прокричать, обращаясь к сержанту, которого вы видите слева, – он стоит подбоченившись, как лихой эсэсовец: «Сэр! Заключенный номер такой‑то просит разрешения переступить черту, сэр!» Сержант ответит: «Исполняйте!» Затем скажет: «Отставить!», влепит затрещину и скажет: «Повтори!»
Вот заключенных заставляют до изнеможения повторять один и тот же спортивный прием – отжим от пола. А этого провинившегося сейчас будут наказывать: на него наденут помойный бак и начнут молотить по этому баку, пока бедняга, не сумевший вытерпеть положенного ему «спортивного» режима, пе начнет сходить с ума.
И вот еще один кадр, символический: «Спасите, люди!» Но нет, никто не спешит на помощь этим несчастным. Каменные стены «брига» прочны, и голос его жертв в них глохнет…
Вот какое разное, можно сказать пестрое, «подпольное кино». В нем переплелось все: и острая злободневность, и оторванная от жизни эстетика исканий, и ясная, фотографически резкая отчетливость киновзгляда, и туманная расплывчатость старинного волшебного фонаря, и идейная целеустремленность, и путаница в мозгах иных мастеров этого направления.
– Мы хотим добиться истины, хотим изменить страну, изменить людей, изменить образ жизни, – сказал мне один из деятелей «подпольного кино». – Для этого прежде всего надо сломать старое, как это сделали в России. Искусство может помочь этому, действуя изнутри. «Хорошо, но чего вы хотите в конце концов? К чему вы стремитесь?» – спрашивают нас. Но у нашей молодежи еще нет готового ответа на этот вопрос. Она лишь в общих чертах представляет себе идеал свободы; каким же должно быть новое общество, пока представляет себе плохо. И все‑таки сам по себе факт творческого протеста против старого, отжившего порядка, по – моему, это уже шаг вперед…
Мне остается сказать два слова об Йонасе Мекасе и его брате Адольфасе, которые сделали фильм «Бриг» и играют самую активную роль в американском «подпольном кино». Они – литовцы по происхождению. Родственники их сейчас живут в Бирзае, близ Шауляя, – там, где в первый день войны разгорелось одно из самых яростных танковых сражений. Мать работает в колхозе, один из братьев – агроном, второй – ветеринар, третий – колхозник. В военные годы Йонас и Адольфас Мекас были еще юнцами. И когда гитлеровские власти объявили, что литовскую молодежь приглашают учиться в Мюнхенский университет, они наивно поверили.
– Нас привезли в Баварию, – говорит Мекас, – и загнали в лагерь. Там мы жили и работали вместе с русскими и украинцами – военнопленными. Натерпелись всяких ужасов. Потом пришли американцы, и наш лагерь стал лагерем перемещенных лиц.
Оттуда братья Мекас, как и многие другие, оказавшиеся на территории, занятой американскими войсками, были вывезены в США…
С тех пор прошло много лет. Теперь братья – американские граждане, но незримая ниточка, связывающая их с родным домом, не оборвалась. Они переписываются с родственниками, мечтают побывать на родине.
– Очень хочется снять фильм о русской зиме, – сказал мне вдруг Йонас Мекас. – Она мне так хорошо запомнилась. Тоскую по нашему хрустящему снегу: ведь здесь такого нет…
И еще есть у него один замысел: подобрать программу в отрывках из десяти – пятнадцати фильмов «подпольного кино», привезти ее в СССР и показать нашим киномастерам: ведь об американских «подпольщиках» в Москве знают так мало…
Ну что ж, я уверен, что эта идея наверняка заинтересует наш Союз работников кино! Ведь американское «подпольное кино» в сущности уже перестало быть подпольным. Оно выходит на магистральную дорогу борьбы со старым, консервативным американским кинематографом. Его не удалось ни запретить, ни задушить, ни предать казни умолчанием. И пусть оно все еще страдает многими «детскими» болезнями – есть в нем здоровая струя, звонкое пение которой слышится все отчетливее.
Признанный успех лучших его произведений обещает ему содействие и поддержку [81]81
Летом 1971 года на моем рабочем столе в редакции «Правды» вдруг зазвонил телефон: «Говорит Йонас Мекас, вы меня помните?..» Мекас приехал наконец в СССР, установил контакты с нашими кинематографистами, побывал у себя на родине в Литве, повидался с матерью. В Нью – Йорк он вернулся, окрыленный новыми творческими замыслами.
[Закрыть].
В феврале 1969 года я снова встретился с деятелями «подпольного кино» – повидался со старыми знакомыми в Нью – Йорке, установил новые знакомства в Лос – Анджеле-се и Сан – Франциско. Посмотрел их фильмы. Побывал на кинематографическом факультете Калифорнийского университета, где тон задавали все те же «подпольщики».
За год произошло немало перемен. «Подпольное кино» было признано и частично усыновлено коммерческим кинематографом, причем прокатчики, как обычно руковод ствуясь заботой о сенсации, сулящей прибыль, давали зеленый свет поставщикам «клубнички» вроде Уорхола, который и раньше испытывал пристрастие к болезненной эротике, а сейчас, когда его фильмы пошли нарасхват, и вовсе скатился к самой низкопробной порнографии.
Другие продолжали свои маниакальные искания в области абстрактного искусства, всячески изощрялись в поисках чего‑то экстраординарного – лишь бы головоломка получилась посложнее – и вовсе игнорировали ту простую истину, что самой природе кинематографа абстракция противопоказана.
Третьи упорно сохраняли свою приверженность к показу острых ситуаций общественной жизни. Они тоже неустанно экспериментировали, им тоже хотелось быть «не такими, как все». Они тоже ненавидели готовые стандарты, выработанные в свое время Голливудом, но в их творчестве сохранялось самое главное – стремление остаться на гребне волны социального протеста. Любопытно, что теперь деятели этой отрасли американской кинематографии все решительнее выступали против того, чтобы их кино называли подпольным.
– Во – первых, это название не соответствует действительности, ибо мы уже вышли из подполья, а во – вторых, оно стало предметом самой злостной и низкой спекуляции, – сказал мне Йонас Мекас. – Как вы знаете, прокатчики создали миф, будто «подпольное кино» – это порнография, и несведущий, циничный обыватель клюет на это. Все чаще появляется нахальная и подлая реклама: «Спешите видеть! Подпольное кино! Самый детальный показ техники гомосексуализма и лесбианства» и т. и. С такой рекламой идут не только фильмы Уорхола, но стопроцентные порнографические ленты, которые, уверяю вас, не имеют никакого отношения к нашей деятельности. Поэтому будет правильнее называть нас просто независимыми постановщиками, какими мы и являемся на самом деле…
Чем же были заняты в эти дни Йонас Мекас и его единомышленники? Они по – прежнему вели трудный поиск нового содержания и новых форм кинематографии. У них было немало интересных творческих находок, которые, кстати сказать, все чаще принимал на вооружение Голливуд. Были и неудачи, когда верх брали эстетические увлечения или погоня за абстрактными изображениями,
которые ничего не говорят ни уму ни сердцу зрителя.
Но вот что интересно: независимые постановщики все смелее вторгались в самую острую политическую тематику. Брат Йонаса Адольфас Мекас, например, снял актуальный фильм, посвященный молодежи, отказывающейся воевать во Вьетнаме. Он дал своему детищу ничего не говорящее название «Цветы ветра». «Чтобы не пугались хозяева кинотеатров», – иронически заметил Йонас. Однако эта наивная хитрость не помогла: фильм удалось показать лишь в течение недели в одном из небольших кинотеатров Нью – Йорка, и больше ему хода не было.
Но это не обескуражило независимых кинопостановщиков. Они продолжали идти в том направлении, какое считали самым главным для себя, борясь с теми, кто пытается закрыть им доступ к зрителю. Свои фильмы они чаще всего показывали студентам в университетских городках, в разного рода киноклубах и даже просто на частных квартирах.
Мне запомнилась встреча с участниками творческого кинокооператива «Кэньон – Синема» в Сан – Франциско. Я с трудом разыскал его в старом, запущенном доме: из коридора я попал в пустой грязный зал, где находилось ветхое пианино, лежали горой сваленные стулья, стоял мусорный ящик и висела копия какой‑то фрески, оттуда в кухню – за ней‑то помещались две крохотные комнатушки кооператива, заваленные железными коробками с кинолентами.