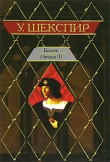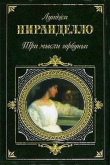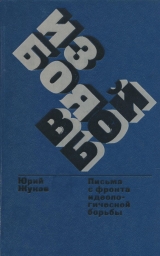
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 45 страниц)
Меня встретила представлявшая руководство «Кэньон-Синема» миловидная энергичная Эдит Крамер, одетая в черную рабочую кофту и брюки с широкими раструбами. С нею были еще два члена кооператива: строгий, подтянутый господин средних лет с бородкой, похожий на инженера, и весьма живописный персонаж с длинной бородой и волосами, спадающими ниже плеч, в желтой рубахе в коричневую клетку и белых полотняных штанах, на одной ноге у него был надет белый носок, на другой – синий; как потом выяснилось, ему было всего двадцать четыре года.
Между прочим, в ходе нашей беседы я еще раз получил возможность убедиться в том, что никогда не следует судить о людях по их внешности. Солидный господин – его звалп Эмора Менефа – оказался убежденным абстракцп-
онистом; он важно сообщил мне, что делает фильмы без съемочного киноаппарата – просто берет пленку и обливает ее разными химическими реактивами и царапает булавкой; по специальности он химик и знает толк в реактивах. «Я могу изменять цвета пленки по своей воле, – сказал он, – получается интересно». Менефа, по его словам, создал уже шесть таких фильмов, но показать их мне он не рискнул.
А вот парнишка с длинной бородой – это был Дон Ллойд, казначей кооператива, – оказался весьма деловым и трудолюбивым человеком. Весь вечер он копался в своих киносокровищах, доставал и показывал свои фильмы и фильмы своих друзей, ловко орудуя у проектора, говорил о жизни и трудностях «независимых кинематографистов».
Эдит Крамер и Дон Ллойд рассказали мне об истории «Кэньон – Синема» – его основал в 1960 году молодой кинематографист Брюс Бейли, и с тех пор в его рядах объединились десятки кинолюбителей, большинство из которых видят свое призвание в том, что они делают не развлечение и забаву, а средство социальной борьбы.
– Наше движение – протест! – говорила Эдит Крамер. – Молодежь не хочет жить по – старому, и она терпеть не может коммерческий кинематограф. Движение ширится. Правда, нам приходится нелегко. Не хватает денег, черт бы их побрал, а без денег в Америке ничего не сделаешь.
– Классический Голливуд умер! – запальчиво воскликнул Дон Ллойд. – Но этот мерзавец, разлагаясь, отравляет живых. Вы знаете, хозяева Голливуда внимательно следят за развитием «подпольного кино» и охотно используют его творческие находки. Наш стиль, наши приемы все чаще принимаются там на вооружение. Но это же, во – первых, воровство, а во – вторых, подделка!
– У нас прямая, я бы сказала, интимная связь со зрителем, – продолжала Эдит Крамер. – Большие кинотеатры нам, конечно, недоступны. Наша аудитория, как правило, пятьдесят – сто человек. Чаще всего это студенческие общежития и частные квартиры. Если хотите, наше движение – это защитная реакция против удушающей творческую душу системы коммерческого кинематографа. Там все на конвейере – от студии до кинозала. А мы воскрешаем человеческое ремесло, творческую индивидуаль ность. И пусть наши фильмы еще несовершенны, порой кустарны, но каждый из них несет на себе печать индивидуального творчества, каждый сам сочиняет свой сценарий, сам снимает, сам монтирует и сам показывает людям свой фильм.
Работники «Кэньон – Синема» показали мне в тот вечер добрый десяток своих фильмов – почти все они были короткометражные. Они были далеко не равноценны: некоторые кинематографисты отдавали дань кинематографу абсурда, другие увлекались абстрактными мотивами, третьи пытались подражать Дзиге Вертову, четвертые шли от Эйзенштейна.
Запомнились мне два фильма: «Кастро – стрит» Брюса Бейли и фильм Брюса Конера, который так и назывался – «Кинокартина» («А Movie»).
Брюс Бейли задался целью показать неприглядную, тоскливую, грубую реальность жизни промышленного предместья Сан – Франциско – это там находится Кастро-стрит, улица, названная так в честь некогда работавшего в этом городе деятеля по фамилии Кастро. В сущности это чисто документальный фильм. Мне он чем‑то напомнил знаменитую «Луизиана – стори» Флаэрти: индустрия, техника предстают здесь не как источник благ для человека, а как нечто грозное и страшное, подавляющее человека.
Дымят трубы, ворочаются краны, бьют мощные молоты, взад и вперед снуют поезда – техника главенствует над всем, человеку некуда деваться, он сиротлив и одинок в этом мире, он задыхается, у него кружится голова, он начинает бредить – и вот уже кадр находит на кадр, все смешивается и ничего не разобрать. А машины стучат, гремят, хрипят все громче и громче.
Фильм Конера – совсем в другой манере. Это попытка создать сатиру на голливудскую кинопродукцию с ее осточертевшими всем стандартами, имитирующими динамику сюжетного развития. Отсюда и нарочито упрощенное название – «А Movie»…
Звучит бурная музыка. Идет отсчет: десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один… На миг появляется раздетая девица, и вдруг надпись: «Конец». Но это не конец, а начало фильма: вот уже скачут всадники – это уже нечто из ковбойского фильма. Индейцы атакуют поезд. Паровоз летит под откос. Мчатся автомо били. Сталкиваются. Опять катастрофа! Дирижабль в небе – и он взрывается. Всплывает подводная лодка – снова взрыв. Дальше – взрыв атомной бомбы. Подбитый самолет врезается в воду. Взрывается мост через реку. Идет бомбеяжа. Извергается вулкан. Мелькают кадры автомобильных и велосипедных гонок. Прыгают парашютисты. Кого‑то расстреливают. Кто‑то убил слона. Снова взрыв бомбы…
И так весь фильм. Монтаж сделан довольно умело – он создает ощущение острого ритма. Иной раз начинает казаться, что перед тобой и впрямь какой‑то приключенческий боевик, ты невольно ищешь развития сюжета, но вдруг чувствуешь на себе холодный, иронический взгляд Конера: разве ты не видишь, как бессмысленно все это нагромождение трюков, разве ты не понимаешь, как ловко одурманивают зрителя такой псевдоинтригой те, кто на голливудском конвейере пачками фабрикует подобные фильмы!..
Запомнился мне и вечер, проведенный со студентами кинофакультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе – они тоже показывали мне свои фильмы. Студенты учатся там три года, и за это время каждый создает примерно четыре фильма: один продолжительностью пять минут, второй – восемь, третий – двадцать и четвертый– тридцать минут. Такие жесткие лимиты должны приучать студента к необычайной лаконичности самовыражения. Попробуйте‑ка уложить в пять минут киносюжет, который имел бы определенный смысл и значение! Это отнюдь не такое простое дело, как может показаться.
Чаще всего студенты, среди которых весьма сильно увлечение манерой «подпольного кино», прибегают ко все той же полудокументальной манере. Наиболее значительным мне показался фильм студента Оберна под лихим названием «Зей, мама!» – о жизни бедного негритянского квартала Лос – Анджелеса, насмешливо именуемого «Венеция». Оберн работал над этим фильмом полгода, заснял огромный материал, но отобрал лишь наиболее выразительные кадры – показ его фильма длился всего двадцать две минуты.
В фильме отлично схвачены выразительные детали беспокойной жизни негритянского квартала: трудный быт, политические митинги, полицейские налеты, борьба… И еще любопытная, до этого не показанная па экране де таль: подкупленные властями люди отбирают наиболее послушных юношей и обучают их бороться с «радикальными элементами» – создается подобие отрядов штурмовиков из негритянской молодежи для борьбы с «черными пантерами».
А кто же мама, чьим именем назван фильм? Это старая нищая негритянка, которая с тоской и болью наблюдает за тем, что происходит в ее квартале…
Студенты весьма критически отзывались о «коммерческом кинематографе»; с уважением говорили о независимых постановщиках, которые позволяют себе говорить правду о сегодняшней Америке; говорили о том, что они часто приглашают к себе деятелей «подпольного кино» и смотрят их фильмы.
Наиболее интересным явлением конца шестидесятых годов в этом кругу мои собеседники из «гневного кинематографа» в Нью – Йорке, Сан – Франциско и Лос – Анджелесе считали создание нового течения под названием «Newsreel» («Кинохроника»). Дело в том, что кинохроника уже давно практически исчезла с экранов американских кинематографов, ее погубило телевидение. Теперь независимые постановщики воскрешают ее в новом виде – по их замыслу это должны быть острые, актуальные документальные фильмы. Во многом они вдохновляются идеями нашей «киноправды» двадцатых годов и особенно опытами Дзиги Вертова.
В декабре 1967 года в Нью – Йорке было проведено учредительное совещание деятелей «Newsreel», в котором приняло участие семьдесят независимых постановщиков. Было решено приступить к созданию целой серии актуальных фильмов, посвященных борьбе прогрессивных сил Америки. Уже снято около сорока таких фильмов. Среди них можно назвать двадцатиминутный «Марш на Пентагон», пятидесятиминутную ленту «События в Колумбийском университете», двадцатиминутный фильм «События в Чикаго».
Съемки фильма «События в Чикаго» проводились в наиболее трудных условиях: как помнит читатель, во время съезда демократической партии летом 1968 года мэр Чикаго Дэйли организовал зверскую расправу над демонстрантами, которые требовали, чтобы этот съезд принял прогрессивную программу, и в частности высказался за прекращение войны во Вьетнаме. Были искале-
чены десятки людей, кровь лилась потоками. И вот в самой гуще этой схватки самоотверженно работали тридцать кинооператоров – добровольцев, фиксировавших сцены этой зверской полицейской расправы. Кое‑кто из них пострадал от рассвирепевших «стражей порядка», но это не остановило деятелей «Newsreel» – они сняли свой фильм.
«Наши люди подготовлены к работе в трудных условиях», – сказал мне Йонас Мекас.
Ну, а что делал он сам? Продолжал осуществлять большой и сложный замысел, о котором он рассказывал мне еще весной 1967 года: готовил многосерийную киноповесть «Десять лет жизни Нью – Йорка». За эти годы он отснял уйму документального материала – его просмотр занимает пятьдесят часов. Из этого материала он отобрал эпизоды на десять часов показа, смонтировал их и разделил на шесть серий. Сейчас шло озвучивание этих фильмов [82]82
В январе 1970 года «Кинодневник» Мекаса был показан на фестивале в Нью – Йорке, и критика дала ему высокую оценку.
[Закрыть]. Хорошо было бы показать их по телевидению. Захочет ли какая‑либо компания взять эти фильмы? Кто знает! А пока что Йонас Мекас и его друзья продолжали свою трудную и сложную работу.
Готовя к печати второе издание этой книги, я прочел в сборнике «Мифы и реальность», опубликованном в 1971 году издательством «Искусство», обстоятельную работу Р. Соболева ««Подпольное кино» и Голливуд». Наша кинокритика не балует своим вниманием деятельность независимых американских постановщиков бунтарского толка, и работу Р. Соболева, одну из первых в своем роде, следует приветствовать. Ее автор, используя тот небольшой объем информации, которым он располагал, постарался дать читателю известное представление о творчестве деятелей «подпольного кино».
Меня несколько удивило только одно: явно предвзятое отношение к Йонасу Мекасу и его соратникам. Я далек от того, чтобы безоговорочно признать их эксперименты как последовательную и ясную реалистичную концепцию революционного кинематографа 70–х годов. Но творчество Мекаса и его единомышленников по крайней мере заслуживает внимательного анализа и поддержки в том, что нам представляется разумным и прогрессивным.
Между тем Р. Соболев, приемля лишь некоторые, весьма немногие, работы независимых постановщиков, полностью отметает как не заслуживающее внимания творчество большинства из них, а «программу Мекаса» объявляет «эклектичной и откровенно реакционной в своем существе» и к тому же называет этого человека «путаником» и «не очень удачливым эмигрантом».
Видимо, Р. Соболев не имел возможности познакомиться с творчеством Йонаса Мекаса. Он лишь весьма туманно и во всяком случае голословно отмечает, что Мекас «выступал и как постановщик, однако не очень удачно: его фильм «Оружие деревьев» всегда попадает в перечисления, но явно не вызывает у критиков желания вести большой разговор».
Ну, а как же оценить в таком случае «Бриг», о котором я подробно рассказал читателям, но о котором Р. Соболев предпочитает не упоминать? Как отнестись к киноповести Мекаса «Десять лет жизни Нью – Йорка», о которой этот критик также не считает нужным упомянуть? Его внимание привлекли статьи Мекаса в журнале «Филм калчер»; они содержат немало спорных положений, с какими мы не можем согласиться. Но разве не ясно, что о творчестве кинематографиста можно и нужно судить прежде всего по его фильмам?
Деятельность американского «гневного кинематографа» со всеми его положительными и отрицательными сторонами и даже извращениями еще ждет своего обстоятельного анализа. Я от души желаю Р. Соболеву и другим нашим кинокритикам поближе познакомиться с творчеством деятелей, принадлежащих к этому направлению, и глубоко и всесторонне его проанализировать.
Февраль 1969. У Стэнли Крамера
Мы приехали на кинофабрику «Коламбия» около полудня. Стэнли Крамер уже стоял посреди крохотной приемной своего офиса, окруженный помощниками, и нетерпеливо поглядывал на часы. Весь сугубо рабочий вид его напоминал о том, что он только что с работы и опять торопится на работу: пиджака нет и в помине, какая‑то ярко – желтая шерстяная рубаха без галстука, светлые, видавшие виды рабочие брюки. Ему уже далеко за пятьдесят– он родился в Нью – Йорке в сентябре 1913 года, волосы серебрятся, но глаза удивительно молодые, задорные, лицо загорелое, фигура по – спортивному подтянутая, походка легкая, стремительная, и весь он в движении, динамичный, пытливый, каждую минуту что‑то ищущий.
Вот и сейчас, едва успели мы пожать друг другу руки и направиться в тесную столовку «Коламбии», чтобы наскоро позавтракать («Быстро! Быстро! – командовал Крамер. – Мы торопимся.»), как на меня обрушился град точных и ясных вопросов: коль скоро довелось встретиться с политическим обозревателем, неутомимый постановщик таких сугубо политических фильмов, как «На берегу», «Нюрнбергский процесс» пли «Корабль дураков», спешил разузнать, что нового на парижских переговорах по Вьетнаму; каковы перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке – неустойчивое положение в этом районе мира очень беспокоит Крамера; что я могу рассказать о событиях в Чехословакии – ведь до Калифорнии доходит так мало объективной информации о том, что там происходит!..
Стэнли Крамер умеет расспрашивать и умеет слушать, он как губку выжимает своего собеседника, и, пока мы добираемся до проблем кинематографии, торопливые официанты успевают принести кофе. Но наш пытливый собеседник, кажется, уже не столь торопится, как в начале нашей встречи. Его ждут в другом месте? Ну что ж, пусть подождут; в конце концов встречи с москвичами в Голливуде не так уж часты, и по такому поводу можно позволить себе чуточку отклониться от строгого дневного графика…
Итак, мы переходим наконец к вопросам кинематографии. Крамер опять‑таки расспрашивает: что делает Герасимов, чем занят Чухрай, что нового у Юткевича. Он с удовольствием вспоминает о поездках в Советский Союз, особенно о памятном и дорогом ему показе картины «На берегу» в Московском Доме кино; говорит о советских фильмах, которые ему довелось повидать. Я рассказываю Крамеру о работе Карасика и Шатрова «Шестое июля» – она его живо заинтересовывает. Потом он вдруг задумывается и говорит: «Вот еще великолепная тема для кинематографа – мужество защитников Ленинграда. Какой великолепный фильм можно было бы снять!..»
Ну а чем же занят сейчас сам Стэнли Крамер? Он говорит об этом сжато:
– Заканчиваю комедию – драму «Тайна Санта – Витто-рии». Это интереснейшая история о том, как гитлеровцы, прослышав, что в древнейшем итальянском городке хранится миллион бутылок отличного вина, посылают туда свой отряд. Злые на фашистов крестьяне прячут это вино. Происходит своеобразная эпическая дуэль между тевтонской волей и острым разумом латинян, которые за две тысячи лет наловчились бороться с безумием диктаторов. Это драма, но это и комедия, повествующая о причудливых человеческих слабостях. Фильм раскроет и то хорошее, и то плохое, что есть в человеке. Я надеюсь, что он вызовет у зрителя улыбку, но и заставит его вздыхать…
Помощники Стэнли Крамера говорят о его новом фильме более словоохотливо; постепенно втягивается в беседу и он сам, и вот уже вырисовывается интереснейшая история.
В основе фильма лежит подлинный факт. Действительно, в самые последние дни войны гитлеровцы пронюхали, что в североитальянском городке Санта – Виттория, где находится, между прочим, штаб – квартира знаменитой монополии «Чинцано», снабжающей весь мир своими аперитивами, сохранились огромные запасы вина – миллион бутылок! Гитлеровцы попытались захватить их, но жителям городка во главе с мэром – хитрецом удалось ловко припрятать это вино и, что называется, обвести гитлеровцев вокруг пальца.
Об этом узнал американский литератор Роберт Криш-тон. Он посвятил «Тайне Санта – Виттории» статью в одном журнале. Статья имела успех у читателей. Тогда Криш-тон сообразил, что это в сущности тема для интересного романа и засел за книгу. Литератору, напавшему, что называется, на золотую жилу, необычайно повезло: его роман в течение долгих сорока недель был бестселлером № 1 Америки – это означает, что он пользовался наибольшим спросом в книжных магазинах.
Роберт Криштон, естественно, не ограничился в своем романе механическим воспроизведением фактов, приключившихся в столице аперитивов «Чинцано» четверть века тому назад. Этот пыльный индустриальный городок в его воображении превратился в древнее античное селение, затерянное где‑то в горах; хорошо зная итальянцев, автор создал колоритные литературные типы; была задумана увлекательная фабула. И вот когда в 1966 году его книга попалась на глаза Стэнли Крамеру, искавшему сюжет для очередной кинопостановки, он сразу же твердо решил: это будет фильм об увлекательной баталии между хитрыми и ловкими жителями Санта – Виттории и волевыми и жестокими тевтонами Гитлера!
Огромная машина хорошо слаженного творческого коллектива Крамера немедленно завертелась. Корпорация «Юнайтед артисте» дала свое благословение, взявшись организовать прокат будущего фильма. Сценаристы Вильям Роуз и Бен Мэддоу, вооружившись романом Криштона, уселись сочинять сценаршь Верные помощники Крамера Иван Фолкман и Роберт Клэтворси тем временем колесили по Италии в поисках крохотного провинциального городка, который был создан воображением писателя, – подлинная Санта – Виттория была немедленно отвергнута ввиду абсолютной нефотогеничное™ этой «столицы Чинцано».
Надо было найти старый – престарый городок. Требовалось, чтобы он стоял на крутой горе. И чтобы посредине его была крохотная площадь, вымощенная булыжником – асфальт испортил бы все впечатление. И чтобы в центре площади был какой‑нибудь древний наивный фонтан. И чтобы стояла на этой площади старинная публичная уборная – писсуар.
Фолкман и Клэтворси осмотрели и отвергли сто шестьдесят пять городков. Когда же они набрели наконец на Антиколо Коррадо, который, кстати сказать, находится всего лишь в тридцати шести милях от Рима, совсем рядом с его знаменитым киногородом «Чинечитта», где мог создать базу своих съемок Крамер, решение было принято сразу же и бесповоротно: снимать здесь, и только здесь!
В Антиколо Коррадо, крохотном городке, который гнездится на своей крутой горе уже около двух тысяч лет, нашлось все: и характерные средневековые улочки, и крохотная булыжная площадь, и даже фонтан с наивной каменной черепахой, изо рта которой сочится струйка воды. Но самое интересное было то, что великое множество темпераментных жителей этого городка удивительно напоминало своим обликом героев романа Криштона, и подобрать участников массовых съемок здесь не составляло никакого труда. Крамер с энтузиазмом одобрил выбор своих неутомимых гонцов.
Тем временем сценаристы закончили свою работу. Основные сюжетные линии были уже ясны.
Война идет к концу. Измученные жители затерянного в горах итальянского городка с затаенной надеждой на лучшее ждут перемен. Вдруг в городок буквально врывается молодой студент Фабио и объявляет всем – всем-всем, что Муссолини уже повесили. Бурный взрыв радости. Сапожник Баббалуче учиняет охоту за местными перетрусившими фашистами.
Пьянчуга Итало Бомболини [83]83
Его великолеппо играет популярнейший актер Антони Куин (это его шестьдесят восьмой фильм!).
[Закрыть], знаменитый на весь городок своими шумными скандалами с непреклонной женой Розой [84]84
В этой роли снялась Анна Маньяни.
[Закрыть], которая содержит жалкий кабачок и кормит его на свои скудные доходы, учиняет по случаю победы попойку с приятелями. Разгоряченный вином, он чудом взбирается на древнюю водонапорную башню и соскабливает написанный на ней лозунг, прославлявший Муссолини.
Толпы людей собираются вокруг башни: черт побери, он это лихо сделал! Но как Итало спустится? Его дочь Анджела умоляет Фабио выручить отца из беды. Студент взбирается на башню и спасает Бомболини. Все приветствуют их обоих. Раздаются крики: «Бомболини – в мэры!» В мэры?! А почему бы и нет?.. С этого поста только что согнали фашиста. А кто его заменит? В такое неопределенное время никто не зарится на сей пост – кто знает, как еще обернутся события. И вот уже пьянчуга Бомболини – мэр!
Как в воду глядели обитатели Санта – Виттории! Не успели они порадоваться вести о казни Муссолини, как вдруг всеведущий студент Фабио приносит тревожное известие: в их крохотный городок едут гитлеровцы. Да, они все еще хозяйничают в Италии, черт бы их побрал! И их командование, узнав, что в этом пыльном старом городишке хранится миллион бутылок доброго итальянского вина, шлет сюда за ними небольшой отряд под командованием прусского офицера Сеппа фон Прума [85]85
Его роль прекрасно играет известный западногерманский артист Крюгер.
[Закрыть]. Пусть война проиграна, но немецкие генералы хотят прихватить это вино с собой.
Но вино для жителей Санта – Виттории – не только утеха. Оно – единственный источник средств к их существованию. Отдать миллион бутылок пруссакам за пять минут до их полного разгрома и остаться нищими? Ну нет, не на таких напали! И тут начинается полная искрометного юмора хитрая игра латинян с тевтонами. Я не в состоянии изложить здесь все ее перипетии – для этого понадобилось бы пересказать сценарий; скажу только, что объединенными усилиями автора романа, сценаристов и самого Крамера воссоздается поистине увлекательная и в то же время весьма нравоучительная история.
В центре событий – Итало Бомболини, которого еще вчера никто не принимал всерьез, который вечно был объектом всеобщих насмешек, которого постоянно колотила его воинственная жена и который вдруг в силу стечения обстоятельств оказался во главе городка как его мэр – теперь именно ему предстоит вести дела с волевым прусским офицером! И вот, представьте себе, в этой парадоксальной, можно сказать, заведомо проигрышной ситуации Бомболини разительно меняется. Бомболини видит, что он нужен людям; больше того, они ждут от него какого‑то чуда, которое спасет городок от окончательного разорения. И тут оказывается, что в душе этого смешного пьянчужки до поры до времени дремала большая человеческая сила.
Ему помогают все. Студент Фабио даже добыл для Бомболини труды Макиавелли, и тот, читая их, тихонько вздыхает: «Ах, Никколо Макиавелли! Вам бы быть мэром, а не мне. «Человек, который правит, – пишете вы, – должен добиться того, чтобы народ и любил его, и боялся». До чего же правильно!.. Но как этого добиться?» Приятель Бомболини сапожник Баббалуче дает свои советы. И даже суровая жена Роза несколько смягчается: а вдруг из этого негодника выйдет толк? И представьте себе, толк выходит! Капитан фон Прум оказывается бессильным перед целым сонмом итальянских хитрецов, которые под руководством Бомболини умудряются так запрятать вино в древней пещере римлян, что отыскать его невозможно.
Между прочим, поразительная сцена, когда полторы тысячи жителей городка, выстроившись вдоль извилистых улочек, сбегающих с горы к виноградникам, передают из рук в руки миллион бутылок с драгоценным вином, чтобы укрыть их в тайниках, обещает стать одним из самых впечатляющих моментов фильма – Крамер говорит, что жители Антиколо Коррадо так вошли в свои роли, что играли не хуже заправских артистов…
Капитан фон Прум поначалу пытается задобрить жителей городка и их мэра – работает, так сказать, в бархатных перчатках. Он считает, что с ними надо обращаться как с детьми – твердо, но вежливо. Поэтому, когда один солдат избивает студента Фабио, капитан наказывает его. Бомболини и его избиратели на улыбки отвечают улыбками; местная молодая помещица – графиня Катерина Малатеста [86]86
Эту роль играет итальянская кинозвезда Вирна Лизи.
[Закрыть] по просьбе мэра даже флиртует с прусским офицером, между прочим, она находит это даже забавным. «Как‑никак, – они принадлежат к общему классу», – гласит ремарка в сценарии. Но вино… Вино остается вне досягаемости злосчастного капитана!
И вот в городок мчится на машине разъяренный полковник войск СС Шир в сопровождении своих заплечных дел мастеров. Капитан фон Прум растерянно докладывает, что ему удалось найти всего лишь несколько тысяч бутылок – это все, что передал ему мэр. Но миллион бутылей… Миллион! Где он? Найти немедленно или… Всем известно, что может случиться, когда эсэсовцы говорят «или». Все же Бомболини и его друзья и в этой коллизии не теряют присутствия духа. Поединок тевтонской воли и латинского ума продолжается!
Капитан фон Прум, отбросив бархатные перчатки, прибегает к более сильным приемам: он предъявляет несчастному Бомболини ультиматум: миллион бутылок вина должен быть сдан не позднее, чем через тридцать шесть часов. Если этого не произойдет, эсэсовцы учинят расправу с городком.
Бомболини опять клянется и божится, что в городке пет больше ни капли вина. Он твердит это даже тогда, когда эсэсовец приставляет пистолет к его голове. В эту минуту даже его непреклонная жена пропикается уважением к нему. Правда, для вида она все еще ворчит: «Почему эти идиоты приставили пистолет к твоей голове? Ведь всем известно, что твои мозги в голове у нашего осла!» Но внутренне Роза уже гордится своим мужем.
А он и в самом деле мужик не промах: когда эсэсовцы требуют, чтобы он дал пм заложников, Бомболини с готовностью отдает им в руки… двух фашистов, от которых жители городка, конечно, скрыли тайну местонахождения миллиона бутылок вина. Эсэсовцы избивают этих заложников, но ничего выпытать у них не могут.
Происходит еще превеликое множество самых разных событий и приключений, но всему приходит конец, и для гитлеровцев, конечно же, это несчастливый конец – им так и не удается раскрыть тайну Санта – Виттории. Уже слышится грохот пушек, линия фронта приближается, вермахт отступает, и незадачливые искатели виппого сокровища вынуждены покинуть городок. В последнюю минуту капитан фон Прум снова грозит Бомболини пистолетом. Но мэр только улыбается: все‑таки победил – то он! Й Бомболини щедро протягивает прусскому капитану бутылку вина. Одну бутылочку от своих щедрот!
– Вы уверены, что можете обойтись без нее? – озадаченно спрашивает капитан. Бомболини кивает головой.
Гитлеровцы обращаются в бегство. Весь город танцует, гордый своим удивительным мэром, которого еще вчера все считали никчемным пьянчужкой, но который на глазах у всех вдруг превратился в героя…
Вот и вся история, которую на сей раз решил показать на экране Стэнли Крамер, точнее сказать, основная сюжетная линия этой истории: ведь в фильме есть и другие, густо переплетающиеся; достаточно сказать, что в нем тридцать два действующих лица, не считая участников массовых сцен.
Сто один день снимал свою картину в Италии Стэнли Крамер – с 10 июня по 15 октября 1968 года, причем три четверти съемок были произведены на натуре. В этих съемках было занято около двухсот человек – артисты, операторы, техники. Работа была весьма нелегкая, тем более что жители Антиколо Коррадо, прослышав, что в их городке будут снимать фильм, твердо решили как следует заработать на этом деле. И тут началась вторая битва латинских хитрецов – на сей раз уже не с тевтонской волей, а с англосаксонским практичным умом.
– Они быстро смекнули, что мы твердо решили снимать свой фильм только здесь, – говорит смеясь один из помощников Крамера, – и что у нас нет путей к отступлению. Стало быть, можно запрашивать умопомрачительные деньги за всякую безделицу. Нам пришлось заключить пятьсот контрактов, предусматривавших возмещения самого разного сорта: за право вести съемки под окнами приглянувшегося нам средневекового дома; за нарушение нормальной деятельности городского рынка; за шум, беспокоящий жителей, и так далее и тому подобное.
Наиболее изобретательным оказался владелец газетного киоска на городской площади. По ходу съемок потребовалось замаскировать его киоск и поставить перед ним декорацию писсуара. Владелец киоска бурно выразил свое негодование и заявил, что он не снесет такого оскорбления, если ему не уплатят тысячу шестьсот долларов.
– Пришлось уплатить, – грустно заметил Крамер.
Но сейчас все большие и малые хлопоты и треволнения уже позади – съемки полностью завершены. Здесь, в лабораториях «Коламбии», идет монтаж фильма; к сентябрю все будет закончено…
Как впишется этот новый фильм в общую картину современной американской кинематографии? Стэнли Крамер задумывается, потом говорит:
– Если говорить о форме, то сейчас в американском кинематографе господствуют два течения: полудокумен-тальные фильмы, основанные на подлинных событиях, и кинорассказы. Если говорить о содержании, то преобладают фильмы, так сказать, критического характера, показывающие негативные стороны человеческой души, ее слабости, пороки. Все черным черно!.. Позитивные фильмы, показывающие, что в трудных обстоятельствах даже самый заурядный с виду человек, в котором до поры до времени где‑то внутри дремали никому не известные силы, может оказаться подлинным героем; такие фильмы делать куда труднее, но, по – моему, это необходимо. Сознавая эту необходимость, я и взялся за создание своего фильма о Бомболини…
Крамер помолчал и добавил:
– Я считаю очень важным донести до людей средствами кинематографа суть главнейших проблем и тенденций в современном революционном мире. А в том, что нынешний мир – революционный, сомнений никаких нет. Цель кинематографа – помочь людям стать лучше. Но задача эта – не простая. Нам надо учиться правильно показывать те события, свидетелями которых мы являемся. Кстати, можно сказать, что в последнее время американское кино все больше отражает именно реальную жизнь. Другое дело – какие черты реальной жизни выдвигаются при этом на первый план…
Речь заходит о творческих приемах современного кинематографа, о проблемах формы и новомодных творческих течениях. Оставаясь смелым новатором в вопросах содержания своих фильмов, Крамер не принимает слишком близко к сердцу те постоянные споры и дискуссии о форме и формализме, которые лишают сна многих кинематографистов. Он остается убежденным реалистом, и с этой позиции его не сбить, хотя в своих фильмах, конечно в полной мере, использует творческие находки современного кино, новинки съемочной техники и т. д.