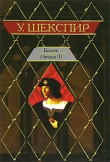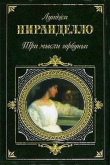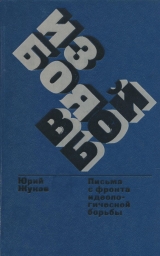
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 45 страниц)
«16 часов. Я нахожусь в центре Крымского моста – набережная Сены, угол набережной Уазы, Париж, 19. Отсюда я бросаю в Сену в свободном падении свинцовую табличку, воспроизведенную ниже». Подпись: «Жина Паж» (та самая, что пробует свои силы и в «искусстве тела», о чем я писал выше). Дата: «29. IV. 1971».
Ниже была помещена скверно сделанная фотография с таблички, на которой было написано: «Вода. По – латински «аква». Жидкость без запаха, без цвета, прозрачна, когда она чиста. Состоит из одного объема кислорода и двух объемов водорода (Н2О)».
Еще ниже рамочкой было ограничено пустое место, которое, как было сказано в подписи, «резервировано для документа, касающегося акта, совершенного Жиной Паж». И это все!
Неподалеку отсюда я увидел другой, с позволения сказать, экспонат «художника», подпись которого была неразборчива. Этот автор, пожелавший остаться неизвестным, выставил листок с таким текстом, написанным от руки, – воспроизвожу его также полностью:
«Вариации облаков Гипотетическое облако № 490 Гипотетическое облако № 490 Гипотетическое облако № 491, I Гипотетическое облако № 49 Гипотетическое облако № 491, II Гипотетическое облако № 492
Гипотетическое облако № 493
Гипотетическое облако № 494
Постскриптум. Я не смог напечатать это на машинке, так как (?!) я хотел бы иметь хорошую машинку, чтобы это сделать».
Третий «художник» небрежно набросал на полочке, прибитой к стене, смятые использованные билеты метро, пакеты из‑под сигарет, спичечный коробок и прочий мусор.
Люди подходили к этим экспонатам, внимательно их разглядывали, пожимали плечами и уходили. «Искусство концепций» еще не было в достаточной мере распропагандировано в прессе, в путеводителе не сообщалось никаких пояснений, и понять что к чему было трудно.
К осени этот пробел был восполнен. Газеты и журналы посвятили «новому слову художников» пространные статьи, готовя зрителей к встрече с «искусством концепций» на Парижской Бьеннале молодых художников, где оно должно было занять уже центральное место. Более того, в объемистом путеводителе по Бьеннале содержались обстоятельные пояснительные статьи специалистов, которые должны были помочь зрителю разобраться в увиденном.
Увы, все эти пояснения не сделали это «новое слово художников» хоть сколько‑нибудь понятнее. Судите сами.
Вот экспонат, выставленный на Бьеппале группой «Искусство – язык» («Art language group»), – в ее состав входят четверо американцев: Аткинсон, Бэйнбридж, Болдуин, Харрел. Пояснение гласит: «Карта того, что не показано, 1966 год». Перед вами – большой белый прямоугольник. На нем – в двух местах очерчены тонкой линией контуры штатов Айова и Кентукки. А внизу аккуратно отпечатанная справка: «На карте не показаны Канада, Джеймс – бей, Онтарио, Квебек, река Святого Лаврентия, новый Брауншвейг, Манитоба, Акимиски – айленд, озеро Виннипег, озеро Вуд, озеро Нипигон, Верхнее озеро, озеро Гурон, озеро Мичиган, озеро Онтарио, озеро Эри, Мэн, Нью – Гэмпшир, Массачузетс, Вермонт, Коннектикут, Род – Айленд, Нью – Йорк, Нью – Джерси, Пенсильвания, Делавар, Мэриленд, Западная Вирджиния, Вирджиния, Огайо, Мичиган, Висконсин, Миннесота, восточные границы Северной Дакоты, Южная Дакота, Небраска, Кан зас, Оклахома, Техас, Миссури, Иллинойс, Индиана, Теннеси, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Флорида, Куба, Багамские острова, Атлантический океан, Мексиканский залив, проливы Флориды…»
Следующий экспонат. Житель Нью – Йорка Роберт Барри выставил листок бумаги, на котором напечатан на машинке по – английски следующий текст:
«Это меняется.
Это в порядке.
Это разнообразно.
Это затрагивает другие вещи.
Это затрагивается другими вещами.
Это не должно иметь своего определенного места.
Это не должно иметь своего определенного времени.
Границы этого не определены.
Это может пройти незамеченным.
Часть этого является также частью чего‑то другого.
Кое‑что из этого привычно.
Кое‑что из этого странно.
Кое‑что из этого неизвестно.
Зная это, меняешь это.
Знать это – значит быть частью этого.
Роберт Барри, 1970».
Все! Чувствуете, какая глубина творческого замысла? Ощущаете силу и мощь идеи, которую автор вынашивает в своем мозгу? Нет? Тем хуже для вас! Критика уже превознесла «концепцию» Роберта Барри до небес, и она вот уже два года кочует с выставки на выставку…
А вот произведение «искусства концепций», представленное на Бьеннале англичанином Виктором Баргайном. Оно несколько отличается по форме от того, что показали его американские коллеги. «Концепция» называется «Рассказывающая вещь». Перед вами – фотография: стол с лампой, на нем лист бумаги, стул. И текст: «Достав из выдвижного ящика тряпку, девушка смахивает со стола несколько капель пролитого кофе. Потом она задвигает ящик».
Рядом – вопросы к зрителю:
1) Что вы знаете об этом повествовании?
2) Что вы знаете об этой фотографии?
3) Каков критерий, с помощью которого вы можете решить, что аспекты первого вопроса аналогичны или свя заны или могут быть поставлены в контекст с аспектами второго вопроса?
4) Ваши выводы из 1–го и 2–го на основе 3–го?
Другой англичанин, Мел Рамсден, не утруждал себя придумыванием таких загадок. Он просто выставил квадрат из лощеной черной бумаги, а рядом поместил справку: «Гарантия. Размеры этого произведения живописи – 20Х Х20 дюймов». И подпись: «Гарантированное произведение невизуального искусства».
Многие представители «искусства концепций» обращаются к посетителям выставки не только с умозрительными вопросами. Они пытаются втянуть их в активные действия, но навязываемые ими людям действия столь же бессмысленны, как и обращенные к ним вопросы. Некий Адриан Пайпер из Нью – Йорка, например, распространял среди посетителей выставки листовку с таким названием: «Парижское предложение для Бьеннале». Предложение состояло в следующем (оно было обращено, как уточнял Пайпер, к «худощавым индивидуумам»):
«1) Напихайте как можно больше тканей под щеки – до тех пор пока они не станут полными и круглыми.
2) Привяжите большие подушки вокруг бедер и за ягодицами, укрыв их под пальто.
Двенадцать не связанных между собой индивидуальных добровольцев должны сделать указанные выше изменения в своем внешнем виде на протяжении Бьеннале. Они должны, претерпев эти изменения, продолжать исполнять нормальную деятельность и функции своей повседневной жизни без перерыва.
Пусть они постараются совладать со всеми неожиданностями, которые могут случиться в результате изменений, по мере того как они будут происходить.
Адриан Пайпер
Июль 1971».
Большой раздел Бьеннале был посвящен особой разновидности «искусства концепций» – «приобщению к искусству методом почтовых посылок». Как было разъяснено в путеводителе, «речь идет об использовании почты в эстетических целях». В своей работе «Связь па расстоянии и эстетический объект» критик Жан – Марк Пуансо напомнил, что еще Марсель Дюшан в 1916 году посылал своим друзьям, жившим в том же доме, по почте открытки с загадочным текстом, смысл которого было трудно уловить: в этом тексте содержались намеки на пластические и символические элементы начатой им в 1915 году работы «Невеста, раздетая до гола холостяками».
Далее Пуансо сообщал, что в 1962 году Рэй Джонсон основал в Нью – Йорке «Школу художественной корреспонденции» – он посылал друзьям, художникам, критикам и просто неизвестным лицам «предложения для почтового события» («Des propositions pour un evenement postal»), и они участвовали в этом «событии», отвечая ему или же отправляя посылки и информации новым получателям. Эта необычная школа объединила несколько сот человек.
Аналогичной деятельностью занималась международная группа «Флюксус», созданная в сентябре 1962 года, – ее целью также была организация «художественных событий», когда, например, участники группы вдруг засыпали своими посланиями и посылками редакцию какого‑либо журнала.
Художники этого течения утверждают, что их деятельность выражает борьбу за освобождение искусства от «принуждений коммерческой системы», поскольку‑де использование почты дает возможность прямого контакта с публикой, минуя музеи, картинные галереи и торговцев картинами. «Художник сам избирает своего получателя – без всяких посредников», – говорят они.
На первый взгляд может показаться, что люди эти задумали благое дело: во – первых, они затевают движение протеста против отвратительной коммерциализации искусства, которая буквально губит все живое в искусстве на Западе, а во – вторых, пытаются заинтересовать участием в своего рода художественной самодеятельности широкие массы любителей.
У входа на Бьеннале людям раздавали такое, например, обращение, сочиненное художником Тоба: «Вообразите, что вы художник! Да, вы художник, а я зритель. Шлите мне запечатленные па обороте этой открытки ваши проекты, концепции, формы, цвета, настроения, идеи, думы, зависти, ненависти, то, чего вы не любите… Искусство – это решение!» Далее следовал адрес.
Другой художник, Алекс Млынарчик, предоставил в распоряжение посетителей выставки пять тысяч листов бумаги, приобретенных им за свой счет, с призывом заполнить эти листы как им заблагорассудится – записями или рисунками – и опустить в почтовый ящик – для него.
В распоряжение публики были предоставлены открытки, вопросники, телефон, почтовые марки. Посетители могли дать список адресов для рассылки своих «произведений», которые тут же размножались специальным аппаратом. Большая афиша гласила: «Принимаются любые формы участия при условии, что для распространения представленных произведений будет использоваться почта».
Я внимательно познакомился с этим разделом Бьеннале, осмотрел выставленные на стендах «эстетические объекты, полученные с использованием связи на расстоянии», порылся в грудах листов, испещренных рисунками и записями посетителей выставки, но так и не нашел ни одной, хоть сколько‑нибудь заслуживающей внимания «концепции». И здесь, как и в районе «классического» «искусства концепций», над всем доминировало пустое трюкачество.
Чего стоит хотя бы такая придумка тридцатичетырехлетнего парижанина Дова Эрнера: он рассылает по множеству адресов совершенно неизвестным ему людям конверты, на которых напечатано: «Получателя просят не вскрывать пакет, а на протяжении года регулярно смотреть на него и фиксировать на бумаге свои мысли о возможном (!) его содержании. Затем отправить эти записи художнику»…
Да, пустовато на душе у пресловутого «западного мира», который так кичится псевдосвободой своего искусства – ему‑де вольно кувыркаться как вздумается. На поверку, если вдуматься, эта тотальная «свобода» свидетельствует лишь об одном: о безмерном пренебрежении к судьбам искусства, о полном отсутствии заботы о душевном здоровье народа и, наконец, о глубоком, затяжном кризисе духа всей буржуазной системы.
В этой связи мне хотелось бы воспроизвести здесь весьма поучительный диалог между одним из ведущих французских буржуазных критиков, Андре Парино, и академиком Рене Хюижем, опубликованный в парижском журнале «Ла Галери» в октябре 1971 года. Ни того ни другого отнюдь нельзя заподозрить в левизне политических воззрений. Рене Хюиж, в частности, счел нужным подчеркнуть, что он считает «анормальным (!) явлением» тот факт, что в наше время «все люди», как он с раздражением выразился, «млеют от восхищения» перед идеями Маркса. Тем интереснее, что в нынешнем, катастрофическом по его оценке, состоянии западного искусства он видит материальное выражение общего кризиса современного буржуазного общества.
Итак, вот отрывок из диалога Андре Парино и Рене Хюижа, опубликованного в журнале «Ла Галери» под красноречивым заголовком «Об умерщвлении искусства».
«Андре Парино. Уже несколько лет мы являемся свидетелями весьма курьезного феномена: выставляются произведения – которые, впрочем, иногда даже не называют произведениями – людьми, которые часто отказываются от того, чтобы их называли художниками. В «Салоне молодой живописи» рядом с кучей кирпичей я видел окурки, валявшиеся на полу. За четверть часа до открытия сторож вымел их метлой, думая, что это мусор. Обнаружив исчезновение своего произведения, его автор – я не осмеливаюсь сказать – художник – буквально взорвался от бешенства.
Рене Хюиж. Он был неправ, потому что теперь, когда произведений искусства больше не существует, жест подметалы был, быть может, новым актом художественного творчества…
Андре Парино. Подобные «формы выражения искусства», по – моему, свидетельствуют о глубоком кризисе. Верно ли это?
Рене Хюиж. Мы присутствуем при кризисе цивилизации. Искусство отражает наш кризис цивилизации… В этих условиях естественно, что «знаком» современного искусства является глубокое отчаяние, «пустота».
Андре Парино. Но ведь и в былые времена крупнейшие художники в определенный момент своей жизни испытывали тоску, тревогу, порождаемую ощущением непрочности жизни, смертью близких людей, мыслью об угрозе гибели цивилизации. Но почти всегда они преодолевали эту тревогу, и именно в процессе ее преодоления художник становился творцом. Сила творчества во все времена и во всех странах окрыляла людей. Почему же сегодня большая часть современных творцов – я не осмеливаюсь назвать их художниками – лишены этой воли и силы?.. Я спрашиваю себя, почему это происходит? Не потому ли, что цивилизация, разлагаясь, выделяет такую кислоту, которая разъедает душу творца?
Рене Хюиж. Я вам отвечу на это: кризис, который мы переживаем, – беспрецедентен. С ним может сравниться лишь переход человечества от палеолита к неолиту – от мира охотников к миру земледельцев…»
Буржуазный ученый Хюиж, признавая наличие этого острого кризиса, не в состоянии дать правильного объяснения его причин, истоков; ему кажется, что все дело… в технологии, во всем‑де виноват научно – технический прогресс. Благодаря открытию атома, уверяет он, люди «утратили контакт с реальностью».
«Наша эпоха – в тупике, – заявил этот академик, – нас ждет катастрофа, если мы не поймем, что этот тупик – материализм… Успехи физики, пауки о материи, вовлекли нас в область диалектического материализма». Хюижу кажется, что спасение может быть найдено лишь на пути возврата к идеализму, к поповщине, к мракобесию. Тут уж, конечно, не до судеб искусства – пусть оно провалится в тартарары, надо спасать рушащиеся устои системы.
Но как это сделать? Ни у академика Рене Хюижа, ни у его собеседника – искусствоведа Андре Парино ответа на этот «проклятый вопрос», естественно, не нашлось. Они смогли лишь констатировать, что сейчас происходит «умерщвление искусства».
Мне остается рассказать еще об одном новом течении в современном западном искусстве, которое также было весьма широко представлено на Парижской Бьеннале
1971 года; оно именуется гиперреализмом, что в вольном переводе означает «сверхреализм» или «реализм в квадрате». Огромный раздел, посвященный гиперреализму, был заполнен полотнами, па которых буквально с фотографической точностью воспроизведены человеческие лица, пейзажи, домашние интерьеры, детали машин, игрушки, паровозы, автомобильные шины, тюфяки – все, что как бы случайно попало в поле зрения художника и было походя запечатлено им.
С чисто технической точки зрения многие эти картины могли бы считаться шедеврами живописи – кисть работает виртуозно, воспроизводя каждый волосок и каждый прыщик на человеческом теле, каждую гаечку и каждую каплю масла па теле машипы. Идеально дано освещение, с абсолютной точпостью сохранены академические пропорции. Глядишь на картину и теряешься в догадках – то ли перед тобой работа живописца, то ли это отлично выполненная цветная фотография. Что сон сей значит? Откуда это поветрие дичайшего натурализма? Зачем художники растрачивают свои творческие силы на это механическое копирование действительности? Ведь они, судя по техническому совершенству их работы, люди незаурядного мастерства! Уж если они решили набраться мужества и противопоставить страшному бреду ультрасовременного сверхмодернизма возврат к реалистической манере, то зачем же, к чему им этот новый выверт – поворот к приземленному, плоскому, тупому натурализму?
Возрождение интереса к фигуративному искусству началось не сегодня и не вчера – я наблюдал его па выставках в Париже, Нью – Йорке, Лондоне, Риме и даже в Токио и десять, и двадцать лет тому назад, когда все больше художников начинало разочаровываться в абстрактных композициях. Шло оно зигзагами – то усиливаясь, то ослабевая. В конце 50–х годов шумное вторжение в выставочные залы поборников «поп – арта» и «новых реальностей» нарушило этот медленный процесс выздоровления искусства.
В какой‑то мере, однако, и эти новые веяния содействовали возрождению интереса к реалистической манере изображения: ведь и «поп – арт», и «новые реальности» требовали правдоподобного, хотя и сугубо натуралистического воспроизведения предметов, взятых из окружающей человека среды. И не случайно некоторые американские художники, увлеченные Раушенбергом, Уорхолом, Ольденбургом, Джаспером Джонсом на ухабистый путь «поп-арта», вдруг обрели вкус к реалистическим приемам живописи. В какой‑то мере переломный момент обозначился уже в шестидесятые годы, когда в музее Уитни в Нью-Йорке открылась «Выставка двадцати двух реалистов». Среди работ, представленных на этой выставке, выделялись мастерством исполнения «Сцены из деревенской жизпи» Алекса Колвилла – это были реалистически воспроизведенные сцены из жизни канадских лесорубов.
Но вот что бросилось в глаза тем, кто заинтересовался работами этих новых американских реалистов: они ста рательно подчеркивали свою полнейшую незаинтересованность в том, что ими было изображено. Явственно давало о себе знать какое‑то напускное бездушное равнодушие: художник лишь констатировал увиденное им – он ничему не радовался и ничего не осуждал, никого никуда не звал. Как будто и не было живого человека, который вглядывался в жизнь, стремясь воспроизвести увиденное на полотне, а просто стоял фотографический аппарат и автоматически щелкал, фиксируя увиденное.
Обо всем этом я невольно вспомнил, глядя на работы гиперреалистов, представленные осенью 1971 года на Парижской Бьеннале. Художники словно наперебой щеголяли друг перед другом своим формальным мастерством. «Поглядите на мой «Голубой фольксваген»! – как бы взывал американец Дон Эдди. – Чем это хуже цветной фотографии?» – «А моя автомобильная шина АТ-89? – как бы откликался швейцарец Петер Стампфи. – Неправда ли, я ее дал в отличном ракурсе?» – «Ну, а мой триптих? – как бы вмешивался колумбиец Сантьяго Карденас Арройо. – Живопись № 1 – Зонт! Живопись № 2 – Пиджак! Живопись № 3 – Стул!..»
Гиперреалисты изображают не только предметы, но и людей. Некоторые портреты исполнены ими поистине мастерски. Но везде и всюду дает о себе знать все та же подчеркнуто снобистская манера – полное отсутствие теплой, человеческой заинтересованности в изображаемом, холодная, безликая и бездушная повадка. Всем творческим подходом своим художник словно говорит зрителям: «Ну что вы ко мне пристали? Видите, я умею владеть кистью, и то, что я делаю, – ничуть не хуже фотографии. Ну, и будьте довольны этим…»
Этот наигранный снобизм злит и раздражает. И все же хочется вместе с редакцией парижского журнала «Ла Га-лери», который в общем расценил гиперреализм как положительное явление на общем безотрадном фоне современного западного искусства, приветствовать это «возвращение образа». «Вот иллюстрация явления, широко известного историкам искусства, – писал этот журнал в своем октябрьском номере за 1971 год. – Искусство развивается как чередование ударов и контрударов – движения приходят на смену одно другому, всякий раз отрицая и отбрасывая своего предшественника. После тотального отрицания реалистического изображения на полотне мы увидели даже попытки уничтожить само полотно – художники решили довольствоваться констатацией своего собственного бытия. И все же сегодня возвращается образ».
Не знаю, может быть, это чрезмерно оптимистичная оценка, сейчас еще трудно сказать, куда дальше пойдут гиперреалисты и найдутся ли среди них смельчаки, способные порвать путы натурализма и сделать решающий шаг вперед – к подлинно реалистическому искусству. И все‑таки хочется надеяться, что дело идет к этому. В конце концов на всем протяжении многотрудной жизни мирового искусства еще никогда и никому не удавалось убить его живую душу!
Пусть же бурлит на поверхности пена самых что нн на есть моднейших течений в литературе и искусстве, вскакивающих и лопающихся словно пузыри! Пусть снова и снова провозглашает присвоивший себе роль пифии сверхсовременного искусства Робб – Грийе, будто никто из современников не вправе судить о том, что они читают, видят и слышат, ибо квалифицированное суждение обо всем этом смогут вынести только наши потомки лет этак через двести! Пусть кувыркаются, словно рыжие у ковра, ревнители «антилитературы», «антитеатра», «антиискусства» и «антикинематографа»! Чем сильнее они кричат своими охрипшими от натуги голосами, тем лучше понимают люди их полнейшую внутреннюю пустоту.
Теперь даже буржуазная критика начипает признавать, пусть еще вполголоса и не так часто, что эта шумливая публика немногого стоит. Однажды, например, об этом откровенно написал в парижской газете «Фигаро» маститый литератор, выступающий за подписью Жермант:
«Я задумываюсь, – писал он, – над стремлением некоторых современных художников показывать нам внутренность своей игрушки, разрушая ее. Есть очевидное родство между «Золотыми плодами» писательницы Натали Саррот и «81/2» Феллини. Одна и другой избрали в качестве героя само произведение, которое они создают. Одна и другой смешивают при этом воедино заботы ремесла и критическую одержимость. Одна и другой достигают того предела, когда их чутье еще сохраняет свою силу, но внимание зрителя или читателя рискует утратить свою восприимчивость. Оба автора, наконец, разрушают понятие времени, на котором основано искусство и которым руководствовались их предшественники, писавшие светлые и прекрасные произведения.
Я хорошо помню, – продолжал критик «Фигаро», – как в предисловии к одной из первых книг Натали Саррот, «Портрет неизвестного», Сартр с ружьем в руке показал автору, как надо убивать роман: для этого надо подвергнуть время тлетворному распаду. Сартр так хорошо выстрелил в тот день, что он убил романиста в самом себе – от Сартра – романиста осталось лишь отдаленное воспоминание… Но послушная мадам Саррот по – прежнему посвящает осуществлению его указаний свой талант, который является бесспорным, и свой разум, живой и чувствительный. И вот теперь она протягивает нам свои «Золотые плоды», сверкающие в тумане. Это уже не поиски захватывающей жизпи любыми средствами… Это демонтаж самого ремесла художника, производимый у нас на глазах.
И что же дальше? Роман разрушен, образы фильма перепутались настолько, что уже невозможно распознать их смысл. Надо будет найти новые выражения, какую‑то детскую свежесть, чтобы истолковать жизнь или ваш сон», – грустно заключил Жермант.
Но проповедники «нового романа», «театра абсурда», «поп – арта» и безъязыкого «психологического кино» не унимаются. Они продолжают шуметь, поощряемые из‑за кулис все еще сильпыми хозяевами старого мира. Нужды нет в том, что книги, непонятные народу, не находят сбыта, что театры и кинематографы, где даются заумные представления, пустуют, что в галереях, где колом стоит затхлый воздух из выгребных ям, используемых как объект и субъект «нового искусства», хоть шаром покати! Всегда найдется щедрый меценат, который оплатит чеки и поддержит новомодное искусство.
Борьба продолжается. Это борьба между подлинным искусством, стоящим на службе человека, и псевдоискусством, враждебным человеку, между силами прогресса и силами реакции, между передовой идеологией нового мира и отсталой, но все еще сильной и опасной идеологией старого мира.
И пусть нас не обманывает внешне неуклюжая повадка, нелепое и смехотворное, на взгляд здорового человека, оперение модернизма, вырядившегося по последней моде.
Мы глубоко ошиблись бы, если бы сказали себе: все это чепуха, не заслуживающая внимания, это какие‑то стиляги от искусства.
Нет, перед нами опытный и ловкий идеологический противник, тем более опасный, что у него нет ни стыда, ни совести, ни принципов, ни моральных устоев, но зато есть много амбиции и наглости, умения выдавать черное за белое, грязь за сверкающую чистоту, бессмыслицу за вершину человеческой мысли.
Хочешь успешно бороться с врагом – хорошо узнай его! Этим старым правилом мы и должны руководствоваться, находясь лицом к лицу с чуждыми нам литературой и искусством старого мира.
Париж – Нью – Йорк – Лондон – Москва 1946–1972.