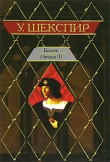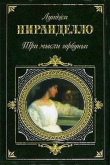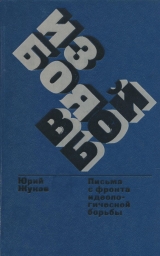
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
Еще отчетливее сия мрачная философия была выражена в третьей пьесе Ионеско – «Амадей, или Как от него из бавиться?». Подобно предыдущим его произведениям она изобиловала символами, которые надо было разгадывать, словно ребусы. Перед зрителями проходила фантасмагорическая история одной четы – Амадея и Магдалины Буччиниони, которым никак не удается убрать из своей квартиры труп соблазнителя жены, убитого ревнивым мужем. Поначалу могло показаться, что это полицейская пьеса дурного вкуса, не более. «Десять лет прошло, а ты бездействуешь, – попрекала Амадея его жена. – Ведь запах‑то начинает разноситься по всему дому». Но потом зритель начинал догадываться, что речь идет не о трупе, а о мертвом символе их умершей любви.
Амадей и Магдалина Буччиниони были бессильны избавиться от мертвеца, присутствие которого их буквально терроризировало. Труп все время рос, постепенно заполняя собою тесную квартиру Буччиниони, и само их жилище приобретало все более странный и отвратительный вид: между щелями паркета, на мебели, вдоль стен разрастались уродливые грибы, все покрывалось плесенью и грязью. Все мертвело, и люди задыхались в этой мертвечине.
Те же мотивы безысходности, бессилия человека перед своей судьбой пронизывали и последующие пьесы Ионеско. С произведениями этого писателя перекликались пьесы других драматургов, вместе с ним присвоивших своему мрачному театру громкое название «театрального авангарда». Сэмюэль Беккет, Жан Женэ, Артюр Адамов соперничали с Ионеско и друг с другом, изобретая каждый по – своему мрачный мир бессмысленных, безысходных кошмаров, в котором нет места творчеству, надежде, мечте, борьбе – всему тому, ради чего живет человек. У них нашлись последователи: Дэвид Кэмптон и Н. Симп-тон в Англии, кое‑кто в Западной Германии, Эзио д’Эррико и Дино Бузатти в Италии. Мода на «театр абсурда» перебросилась за океан – ее подхватили битники.
Общим знаменем, своего рода «творческим манифестом» «театра абсурда» довольно долго оставалась «Лысая певица» Ионеско с ее странным, рваным и алогичным языком, и нельзя не согласиться с критиком еженедельника «Экспресс» Женевьевой Серро, которая писала Ю октября 1963 года, что именно с «Лысой певицы» началось новое течение в западном театре, «фактически наиболее согласованное с изысканиями, свойственными «новому роману» и «абстрактной живописи»».
Ионеско, Беккет, Женэ, Адамов (на первом этапе своего творчества) и их последователи внесли на сцену новый язык, но в их интерпретации этот язык, как правильно подчеркивает Женевьева Серро, уже не средство выражения человеческой мысли, не ее инструмент, а «равнодействующая молчания». Их речь, по ее выражению, «продолжает жить на собственных руинах, напоминая о хрупкости существования человека. Она оголена до такой степени, когда слова, незаменимые как кровь, остаются последним прибежищем, последним оплотом после смерти». Потом уходят и слова, и тогда наступает клиническая смерть творчества…
Развивая эту мысль, уже упомянутый мною Бернар Пенго писал в мае 1964 года, что «монолог Беккета обязан своим движением, своей силой убеждения (?) постоянному стремлению рассказчика порвать с естественностью или, говоря точнее, оторвать язык от его естественной тенденции, раньше или позже, скорее или медленнее обрести необходимую опору в конкретном значении слова… Все искусство Беккета заключается в том, чтобы делать что‑то из ничего».
«Единственный смысл, который есть в этом, – пишет в свою очередь Жорж Батай, – заключается в бессмысленности, которая, по – своему, тоже имеет свой смысл, быть может, она является пародией на здравый смысл, но в конечном счете цель ее заключается в том, чтобы затемнить в нашем сознании мир значимого».
Наконец, еще одно определение, принадлежащее перу близкого к Беккету писателя Мориса Бланшо. В своей «Книге будущего» он размышляет о том, что произойдет, когда со смертью последнего писателя исчезнет литература: «Эру без слов возвестит не тишина, а отступление тишины, разрыв в ее молчаливой толще, и через этот разрыв к нам донесется новое звучание. Ничего серьезного, ничего шумного: едва слышный рокот, журчание, шепот, ничего не добавляющий к громкому городскому шуму, от которого мы, как нам кажется, страдаем. Его единственная особенность: он – непрерывен».
Вспоминая об этом странном пророчестве Мориса Бланшо, Бернар Пенго поясняет: «Этот непрерывный рокот, доносящий до пас странные слова – «холодные, без ин тимности и без счастья», которые, кажется, говорят что‑то, тогда как в действительности они, возможно, не говорят ничего, – это тот голос, который звучит со страниц романа Беккета «Моллуа»: анонимный, упорный, одновременно неистощимый и как бы мертвый. Его слышит сам Моллуа (герой этого абсурдного романа), голос проникает сквозь него и диктует ему такие слова: «Я ничего не говорил себе, но я слышал неясный гул, что‑то менялось в тишине, и я прислушивался, как животное, которое судорожно вздрагивает и притворяется мертвым»».
Бр – р! Хватит этих цитат – среди них чувствуешь себя словно в морге!
Идеологи буржуазного мира внимательно приглядывались к этим шумливым новаторам, взвешивая их действия: что это, действительно революционный бунт в театре или же очередная перелицовка старых идей с целью придать им более приемлемую внешность? Может быть, будет разумнее приручить этих бунтовщиков, ввести их в круг респектабельной публики, согреть их популярностью, сделать знаменитостями, озолотить их?
Чем дальше, тем яснее становилось, что «театр абсурда» вполне может занять свое место – и далеко не последнее! – в арсенале буржуазной идеологии. И если вначале в высшем свете глядели на его зачинателей как на опасных чудаков, которые могут выкинуть бог весть что, то уже во второй половине пятидесятых годов к ним начали относиться все более благожелательно и буржуазная критика стала прославлять их как людей, сказавших новое слово в искусстве.
Знаменательно, что первой ударила во все колокола американская театральная критика, причем для прославления «театра абсурда» был избран типично американский рекламный прием: премьера пьесы Беккета «В ожидании Годо» была дана… в каторжной тюрьме Сан – Квентин. Газеты сообщали, что заключенные бурно приветствовали эту странную пьесу, на всем протяжении которой ровно ничего не происходит – просто сидят у дороги бродяги и ждут какого‑то Годо. А кто такой Годо – бог, смерть, надежда на лучшее будущее, – никто не знает, в том числе и сам автор. «Если бы я знал, – заявил Бек-кет, – то написал бы об этом в пьесе». Автору ясно только одно: ожидание безвестного Годо означает «последнюю иллюзию» его героев, один из которых с тоской говорит: «Ничего не случается, ничего не происходит, никто ничего не делает, это ужасно». И все же герои, «ожидающие Годо», не желают пошевелить и пальцем, чтобы изменить свою судьбу.
Зачем? Все равно ничего не изменишь, ничего не добьешься, ни к чему не придешь! Погибнешь ты или еще протянешь какое‑то время на земле – это лишь дело случая, не зависящего от воли человека…
Такова была эта пьеса, более отчетливо, чем какая‑либо другая, подчеркивавшая главную идею творцов «театра абсурда» – идею бессмысленности сопротивления человека превратностям судьбы, бессмысленности борьбы за лучшее будущее. Естественно, что это была находка для буржуазных идеологов, и нетрудно понять, почему была начата столь бурная рекламная кампания в пользу «театра абсурда», который в одно мгновение стал «признанным» и «респектабельным». С этого момента его авторам уже не было нужды довольствоваться какими‑то театральными закоулками вроде «Ноктамбюля» – перед ними распахивались двери самых лучших театров Нью – Йорка, Парижа, Лондона.
В «бунтовщиках» узрели охранителей. Их принял в услужение капитал…
Это понял французский писатель Артюр Адамов, который поначалу вместе с другими ринулся в мир «театра абсурда», подчиняясь стойкому и сильному чувству протеста, – он хотел противопоставить вульгарному «бульварному театру» жесткий и острый театр грубой реальности. В предисловии к сборнику своих пьес, изданному издательством Галлимара в 1956 году, он так объяснил свой выбор: «Я увидел на улице, как один слепой просил милостыню; две девушки прошли мимо, небрежно оттолкнули его; они пели: «Я закрыла глаза, это чудесно…» И вот мне пришла в голову идея показать на сцене возможно более грубо и возможно более наглядно одиночество человека, отсутствие всяких связей между ним и обществом».
«Никто не слышит никого», «Мы потрясающе одиноки» – таковы были мотивы, которые Адамов и его единомышленники развивали в своем творчестве.
Но вот прошло несколько лет, и Адамов, вглядываясь в лица зрителей, понял, что «театр абсурда» не понятен тем людям, к которым он сам обращался, что он их не трогает, не волнует, что этот театр не разоблачает зла, не борется с ним, а загоняет его внутрь и вводит недуг в категорию мнимой закономерности. Адамов понял, что этот мнимобунтарский театр превращается в идеологическое оружие буржуазии. И он порвал с ним, круто повернув к реализму. Его разрыв с «театром абсурда» произошел в 1957 году, когда он создал социальную драму «Паола Паоли».
Затем Адамов написал пьесу «Весна 1871 года», посвященную Парижской коммуне, и сурово рассчитался со своими недавними попутчиками, сделав такое заявление:
«Я выступаю против театра Ионеско, против такого сорта произведений, которые будто бы критикуют буржуазию, но на самом деле предназначены лишь для того, чтобы удовлетворять ее интересы. Пьесы Ионеско нравятся буржуазной аудитории, ибо они говорят: «Посмотрите, ведь это мы! Как забавно!» А пьеса должна была бы им сказать: «Посмотрите, ведь это вы! Как ужасно!» Публика покидает театр довольная, что сумела принять шутку в свой адрес, в то время как ее должна была бы глубоко потрясти обнаженная перед ней правда…»
Новая пьеса Адамова «Весна 1871 года» была поставлена в молодом прогрессивном Театре имени Жерара Филипа, работающем в парижском пригороде Сен – Дени, – ему оказал необходимую материальную поддержку местный муниципалитет, в котором большинство принадлежит коммунистам. Публика, главным образом рабочие, тепло приняла эту пьесу, правдиво отразившую борьбу парижских коммунаров против кровожадных версальцев Тьера.
Этот участливый прием невольно заставил вспомнить о знаменитых «уик – эндах» Национального народного театра Жана Вилара в парижских предместьях, о которых я рассказывал выше. Больше того, если в ту пору аудитория активно поддерживала театр за то, что он выражал близкие и понятные ей общечеловеческие чувства и идеалы, то на этот раз, естественно, ощущалась радость и гордость рабочих тем, что вот нашелся же честный и смелый автор и нашелся боевой театральный коллектив, которые выступили в защиту классовых интересов пролетариата.
И вот что написал в те дни Артюр Адамов в статье «Моя метаморфоза», опубликованной 25 апреля 1963 года в еженедельнике «Франс – обсерватер». Эта статья похожа на исповедь, и я позволю себе привести ее здесь целиком как важный творческий документ:
«Вы просите меня объяснить, почему изменилась моя «концепция» театра, почему я оставил театр, именуемый «метафизическим», и начал защищать театр «злободневный», больше того, пытаюсь сам участвовать в нем. Причин такой эволюции много, а проанализировать их нелегко. Все же я попытаюсь это сделать.
Дело в том, что в один прекрасный день, точнее говоря, в то время, когда писал свою пьесу «Пинг – понг», на которую потратил два года, я начал серьезно задумываться над тем, что же я делаю. Я перечитал свои старые пьесы «Пародию», «Вторжение» и в особенности «Большой и малый маневр» и «Все против всех». И я заметил, что все написанное мною, за исключением пьесы «Профессор Тарани», в которой точно, без трюков, передан один сон, – все было направлено на оправдание легкого отказа от борьбы, скажу даже больше, на оправдание трусости.
Рецепт прост и удобен, и некоторые продолжают пользоваться им, стремясь достигнуть максимального комфорта и добиться громкой славы: противников, борющихся между собой, ставят спиной к спине и разводят их в стороны, с легким сердцем заявляя, что всякая борьба смехотворна. По любому поводу пускают в ход философию: «Все идет к чертям». При этом, конечно, не уточняется, что именно идет к чертям. Люди, придумавшие эту философию, упрямо отказываются от любых действий, – это то, что Роланд Бартес называл «нинизмом»: и то не годится, и это не подходит! Рассуждают так: все равно мы все умрем, зачем же бороться?..
Но в конце концов будем же хоть немного серьезны. Тот факт, что человек смертен и страшится смерти, причем иной раз он буквально одержим этим страхом, не мешает ему жить, а значит, бороться! И хватит бесполезной болтовни – в конце концов всегда знаешь, против кого борешься и за что…
И вот мне пришла в голову разумная мысль: почему, спросил я себя, упорствовать в стремлении изображать весь род человеческий и все его проблемы, выводя на сцену лишь два – три персонажа? Потому что зритель, от талкиваясь от такого диалога, может представить себе все разнообразие этих проблем? Может быть… Почему действия почти космического масштаба столь часто развиваются на фоне одной и той же, притом зачастую условной, декорации? Потому что всякая попытка создать видимость реальной обстановки иллюзорна? Конечно… Но все эти ответы меня не убедили полностью, и я стал думать: а не в том ли дело, что в современных условиях театральной коммерции декорации стоят дорого, актерам надо платить, а субсидий почти невозможно добиться? В конце концов разве «строгость» эстетики нашего «авангарда» в конечном счете не имеет скорее экономическую, чем философскую, основу? И разве эти же соображения не распространяются также на некоторые фильмы «новой волны»?
Но я отклоняюсь от темы. После пьесы «Пинг – понг», в которой я пытался показать своего рода подавление человеческого разума машиной, олицетворенной на сцене автоматом для механической игры в «пинг – понг», мне захотелось более точно показать во времени и в пространстве тех, кого давит, рубит эта машина, а также тех, кто ею владеет. И я написал пьесу «Паоло Паоли». Это было детальное описание смехотворных торговых промыслов, показывавшее в сущности наступление более крупных торговых фирм и смертоубийственную игру конкуренции, которая привела к империалистической войне 1914–1918 годов.
Если я вывел в этой пьесе всего семь персонажей, то сделал это не из соображений экономии, а потому, что хотел показать «малый мпр», отражавший более широкий. Во всяком случае пьеса, хотя ее постановка обошлась недорого и хотя она имела успех у публики, шокировала тех, кого она должна была шокировать. С точки зрения властей, и моих семи персонажей было слишком много!
Может быть, именно эта констатация толкнула меня начать писать без дальнейших колебаний пьесу, о которой я давно мечтал, – пьесу о Парижской коммуне. Я хотел показать много людей, действующих во многих местах, выйти из удушающих интерьеров, из микрокосмоса. Все это обойдется дорого? Ну что ж! Я знал, что даже в том случае, если бы мне удалось, прибегнув к какой‑нибудь невероятной хитрости, показать Парижскую коммуну с помощью семи действующих лиц и в единственной декорации, мне все равно отказали бы в субсидии, еще более наверняка, чем в субсидии для постановки моей скромной пьесы «Паоло Паоли».
Но в конце концов, спросите вы, почему же автор взялся за тему о Парижской коммуне? Ведь автор все‑таки написал эту пьесу не ради того, чтобы ее постановка оказалась чрезмерно дорогой? Конечно, это был политический выбор. Первое рабочее правительство, храбрость, разум, героизм, которые на эти три месяца превратили Париж в столицу мира, – разве это не величайший сюжет для театра?..
В час, когда я пишу эти строки, я узнал, что в Мадриде пал еще один герой – республиканец Хулиан Гримау. Эта смерть после такого числа других жертв причинила бы мне еще более страшную боль, если бы я сейчас не чувствовал, что сам, хоть и немного, доступными мне средствами участвую в борьбе, которую никогда не удастся подавить никаким Тьерам и Франко.
Тот факт, что рабочий муниципалитет Сен – Дени приложил величайшие усилия, чтобы обеспечить материально дорогостоящую постановку моей пьесы, является лучшей компенсацией за долгие месяцы труда и тревог. Это меня ободряет и убеждает в необходимости продолжать то дело, которое я начал. Это ободрит и других продолжать или начать. Я надеюсь на это».
Такова подлинная исповедь этого мужественного драматурга, который нашел в себе силы, чтобы порвать с мертвечиной «театра абсурда» и вернуться к животворящим истокам реализма. Творческий подвиг Артюра Адамова лишний раз убедительно показывает, что есть еще порох в пороховницах французской литературы, что сама жизнь, сама атмосфера борьбы, которую лучшие силы французского народа ведут за свое правое дело, вновь ставит творческую интеллигенцию перед выбором: с кем она? С силами добра или с силами зла? С народом или с теми, кто подавляет народ? С внуками парижских коммунаров или с внуками Тьера?
Адамов стал на сторону народа. И я верю, что за ним последуют и другие, в ком еще не угасла искра общественного долга. Но пока «театр абсурда» продолжает жить и благоденствовать, пользуясь покровительством тех, на чью мельницу он льет воду.
И вот театральный сезон 1963/64 года. Ионеско, Беккет уже не «аутсайдеры», не сомнительные экспериментаторы, не бунтари – одиночки, а признанные и вполне респектабельные метры буржуазного театра. У них свои последователи, у них своя школа, по пятам за ними ходит целый сонм исследователей. Прошли времена, когда покойный обозреватель газеты «Монд» Робер Кемп писал об Ионеско: «Он сражается не против ветряных мельниц, а против самого ветра». Теперь ветер дует в спину деятелям «театра абсурда», он окрыляет и несет их. Но куда?..
Вернемся же к премьерам парижского театра, к которым в сезоне 1963/64 года было приковано наибольшее внимание критики и вся сущность которых подтверждает правильность той суровой оценки, какую дал своим вчерашним единомышленникам Артюр Адамов. Что говорят они уму и сердцу зрителя?
Начнем с пьесы Беккета «О, эти прекрасные дни!», которая шла в Театре Франции в исполнении двух крупнейших артистов, стоящих во главе этого театра, – Мадлен Рено и Жан – Луи Барро, причем вся тяжесть исполнения этой труднейшей в сценическом отношении пьесы легла на плечи Мадлен Рено: в течение девяноста пяти минут она говорила одна, не двигаясь с места (на долю Жан-Луи Барро выпадали лишь немногие нечленораздельные реплики: он мычит, рычР1 т и что‑то бормочет лежа, невидимый ни зрителям, ни своей партнерше, и только в самом конце пьесы подползает к ней, одетый во фрак, с цилиндром в руке). Газеты подсчитали, что Мадлен Рено пришлось потратить на репетиции тысячу четыреста сорок часов.
Ради чего же был выполнен этот сизифов труд?
Сюжет пьесы таков. В далеком уголке пустыни медленно увязает в зыбучем песке одетая в бальное платье старая женщина, по имени Винни. Неподалеку умирает ее супруг, которого зовут Вилли. Когда поднимается занавес, зритель видит Винни, увязшей по грудь. Она дремлет. Раздается звонок. Винни пробуждается, протирает глаза, потягивается – руки ее пока еще свободны, – придвигает к себе свою черную пляжную сумку. Достает зубную щетку, гребешок, зеркальце, очки, шляпу, небольшой браунинг. Чистит зубы, прихорашивается, надевает шляпу, разглядывает себя в зеркало – ах, эта старость!..
Трогает зубы, разглаживает свои морщины и говорит, говорит… говорит… Она утешает себя, говоря, что ей не больно, что сегодня, право же, не хуже, чем было вчера, что она довольна этим. Ах, какой прекрасный день! Еще один день жизни…
Время от времени Винни обращается к своему мужу, она непринужденно болтает с ним, словно они не в грозной и страшной пустыне, которая вот – вот поглотит их обоих, а где‑нибудь на модном пляже, или в театральном зале, или у себя дома, в салоне. «Ты не помнишь, как звучит это прекрасное стихотворение?», «Ах, какой прекрасный закат!»… Муж почти не виден, он недвижно лежит в ложбинке, лишь корчится время от времени, чтобы сохранить видимость жизни. Винни говорит с ним не для того, чтобы услышать от Вилли слова утешения – он уже не способен на это. Она говорит, чтобы слышать свой собственный голос. А муж, эта страшная развалина, лишь рыгает, отвратительно плюется, временами урчит, а то вдруг произносит одно – два бессмысленных слова, вспоминает заголовки старой газеты или что‑то хрипло напевает. Это приводит Винни в неописуемую радость: прекрасные, поистине прекрасные дни!.. Наконец солнце заходит за горизонт. Занавес…
Второй акт. Винни погружена в песок уже под самый подбородок. Нельзя даже повернуть голову. Все, что остается, – это вращать глазами и опять говорить, говорить, говорить… До той самой минуты, пока зыбкий песок не поглотит Винни совсем, пока он ей не заткнет рот своей инертной массой. Говорить, но о чем? Все о тех же пустяках повседневной жизни, обращаясь к которым героиня отвлекается от мысли о неизбежной и неумолимой смерти. Винни гримасничает, пытается разглядеть кончик своего языка, втягивает губы, чтобы представить себе, как она будет выглядеть, когда у нее выпадут все зубы, косит глазом, чтобы увидеть свою бровь. Она все еще живет. Так да здравствует же этот прекрасный день!..
Вся парижская печать единодушно подчеркивала, что Мадлен Рено совершила настоящий подвиг, подняв на своих плечах это огромное и нелепое сооружение. Ей удалось взволновать зрителя и пробудить в нем добрые чувства к своей странной героине, как она ни пуста и мелочна; больше того, ей удалось вложить в пьесу то, чего в ней нет и что идет вразрез с философией «театра абсурда», – мысль о том, что человек сильнее смерти, что смерть ему не страшна, если он до самого последнего момента живет, борется за жизнь, преодолевает ужас умирания. Как очень тонко заметил критик «Франс – суар» Шан Дютур 31 октября 1963 года, «мадам Мадлен Рено способна доказать что угодно, причем она говорит с такой правдивостью, с таким чувством, столь волнующе и просто, что все кажется увлекательным, все кажется необычайным, новым, незабываемым и прекрасным. Я уверен, – заключил Дютур, – что она смогла бы держать вас в напряжении, повторяя без конца лишь одну фразу, ну, скажем, «Курица на заборе»…»
Но пьеса? Что представляет собой она? Какие идеи хотел вложить в нее автор? И зачем он ее написал? Театральный обозреватель газеты «Монд» Пуаро – Дельпеш, уже знакомый нам автор романа «Изнанка воды», чья идейная концепция близка духу «театра абсурда», конечно, превознес эту пьесу до небес как новый творческий взлет Беккета.
«Скажут, – писал он 31 октября 1963 года, – что этот контраст между мелким оптимизмом и физическим обветшанием человека, начинающимся с самого рождения, общеизвестен. Да, он действительно общеизвестен, и Бек-кет в своих произведениях не скрывает того, что он одержим этой идеей. И в пьесах, и в романах у него мертвая природа всегда берет верх над попавшими в ловушку живыми людьми – это знак неизбежности погребения. В его произведениях всегда находишь тот же мир личинок, то же физическое разрушение, ту же бестолковую вздорную болтовню. Все это преподносится простодушно, с невинным видом, как важнейший признак жизни: я страдаю, я говорю, значит, я живу… Белая голова героини, лежащая в самом центре сцены, в сердце театра, – это наша голова; ее сумка – это наш багаж; ее воспоминания несут в себе наше воспоминание. Это мы сами умираем на сцене вместе с Винни…»
Недавно я с удивлением узнал, что и у нас некоторые театральные критики склонны расценить эту пьесу Беккета как крупное творческое достижение. Один из них счел возможным, полемизируя со мной, дать ей такое толкование:
«История бедной старой Винни, погрязающей в метафизических зыбучих песках, – не пустой набор пустых слов,
а горестно реальная суть многих женских, и не только женских, судеб. Пустая и несчастливая жизнь, брак без любви с ничтожным человеком, без материнства, без дела, никому не нужная жизнь. Пришла старость, близка смерть, текут пустые, одинаковые дни, как засасывающий песок, тот песок, который изображен на сцене. Любой читатель (если у него нет заранее выработанного предубеждения) из текста пьесы поймет, что Винни достойна лучшей участи. В ней жнвет неистребимое жизнелюбие, она все еще ждет, что ее умирание станет «прекрасными днями», она хочет себя уверить, что живой труп, который числится ее мужем, – человек и любит ее и заботится о ней. В глубине души она знает, что «прекрасные дни» – иллюзия, но она не поддается отчаянию и все еще не верит в смерть».
Отдавая себе отчет в том, что такая возвышенная интерпретация пьесы весьма субъективна, этот критик оговаривается: «Надо полагать, что Беккет не так, не с таким содержанием задумал эту пьесу. Он, судя по его романам, по пьесам «В ожидании Годо» и «Конец игры», считает, что пишет повторяющуюся вечную трагикомедию бытия. Для него, вероятно, Винни и Вилли – извечные Адам и Ева (!). Но какое дело (?) зрителю и читателю до того, что думал писатель? Перед ним произведение, которое жнвет своей жизнью». И автор приходит к выводу, что «лучшие пьесы Беккета», в том числе и «О, эти прекрасные дни!», – «не абстрактные схемы «бытня» вообще, а индивидуализированные и художественно – конкретные «портреты души» наших современников». «Портреты души» – согласен, но каких современников? Мне отвечают: «Эти люди обязательно неудачники, жизнь их прожита зря, но ведь и неудачи, особенно если в них заключено нечто типическое для общества, в котором эти люди живут, поучительны».
Я далек, конечно, от мысли, будто писатели и драматурги должны чураться темы о неудачниках, это было бы глупо и нелепо. Но вот вопрос: какой целью задается автор, приступая к этой теме? Какие мысли он стремится вселить читателю и зрителю? Вооружает ли он их идейно на борьбу с мерзостями пресловутого «западного образа жизни» или разоружает? В этом суть спора!
Что касается меня, то я глубоко убежден, что «театр абсурда» в социальном плане играет сугубо негативную роль, сея пессимизм и неверие в силы человека. И не случайно его так пылко расхваливает нынче буржуазная пресса. Тот же Пуаро – Дельпеш, заявляя, что в пьесе «О, эти прекрасные дни!» «Беккету удается лучше, чем когда‑либо, донести до зрителя свою тоску «смерти в рассрочку»», не колеблясь ставит ее в один ряд с… «Прометеем» Эсхила. Да – да, он так и пишет: «Понадобилось бы, возможно, подняться до «Прометея» Эсхила, чтобы обрести столь чистую драматизацию одиночества».
Нет, как хотите, но, по – моему, гораздо ближе к истине Дютур, когда он сравнивает Беккета не с Эсхилом, а с эксцентричным представителем абстрактной живописи, который вместо красок «наносит на холст гудрон, гравий или пепел»… «Такая пьеса, как «О, эти прекрасные дни!», – это просто отрицание театра», – подчеркивает он.
Мне остается добавить к этому оценку, которую дал пьесе критик газеты «Юманите» Ги Леклерк. Он заявил 31 октября: «Решительно, этот «авангард» зловещ, и Бек-кет околдован идеей смерти, как и Ионеско. Так же как и в пьесе «В ожидании Годо» и других его произведениях, мы снова сталкиваемся с опустошенным и опустошающим миром. Мы снова оказываемся перед этим подобием метафизического «нигде», в котором топчутся пьесы Сэмюэля Беккета… Мир, жизнь не имеют смысла. Остается лишь говорить (чтобы ничего не сказать!) и умирать, не зная, существует ли бог. Впрочем, Винни думает, что «молитвы, быть может, не тщетны». И она говорит нам не раз, что у нее «странное чувство, что кто‑то глядит на нее». Кто же? Бог? Но самое поразительное – это оптимизм, который она настойчиво демонстрирует. И, заставив нас прослушать исполняемую ее музыкальным ящичком мелодию «Превосходный час», она сама поет ее в конце, почти засыпанная землей. Оптимизм смеха ради? Возможно. Но весьма мучительный в таком контексте…»
Такова была пьеса Беккета «О, эти прекрасные дни!», рекламировавшаяся как крупнейшее событие театрального сезона в Париже [52]52
В апреле 1964 года в лондонском Национальном театре состоялась премьера новой пьесы Беккета «Конец игры», которая в некотором роде являлась продолжением того, чем он угостил парижан в Театре Франции. Если там актеры оставались весь вечер неподвижными, изображая людей, засасываемых зыбучими песками, то здесь Беккет засадил их в большие глиняные кувшины, похожие на урны для пепла мертвецов, – из них торчали только головы. Это – «Он», «Она» и «Третий». На сцене было темно, и только непрерывно движущийся луч прожектора освещал торчащие из кувшинов головы – то сразу все вместе, то поочередно.
Когда луч освещал всех троих, они верещали, одновременно произнося какие‑то заумные, неразборчивые слова. Когда же луч касался только одной головы, то она начинала торопливо рассказывать свою историю адюльтера, в которой участвовали все трое. На зрителя обрушивался поток сбивчивых, рваных фраз, так как луч перемещался от одной головы к другой с невероятной быстротой.
Все это повторялось дважды – до и после антракта. Спектакль длился двадцать минут, да, пожалуй, больше и не могли бы выдержать ни актеры, ни зрители. Критики, которые были не в состоянии объяснить зрителям, что именно и зачем показал Национальный театр, довольно холодно отозвались о пьесе, но это не помешало французскому режиссеру Серро немедленно поставить ее и в Париже.
[Закрыть].
(Любопытная деталь, которую я вспомнил, готовя эту книгу ко второму изданию: в сентябре 1971 года пьесу «О, эти прекрасные дни!» вытащили из архива работники парижского телевидения. Ее взялся заново поставить режиссер Роже Блин, и Мадлен Рено вновь, видимо не без колебании, согласилась исполнять роль бедной старой Винни, погрязающей в зыбучих метафизических песках.
Как осторожно выразился рецензент газеты «Монд» Жак Сислие, эта телевизионная постановка лишь обогатила «архивы нашего времени», сохранив для потомков «страницу из истории театра». Он воздал должное при этом «мужеству Мадлен Рено, которая, преодолев трудности [своего почтенного] возраста, смогла еще раз исполнить роль Винни».
«Телевидение показало нам крупным планом, – писал он, – не игру актрисы, а просто волнующее лицо женщины, которая в последнем кокетливом убранстве – в вечернем платье и в шляпе нежной окраски – приемлет судьбу старости, охваченная тревогой и вместе с тем уже отрешившаяся от жизни… Мадлен Рено даже в своем преклонном возрасте остается большой актрисой. Но зачем нужно было ее тревожить, чтобы воскресить из небытия абсурдную пьесу Беккета?)
Но в сезоне 1963/64 года была модна не только пьеса
«О, эти прекрасные дни!». Оставшиеся непогребенными мертвецы, словно в пьесе Ионеско «Амадей, или Как от него избавиться?», пухли, расширялись в объеме, заполняя собой сцены театров французской столицы. Тема смерти становилась все более распространенной; она пронизывала и ряд других премьер сезона, в том числе и постановку в театре «Буфф – паризьен» уже упомянутой мною пьесы Артура Копита о печальной судьбе некоего папочки, которого мамочка повесила в шкафу. Впервые я видел эту пьесу осенью 1962 года в Нью – Йорке. (Еще ранее она была поставлена в Лондоне.) Нам, советским людям, участвовавшим во встрече с американскими общественными деятелями, посвященной международным проблемам, рекомендовали именно этот спектакль как наиболее интересное и важное театральное событие года.
Признаюсь, когда нам вручили программки, на которых огромными жирными буквами было напечатано название пьесы «Папочка, мой бедный папочка, мама повесила тебя в шкафу, и мне тебя так жалко», я подумал, что нам покажут какую‑нибудь комедию – уж больно странно звучали эти слова. Но двадцатишестилетний автор пьесы Артур Копит, о котором шумели газеты, был настроен вполне серьезно. Он был убежден, что написал философское произведение.