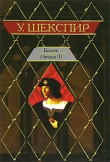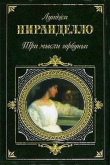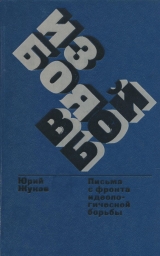
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Выступая по телевидению, Юлиан Бек – худощавый человек с высоким, открытым лбом и длинными волосами, на бледном лице которого ярко горят фанатичным огнем большие глаза, – горячо доказывал жизненность и необходимость своего творческого метода. И сцены, которые были затем показаны, убедительно подтверждали необычайную слаженность и динамичность его труппы, способной без слов производить на зрителя глубокое впечатление.
Меня взволновала сцена, названная «Агония». Актеры в спортивных костюмах и солдатских сапогах маршируют вдоль и поперек сцены, хором выкрикивая: «Соединенные Штаты Америки!», «Столица – Вашингтон!», «Раз, два, три! Раз, два, три!» Они похожи на солдат вермахта – та же механичность в движении, та же безрассудная покорность команде. Потом они падают. Корчатся в кон вульсиях – агония умирающих под Нулями воспроизведена с натуралистической точностью. Умирают. Их тела деревенеют. Все стихает. Тогда несколько актеров подходят к застывшим в неподвижности жертвам. Снимают с них сапоги. Берут за голову и за ноги и относят в сторонку, складывая словно дрова для костра: один ряд вдоль, второй сверху – поперек, третий еще выше. О Вьетнаме, о войне, о гонке вооружений не сказано ни слова. Но зрителю понятно, что в «Агонии» речь идет именно об этих вещах.
Такого рода эксперименты, конечно, имеют свое значение для развития искусства. Но как объяснить, что тот же вождь и трибун аскетического театра Бек с тем же упорством и настойчивостью вводит в репертуар своего театра проповедь той самой «племенной любви», которую славят авторы описанной выше психодрамы «Волосы»? Больше того, в своем рвении Бек идет еще дальше, заставляя своих актеров не только раздеваться догола, но и имитировать весьма натуралистично эту «племенную любовь».
Дело дошло до скандала: когда «Ливинг – тиэтер» выступал со своей программой в одном из студенческих городков, местная полиция, невзирая на нынешний режим «дозволенности», сочла необходимым прекратить спектакль и арестовала актеров, обвинив их в публичном разврате.
(Вскоре после того как были написаны эти строки, «Ливинг – тиэтер» пережил творческий кризис. Его участники поняли, видимо, что их эксперименты в духе проповеди «племенной любви» увели их в сторону от первоначально провозглашенных революционных целей. Юлиан Бек объявил, что его труппа перестает существовать как театр и будет заниматься отныне прямым агитационным действием – артисты будут выступать на улицах и площадях, призывая народ к борьбе за свободу.
В 1970 году Бек и тридцать артистов – его единомышленников – направились в Южную Америку. Они обосновались в бразильском городке Оуро – Прето и начали выступать на улицах и в местных школах, разоблачая диктаторский режим, угнетающий народ. Вначале власти равнодушно взирали на эти выступления, но потом встревожились и решили обуздать нежелательных пришельцев.
1 июля 1971 года полиция совершила налет на дом,
в котором жили Век и его последователи, и арестовала их всех по обвинению в подрывной деятельности и… курении наркотиков. Было объявлено, будто в подвале этого дома найдено пять фунтов марихуаны. Актеры протестовали – они заявили, что наркотик подброшен полицией. Однако их всех упрятали в тюрьму…)
В помещении большого старого гаража на Вустер – стрит, одной из самый темных улочек Гринвич – вилледж, театральный коллектив «Перформанс – групп» под руководством Ричарда Шекнера дает представления «Диони-сиос-69», поясняя, что это – спектакль по мотивам пьесы древнегреческого драматурга Еврипида «Вакханки». Сейчас и в театре и в кинематографе Запада широко приняты подобные обращения к классике: берется старинный сюжет и излагается по канве современных событий. С классиками при этом обращаются весьма вольно; выше я уже рассказывал, как расправился, например, Аль Кармине с пьесой Аристофана «Мир».
Что же сделал с Еврипидом Шекнер?
Еврипид, живший в 480–406 годах до нашей эры, славился тем, что его пьесы затрагивали острейшие политические и философские проблемы того времени, его звали философом сцены, а Аристотель сказал, что это был «трагичнейший из поэтов». В своем творчестве он отражал политический и идейный кризис афинской рабовладельческой демократии. В центре его внимания были человеческая личность и распад старой общинной морали. И Шекнер уверяет публику, что, используя текст Еврипида как «открытый материал», он делает его актуальным, близким к сегодняшним проблемам Америки.
Это не прямолинейное осовременивание Еврипида, к какому прибегает, например, театр Йельского университета, который, ставя «Вакханок», использовал жаргон шестидесятых годов XX века. Шекнер сохраняет старинный текст, вырывая куски из пьесы Еврипида. Но при всем том в его спектакле смысл идей Еврипида не только lie проясняется, а, напротив, затуманивается, а пресловутая «дозволенность» используется столь широко, что на спектакли «Перформанс – групп» устремляются отнюдь не люди, склонные к философическому осмысливанию кризиса американской демократии, а те, кто ищет сенсации либо попросту падок на «клубничку».
«Перформанс – групп» старается изо всех сил эпатировать зрителя. Начать с того, что в помещении гаража нет ни стульев, ни скамей; у стен высятся странные конструкции в виде строительных лесов, и публика рассаживается на платформах, соединенных вертикальными лесенками, либо на полу. «Это еврипидовские Фивы – город башен», – поясняют тем, кто, ворча, карабкается по неудобным лестницам в поисках местечка. Посреди гаража лежат ковры, заменяющие подмостки для актеров.
Но действие развертывается не только на коврах – актеры снуют повсюду, они все время среди публики. До начала спектакля они ползают, ходят на четвереньках, принимают позы йогов, стоят на голове. Шипят, рычат, свистят. Ездят верхом друг на друге. Поют: «Пусть будут благословенны те, кто сейчас начнет танцевать во имя бога!» Потом все участники спектакля сбрасывают с себя одежду – обычные майки и ковбойские штаны, – и начинается ритуальная мистерия, изображающая рождение бога Диониса [61]61
Дионис, он же Вакх или Бахус, бог небесной и земной влаги и обусловливаемой ею и солнечным теплом живой силы природы, подаривший человечеству виноградную лозу, – колоритнейшая фигура древнегреческой мифологии. Он – главный герой трагедии Еврипида. «Я Дионис, сын Зевса, которого родила некогда Кад мова дочь Семела, пламенем молнии освобожденная от бремени», – возвещает он жителям Фив, явившись к ним в человечьем облике. По скептики из Фив не верят пришельцу. Они считают, что Семела, дочь старого фиванского царя Кадма, отдавшаяся простому смертному, хитро прикрыла именем главного бога свою грешную любовь, за что Зевс и испепелил ее молнией. Тут и завязывается основной конфликт трагедии: Дионис жестоко мстит молодому царю Фив Пентею и его семье.
[Закрыть]: вакханки, стоящие, расставив ноги, над лежащими на земле мужчинами, протаскивают новорожденного бога по их телам, и тут начинается классическая вакханалия.
Внезапно раздается резкий стук в дверь гаража. Пляски прерываются, и участники спектакля торопливо одеваются. Публика поеживается: что это, пришла полиция? Входит разъяренный молодой человек в штатском. Незнакомец энергично требует прекратить вакханалию. Кто он? Оказывается, это герой пьесы Еврипида – царь Фив Пентей (Пентеус), бросающий вызов Дионису; он грубо оспаривает божественное происхождение Диониса.
Начинается долгий спор Диониса с Пентеем. В ход идут и цитаты из древнего текста, и уличный жаргон. Для вящего приближения к сегодняшней действительности актеры, обращаясь к публике, сообщают свои имена, фамилии и домашние адреса.
Пентей непреклонен: он не признает Диониса богом и решительно осуждает вакханалии. Но участники мистерии, разбежавшись по залу, спова и снова запевают гимн в честь бога. Пентей бросается то к одному, то к другому, зажимая певцам рты. В игру втягивается публика – хлопая в ладоши, все подпевают. Пентей в отчаянии: он бессилен остановить вакханалии.
Разыгрываются скабрезные сценки: Дионис убеждает Пентея в прелестях гомосексуализма и увлекает его в подвал. Пока они находятся там, актеры вместе с публикой водят веселые хороводы, без конца напевая трп фразы: «Как тебя зовут? Как зовут твоего мужа? Как зовут твоего ребенка?»
Зритель, не знающий пьесы Еврипида, – а таких в зале подавляющее большинство, – перестает что‑либо понимать. Ему и невдомек, что авторы спектакля пытаются таким образом осовременить драматическую ситуацию древней трагедии: среди почитательниц Диониса, совершающих вакханалии, – мать царя Пентея Агава. Она под воздействием магических чар забыла обо всем на свете. И именно ее Дионис обречет на страшную роль – стать палачом собственного сына.
И вот уже Дионис, приобщивший Пентея к тайнам гомосексуализма, увлекает и его па вакханалию. (В трагедии Еврипида Пентей, поддавшийся чарам Диониса, отправляется поглядеть на вакханок, переодевшись в женское платье. Ссылаясь на это, постановщик «Диони-сиос-69» заявляет, что у него были все основания использовать более современную коллизию – гомосексуализм.)
Повинуясь внушению Диониса, вакханки набрасываются на Пентея и разрывают его на куски. Больше всех усердствует одурманенная и впавшая в вакхическое неистовство мать Пентея Агава: ей чудится, что она убивает льва.
Символика здесь проста: спова раздевшись догола, участники мистерии мажут царя красной краской (кровь!), а заодно мажутся сами. В таком виде актеры и актрисы входят в публику и читают отрывки из Еври-
пида. Публика глядит на них с нескрываемым интересом, но похоже на то, что текст греческого классика ее мало интересует.
Все кончается тем, что участники спектакля долго и старательно смывают с себя краску, одеваются и уходят. За ними расходится и публика.
Успех у этого спектакля огромный. Критика посвящает ему хвалебные статьи. Вот что писал, например, Фрэнк Джоттеранд во французской газете «Монд» 28 марта 1969 года– слава «Перформанс – групп» дошла до Парижа:
«Слова здесь сливаются в говорящие хоры; хоры перемещаются, как и точки притяжения внимания, актеры исчезают в люке, вновь появляются на вершинах башен, игра артистов буквально захватывает зал и публику, побуждая ее непроизвольно вмешиваться в действие – включаться в танец, подпевать артистам, высмеивать отрицательного героя (Пентея) и изолировать его посреди зала… «Перформанс – грунп» превосходно владеет двумя формами выражения, свойственными молодому американскому театру: импровизацией и искусством «церемонии», хорошо согласующимися с внутренней динамикой «Вакханок»… Нагота оправдана здесь, так как она вносит творческий вклад».
Я глубоко убежден, однако, что Фрэнк Джоттеранд желаемое принимает за действительное. То, что показывает «Перформанс – групп», столь же далеко от «Вакханок» Еврипида, как ее старый гараж на Вустер – стрит далек от древнегреческой театральной арены.
В конечном счете и «Дионисиос-69» и «Мистерии» Юлиана Бека, воспевающие «племенную любовь», и многие другие им подобные сенсации так называемого авангардного театра – явления одного порядка. Я не хочу ставить под сомнение добрые намерения таких экспериментаторов, как Бек, Леннокс или Шекнер, но на практике получается так, что их спектакли оказываются в одном ряду с более чем сомнительной продукцией кино и литературы, порожденной новым режимом пресловутой «дозволенности».
Упадок нравов, рост цинизма и распущенности, которым вольно или невольно содействует эта продукция современного американского искусства, начинают всерьез тревожить политические круги США, о чем лишний раз напоминает упомянутая мною выше специальная публикация журнала «Ныосуик» «Секс и искусство». Однако предпринимаемые сейчас американской администрацией попытки как‑то сузить рамки «дозволенности» вряд ли дадут существенные результаты: ведь речь идет о далеко зашедших глубинных процессах, разъедающих мораль современной Америки.
Профессор Колумбийского университета Стивен Маркус был, по – видимому, прав, когда он поставил такой диагноз этой социальной болезни – а речь и впрямь идет о болезни: «Порнография – это лишь незначительный симптом кризиса, связанного с вьетнамской войной… Все моральные силы в стране потерпели крах из‑за этой войны. Если вы можете глядеть на войну во Вьетнаме по телевидению, почему вы не можете смотреть на то, как люди совокупляются?.. Бурное распространение порнографии – это форма псевдорадикализма…»
И журнал «Ныосуик», публикуя это горькое признание краха моральных ценностей буржуазной Америки, со своей сторопы приходит к печальному выводу: «Закон видит, что он бессилен [в борьбе с «дозволенностью»]; артисты знают, что это уродливо и опасно; социальные мыслители отдают себе отчет в том, что это реакционно и постепенно подавляет энергию у общественности; молодые люди, новая наивность которых идет на смену старой наивности их отцов, начинают сознавать, что вовсе не забавно жить так, как они живут».
К этому мне, как говорится, нечего добавить…
Вот видите, как разнообразны и пестры сегодняшние американские вечера. Мне, конечно, удалось поглядеть лишь некоторые, правда наиболее характерные для театрального сезона 1968/69 года, спектакли. Но и они дают пищу для размышлений о путях современного искусства в США. С одной стороны, налицо бесспорный рост и усиление прогрессивных сил американского искусства. Никогда еще политический и социальный театр не разговаривал со зрителями таким прямым и острым языком, как он делает сейчас. Я имею в виду такие спектакли, как «Красное, белое и Мэддокс», «Великая Белая Надежда», «Цена» и многие другие. С другой стороны, нельзя не видеть, что часть театральных деятелей, и притом немалая, провозглашая прогрессивные лозунги, на деле кла дет зрителю в его протянутую руку камень вместо хлеба – это «Волосы», это «Дионисиос-69» и подобные им произведения.
Далее, обращают на себя внимание и такие попытки играть на прогрессивной теме, как почин священника Аль Кармине, поставившего «Мир» по мотивам Аристофана. В последнее время определенная группа деятелей церкви все чаще примыкает к антивоенной борьбе, стремясь сохранить свое влияние, и спектакль Аль Кармине занимает свое место в этой борьбе. Но как это всегда бывает в таких случаях, критика войны и военщины удерживается в определенных рамках, а концовка спектакля буквально утопает в розовой водице.
Все это – новые явления на идеологическом фронте американского театра. Наряду с этим там продолжается извечная острая борьба самых разнообразных формальных школ и течений, в ходе которой возникают какие‑то открытия либо обнаруживаются провалы и неудачи.
Наконец, по – прежнему огромное место в жизни американского театра занимает рутинная повседневная деятельность, рассчитанная на удовлетворение потребительского спроса маловзыскательной публики – бесчисленные музыкальные спектакли, легкие комедии, душещипательные драмы, как обычно, идут по конвейеру Бродвея.
Но подробный анализ театральных школ и течений – это дело специалистов и критиков. Я же хотел лишь поделиться с читателями своими впечатлениями от того, что видел в этом театральном сезоне в США. Посему здесь я ставлю точку.
Май 1972. Эскалация „вседозволенности"
В последний раз мне довелось побывать на Бродвее год тому назад, – в мае 1971 года. Но, судя по американским газетам и журналам, там мало что изменилось с тех пор, как в американском театре произошли события, о которых я уже писал ранее. На афишах мелькают знакомые названия опер, оперетт и драм. Появились и новые спектакли. Но общие направления в американском театральном искусстве остаются прежними: как и раньше, основные сцены заняты спектаклями развлекательного характера; как и раньше, реакционные деятели театра, щедро субсидируемые и заботливо поощряемые, используют подмостки для антикоммунистической, антиреволюционной пропаганды; как и раньше, мужественные прогрессивные люди продолжают свою неравную борьбу, используя крохотные, мало приспособленные или вовсе не приспособленные для театральных представлений помещения где-нибудь в Гринвич – вилледж или в негритянских кварталах, а иногда прорываясь и на Бродвей. Единственной новой чертой является дальнейшая эскалация пресловутой «permissivnesse» – «вседозволенности», все чаще превращающая театр в немыслимый скотский хлев…
О, конечно же, не весь Бродвей представляет собой такой хлев – для изысканной рафинированной публики там сохранились зрелищные предприятия высокого международного класса. В «Метрополитен – онера» вы можете послушать, как всегда, «Тоску», «Паяцы», «Травиату» и многие другие знаменитые оперы. Новые постановки показывает талантливая труппа «Нью – Йорк сити – балет».
Любители классического драматического театра могут посмотреть пьесы Ибсена – на Бродвее недавно шли его «Кукольный домик» и «Гедда Габлер»; главные роли в этих пьесах великолепно исполняла известная актриса Клэр Блум. С успехом шел монтаж сцен и диалогов из сказок братьев Гримм, изобретательно поставленный способным молодым режиссером Полем Силлсом. Но отнюдь ве эти спектакли характеризуют американскую зрелищную индустрию, а ведь Бродвей – это действительно индустрия!..
Судьба режиссеров и актеров американского театра остается трудной и неопределенной. Конкуренция, распространившаяся и на театр, буквально убивает искусство, если постановщик оказывается не в состоянии придумать какой‑нибудь экстраординарный трюк, пусть самый пошлый и непристойный, но способный вызвать сенсацию и, следовательно, завлечь публику…
В сезон 1969/70 года на Бродвее состоялось шестьдесят девять премьер, а за его пределами – сто двадцать пять. В сезоне 1970/71 года на Бродвее было сорок пять премьер, а за его пределами – сто одна. Эти цифры могут поразить воображение человека, который плохо знает американскую действительность: какое обилие творчества! Но вот вам цифры, показывающие изнанку этой статистики: двадцать четыре пьесы выдержали не более десяти представлений, а девять были показаны один – единствен-ный раз. Если зритель остается холоден к тому, что ему показывают, хозяин безжалостно опускает занавес и разгоняет актеров на все четыре стороны.
Прогрессивные пьесы, которые мне довелось видеть в 1969 году, сошли со сцены. Дольше всех продержался спектакль «Великая Белая Надежда» – он выдержал свыше пятисот представлений, но в конце концов все же уступил место другим, не столь острым представлениям.
В сезонах 1969/70 и 1970/71 годов пьес, имеющих социальную нагрузку, было показано значительно меньше. Правда, в 1970 году довольно значительным успехом пользовалась острая полемическая пьеса известного американского журналиста Арта Бухвальда «Овцы на взлетно – посадочной площадке», в которой в качестве одного из Действующих лиц выступал вашингтонский политический обозреватель по кличке Ястреб. Коллеги Бухвальда без тРУДа угадали в этом персонаже весьма неприглядный портрет небезызвестного прихлебателя Пентагона Джо зефа Олсопа. Говорили, что Олсои был вне себя от ярости, грозился свести счеты с Бухвальдом. В 1971 году за пределами Бродвея была поставлена другая столь же острая пьеса– «Процесс девяти в Катонс. вилле». Она воспроизводила подлинные события, разыгравшиеся в этом городе, – там судили девятерых участников борьбы за прекращение войны во Вьетнаме, в том числе известного сейчас в США священника Даниэля Берригэна. К сожалению, ни той ни другой пьесы весной 1971 года я уже не застал – они продержались на сцене недолго.
Продюсеры предпочитают, что называется, испытанный товар – главным образом пользующиеся неизменным успехом музыкальные представления, идущие на сцене годами и десятилетиями. 21 июля 1971 года на Бродвее состоялось такое, к примеру, знаменательное событие: музыкальный спектакль «Скрипач на крыше» был показан в 2845–й раз и тем самым побил рекорд оперетты «Хелло, Долли». Газеты сообщили, что «Скрипач на крыше» уже дал продюсерам чистую прибыль в размере семи миллионов долларов.
С огромным успехом вновь пошла оперетта 30–х годов «Нет, нет, Нанетт!». С нею конкурировал музыкальный спектакль «Безумное веселье» – билеты на него продавались на «черном рынке» по пятьдесят долларов. Театральный критик газеты «Нью – Йорк тайме» Клив Барнес заикнулся было, что «Безумное веселье» – это пустой, ничего не говорящий ни уму ни сердцу спектакль, но против него тут же была выдвинута тяжелая артиллерия: профессор истории Артур Шлезингер, бывший советник президента, опубликовал статью, в которой назидательно заявил, что Барнес не в состоянии понять ценность этого «типичного американского» спектакля, так как он по происхождению иностранец – неосторожный критик имел несчастье родиться не в США, а в Англии. И что же? Барнес покорно перенес этот удар ниже пояса. Неуклюже оправдываясь, он заявил, что «в других случаях его суждения о спектаклях не отличались от суждений его чисто американских коллег».
Много шума было поднято вокруг музыкального сюрреалистического спектакля «Ленни», посвященного памяти забытого нынче всеми эстрадного певца 50–х годов Ленин Брюса. Патологический по своей натуре тщеславный и корыстный, он в ту пору ввел в моду «обработку зрителей методом шока», используя грубые ругательства и циничные жесты, провокационные, вызывающие манеры. Мода привилась, и Ленни Брюс зарабатывал до семисот тысяч долларов в год. Однако удача его оказалась недолговечной. Изменчивая нью – йоркская публика быстро охладела к своему кумиру, он в отчаянии пристрастился к наркотикам и, что называется, сошел с круга. Умер Брюс в нищете. И вот теперь предприимчивый драматург Юлиан Барри решил, что в наше время «вседозволенности» на костях Ленни Брюса можно неплохо заработать.
Барри нашел поддержку у миллионера Майкла Баттле-ра, который, как я уже рассказывал выше, осенью 1967 года дал «путевку в жизнь» на Бродвее «Волосам» Джеймса Радо и Джерома Рагни, и спектакль «Ленни» в постановке того же режиссера О’Хоргана, который ставил эти «Волосы», увидел огни рампы, приветствуемый оглушительными залпами рекламы и многочисленными статьями рецензентов. Со сцены на зрителя обрушился поток непристойностей и глупостей в духе покойного Брюса. Еще одна машина, делающая деньги, вступила в строй.
Ежегодная премия критиков «за лучшую американскую пьесу» была присуждена в 1971 году Джону Гуаре за «Дом с голубыми листьями». Эту пьесу французский обозреватель Лео Соваж совершенно справедливо назвал в газете «Фигаро» 20 августа 1971 года «мучительной кладбищенской клоунадой ужасающе дурного вкуса».
О чем идет речь? Послушайте‑ка: сторож зоопарка, использующий свой досуг для сочинений песенок, женат на сумасшедшей женщине, которая воображает себя собакой; их сын – умственно отсталый – служит в армии; любовница сторожа зоопарка – продавщица, мечтающая стать кинозвездой, – уговаривает его определить жену в сумасшедший дом (это и есть «дом с голубыми листьями») и уехать с нею в Голливуд, где у нее есть «влиятельный ДРУГ», который, как она надеется, поможет ей стать актрисой.
В это время в Нью – Йорк приезжает папа римский. Оп выступает по телевидению. Сторож зоопарка вместе с любовницей, стоя на коленях перед телевизором, молится, чтобы святой отец освободил его от сумасшедшей жены. Тем временем его сынок, получивший увольнительную в своей воинской части, бросает бомбу на улице, по кото рой должен проехать папа, и осколки ее ранят глухую жену голливудского друга продавщицы, на которого она возлагала свои надежды…
Бродвей все сильнее трясла лихорадка секса; как и прежде, продюсеры зарабатывали огромные барыши, показывая спектакли «с перцем» и даже откровенно порнографические постановки, бесстыдно рекламируемые прессой. Эскалация «вседозволенности» продолжалась, и на ее фоне такие произведения, как «Волосы», выглядели словно пьесы для детских утренников. Кстати, «Волосы» шли на Бродвее с прежним коммерческим успехом, и «Нью – Йорк тайме» продолжала публиковать громовую рекламу: «Если у вас есть возможность посетить в этом году только одно шоу, купите билет на «Волосы»».
С таким же успехом шел совершенно непристойный спектакль «Ох, Калькутта!», который, кстати, никакого отношения к Калькутте не имел. Это название было зашифрованным: его история восходит к весьма древнему случаю, когда молодой французский художник Гловис, специализировавшийся на непристойных сюжетах, выставил в одном из парижских салонов картину, изображавшую со спины обнаженную женщину весьма пышных форм, с весьма грубой подписью: «Oh quel cul t’a», что означало: «Ох, какой у тебя зад». Произошел скандал, картину убрали, но история эта запомнилась, и вот теперь, пользуясь современной «вседозволенностью», предприимчивый театральный делец Хиллард Элкинс заказал группе весьма видных и очень модных драматургов несколько скетчей, поставив условием, чтобы все они были грубо непристойными, нанял за большие деньги режиссера и артистов, согласившихся весь вечер изображать скотские сцены в абсолютно голом виде. Так на Бродвее появился поистине чудовищный порнографический спектакль.
Увеличенная репродукция с картины Гловиса «Oh, quel cul t’a» была помещена на сцене, как священная реликвия, на фоне которой и разыгрывалось все это омерзительное представление. Предприимчивые репортеры разыскали в Париже, в квартале Бельвиль, этого всеми забытого художника, ныне уже глубокого старика, и он, оторопев от неожиданности, давал интервью о творческих грехах своей далекой молодости. Эти интервью способствовали рекламе нынешнего порнографического представления.
И что же? Вы думаете, что такой, с позволения сказать, спектакль вызвал протесты и был запрещен? Ничуть не бывало! Правда, театральные критики, поморщившись, посетовали на вульгарность, но кассовый успех был столь велик, что слава об этом театральном эльдорадо быстро распространилась по белу свету, и шоу «Ох, Калькутта!» было поставлено в целом ряде городов в США и за их пределами, в том числе в Лондоне и даже в Париже.
Еще одна деталь, не лишенная чисто американского своеобразия: именно Хиллард Элкинс, используя толику своих прибылей, полученных от постановки «Ох, Калькутта!», финансировал постановку на Бродвее упомянутых выше пьес Ибсена – дело в том, что талантливая актриса Клэр Блум – его жена. Она давно мечтала исполнить роли главных героинь этнх пьес, и разбогатевший Элкинс охотно доставил ей это удовольствие.
По скандальной популярности и доходности со спектаклем «Ох, Калькутта!» могло соперничать разве что другое аналогичное шоу, которое называлось совершенно откровенно и весьма точно: «Самое грязное представление в городе». То, что показывали участники этого представления, просто не поддается никакому описанию.
Американский театральный обозреватель Мартин Гот-тфилд справедливо писал 18 января 1970 года, что секс на Бродвее полностью «коммерциализирован», так как он дает большие кассовые сборы; театр секса, по его словам, нынче считается вполне благопристойным; его посещают респектабельные люди, которые постыдились бы пойти в обычный кабак, где можно поглядеть, как раздеваются догола мужчины и женщины (посещать эти злачные места считается неприличным для светской публики), но охотно ходят в театры на Бродвее, чтобы посмотреть на то же самое в исполнении известных актеров…
Театральные критики поговаривают, что зритель уже устал от этих зрелищ и что мода на секс в театре скоро пройдет. Может быть, может быть. Но пока что эскалация «вседозволенности» продолжается – с американским театром происходит нечто подобное тому, что испытывает наркоман: по мере того как он втягивается в курение опиума, ему требуются все более сильные дозы.
И вот передо мной лежит опубликованная в парижской газете «Фигаро» 30 сентября 1971 года корреспонденция из Нью – Йорка все того же обозревателя Лео Соважа, приуроченная к началу нового театрального сезона 1971/72 года. Он пишет: «На Бродвее начинается новый сезон. Там мы найдем всего понемногу, в том числе новую пьесу Артура Миллера, которую сам автор характеризует как «катастрофическую (?) комедию» и «рок – оперу» под названием «Иисус Христос – супер – звезда»; название этой «оперы» в нынешних условиях США звучит лишь умеренно скандально (к этой «опере» я вернусь несколько ниже). Но наибольший интерес привлекает следующая новинка сезона: в аудитории известного музея «Гуген-хейм», что на Пятой авеню, будет выступать «James Joyce memorial liquid theatre» (название это можно перевести примерно так: «Текучий театр памяти Джеймса Джойса»).
Лене Ларсен, один из основателей этого театра, пояснил, что каждый «гость» театра будет проходить через «чувственный лабиринт». Г – н Ларсен преднамеренно не употреблял слова «зритель», поскольку «Текучий театр», посвященный памяти Джеймса Джойса, – это не театр «подглядывания», каким он считает вчерашний «авангардистский» театр, а «театр касаний, ощупывания».
«Каждый гость, – заявил Ларсен, – должен двигаться вперед с закрытыми глазами. Он должен довериться нам. В лабиринте гостей будут щупать, теребить, ласкать, обнимать, баюкать и, наконец, целовать – целовать будет либо мужчина, либо женщина…»
Французский обозреватель заявил, что сам он ни за что не пойдет на представления «Текучего театра памяти Джеймса Джойса», поскольку ему вовсе не улыбается перспектива попасть в объятия неизвестных ему людей, да еще с завязанными глазами и ощутить на своих губах их слюнявые поцелуи». Но вот, представьте себе, находится немало людей, которым это нравится, и «Текучему театру» уже сулят такой же успех в Нью – Йорке, каким он пользовался в Лос – Анджелесе [62]62
«Спектакли» этого странного театра в Нью – Йорке имели большой кассовый успех – «касаниям», «ощупыванию» и поцелуям подверглись сорок тысяч любителей необычных ощущений. В апреле 1972 года «труппа» Ленса Харсена перекочевала в Париж; там ее гостеприимно принял фешенебельный театр «Эспас Кардэн» на Елисейских полях, принадлежащий разбогатевшему хозяину Дома мод, где шьют себе одежду богатые люди. Как писала критик журнала «Пари – матч» Жизель Шарбонье, «спектакли» эти выглядят в «Эспас Кардэн» так: у входа люди разуваются и раздеваются – впрочем, сохраняя на себе брюки и юбки, – затем их ведут за Руку с закрытыми глазами по лабиринту, чьи‑то пальцы их трогают и ласкают. Далее посетители театра участвуют в игре в мяч; подпрыгивают, заботливо поддерживаемые артистами и актрисами, словно маленькие дети, взятые за руки отцом; массируют друг Друга; долго смотрят друг на друга; потом укладываются рядами 8а полу, «сжатые, как сардины в банке». Все кончается танцами,
[Закрыть].
Другим проявлением эскалации «вседозволенности» являются очередные «художества» небезызвестного Энди Уорхола, ловкого дельца псевдоавангардного искусства, который зарабатывает бешеные деньги, эпатируя публику. Он одновременно подвизается и в кино, и в изобразительном искусстве, и в театре – подробнее об этом человеке я расскажу в следующих главах.
Последнее детище Уорхола – пьеса, которая называется совершенно определенно и точно: «Свинья». Так же как шоу «Ох, Калькутта!» и «Самое грязное представление в городе», это, с позволения сказать, представление быстро перекочевало в Западную Европу и осенью 1971 года со скандальным успехом шло в Лондоне.
Французский критик Жан Тексье, который не поленился пересечь Ла Манш, чтобы поглядеть это представление, уверял читателей в газете «Комба» 31 августа 1971 года, что «произведение Энди Уорхола интеллигентно» и что оно «представляет собой тонкую сатиру на американское общество».
А вот как выглядит на деле эта «тонкая сатира», судя по сообщениям западноевропейской прессы: по сцене возят в коляске для инвалидов некоего молодого болвана – его роль играет Антони Занетт, загримированный под самого Уорхола, – и он с безразличным видом фотографирует направо и налево не поддающиеся описанию в печати скотские «сексуальные упражнения» своих друзей и подруг, с предельным натурализмом изображаемые голыми актерами и актрисами.
В промежутках участники представления рассказывают зрителям об «эротических проблемах», о том, как делаются аборты, рассуждают о том, чьи экскременты красивее, и т. д. и т. и. Как после этого не согласиться с критиком парижского еженедельника «Экспресс» Дани-
эль Хейманн, которая пишет, что Уорхол «установил свое зеркало в уборной и любуется уродствами!..»