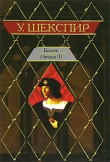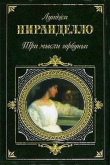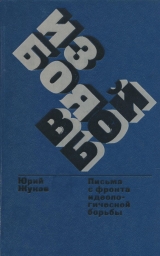
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
Но вот Блумгардену удалось арендовать театр «Фултон». Найден режиссер. Собрана труппа. Каждый раз она формируется заново: только для постановки данной пьесы. Кончится контракт – труппу распустят, и все начинается сначала. Начинаются репетиции. А продюсер все время не знает покоя: окупятся ли его деньги? Хорошо, если будет успех, тогда на пьесу «клюнет» кто-либо в Голливуде, и ее экранизируют. По закону сорок процентов от дохода за экранизацию получит опять‑таки продюсер: ведь пьеса теперь его собственность. Деньги Голливуд платит немалые: если пьесу экранизируют, Блумгарден сразу положит в карман несколько сот тысяч долларов. А доход от постановки пьесы в театре составит от силы несколько тысяч долларов…
– Как видите, – сказал, подумав, Гоу, – доход от театрального бизнеса невелик. А риск… Риск огромен. Во-первых, никто из нас, драматургов, режиссеров, актеров, не застрахован от неудач. А во – вторых, – и это главное! – за тем, что творится на подмостках, пристально следят своими злыми глазами церберы, охраняющие действующий ныне правопорядок: реакционная пресса, церковь, «Американский легион», так называемые «Дочери американской революции» и прочие реакционные организации. И стоит им унюхать запах крамолы, как сразу же у продюсера захрустят кости. Вот почему, встречаясь с нами, продюсеры умоляют: «Ради бога, без политики!» Если ты хочешь затронуть сколько‑нибудь важную в общественном отношении тему, сразу же думай о том, как ее замаскировать. Прибегай к эзоповскому языку, маскируйся, старайся провести продюсера за нос – нелегкое это дело…
– Не надо быть пророком, – заключил мой собеседник, – чтобы предсказать, в каком направлении пойдет развитие послевоенного американского театра. Острых политических пьес будет ставиться все меньше. Все заполонят мьюзикалс – безобидные, веселые музыкальные комедии. Рядом с ними займут позиции вульгарные, развратные пьесы, дающие уже сейчас наибольший доход. Стремясь уменьшить риск, продюсеры будут чаще возобновлять старые, оправдавшие себя в прошлом материально боевики. Ну а нащему брату, бунтарю, придется поискать место где‑нибудь за пределами Бродвея – там не обретешь ни денег, ни славы, но по крайней мере пока еще можно, поднакопив малость деньжонок, поставить за свой счет такой спектакль, какой тебе нравится. Ну, хотя бы так, как поступают сейчас тот же Негритянский репертуарный театр, приютившийся на время в стареньком театральном помещении на Сотой улице, или сам Писка-тор, великолепная мастерская которого работает в жалком подвальчике на Сорок восьмой…
В Негритянском репертуарном театре мы уже побывали, и, честно говоря, его спектакль не произвел на нас большого впечатления, хотя мы отлично сознавали, что сам факт существования такого театра – это подлинный творческий подвиг, настоящий вызов властителям Бродвея.
«Улица ангелов», которую показывали актеры этого театра при полупустом зале, не взволновала зрителей, хотя здесь была не обычная театральная публика, а, так ска зать, публика – болельщик; люди шли сюда не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы своим присутствием ободрить и поддержать черных смельчаков, решивших создать свой собственный, негритянский театр. Игра была неровной, без профессионального мастерства. Зрители бурно реагировали не только на содержание пьесы, но и на игру актеров, бросая им из зала громкие реплики…
Совсем иное, поистине волнующее впечатление произвела на нас Театральная мастерская Эрвина Пискатора, в которой мы побывали в ноябре 1946 года. Имя Пискатора, одного из крупнейших мастеров мирового театра, поставившего в былые годы в Берлине знаменитые спектакли «Гоп ля, мы живем!», «Бравый солдат Швейк» и многие другие, всем памятно. Покинув Германию сразу же после прихода Гитлера к власти, Пискатор обосновался в Париже, где с 1936 по 1938 год читал лекции в созданном эмигрантами – антифашистами Германском университете. Когда же гитлеровцы вторглись во Францию, Пискатор был вынужден эмигрировать в США.
За океаном его встретили с интересом, но не очень приветливо: постановщика «Гоп ля, мы живем!» и «Бравого солдата Швейка» считали красным. Правда, ему дали возможность работать, и он поставил ряд спектаклей; однако денег в его распоряжении было мало, благотворители и пресса не баловали вниманием этого берлинского эмигранта, и он с трудом сводил концы с концами.
А замыслов у Пискатора было великое множество. Он брался за самые трудные и сложные проекты: написал сценический вариант «Американской трагедии» Драйзера и показал его с небольшой провинциальной труппой; поставил «Короля Лира» Шекспира; подготовил и показал «Войну и мир» по Толстому. Теперь все свои творческие силы Пискатор отдал новому замыслу: убедившись в том, как мало и плохо американцы знают мировой театр, он создал свою Театральную мастерскую, которая систематически знакомит зрителей с важнейшими произведениями театрального искусства.
Вы приобретаете всего за десять долларов абонемент, дающий вам право на посещение этой мастерской в течение шести вечеров. В первый вечер вы прослушаете обстоятельную лекцию о предстоящих спектаклях. Назавтра вам покажут «Мнимого больного» Мольера, потом «Двенадцатую ночь» Шекспира, затем «Ревизора» Гоголя, «Сегодня мы импровизируем» Пиранделло, «Синюю птицу» Метерлинка.
Кончится один цикл спектаклей – начнется другой. В репертуаре Мастерской Пискатора десятки самых различных пьес: здесь и «Окаменевший лес» Роберта Шервуда, и «Аристократы» Погодина, и «Предложение» Чехова…
В тот вечер, когда мы спустились по крутой лесенке в подвал, где ютился этот необычный театр, там показывали пьесу «Мыши и люди» по Стейнбеку. Пьеса шла без декораций, в строгой аскетической манере, родственной театрам Мейерхольда и Брехта. Ничего лишнего, никаких отвлекающих деталей – все сосредоточено на раскрытии авторского замысла. Игра актеров скупа и выразительна, они стремятся ярко передать трагедию нищих американских батраков, которые обуреваемы несбыточной мечтой стать фермерами. Спектакль ведет артист с гитарой в руках. Он дает скупой комментарий к тому, что происходит на сцене, и аккомпанирует частыми тревожными ударами по телу своей гитары – этот стук, то учащаясь, то замедляясь, отсчитывает ритм спектакля.
Главные герои – Джордж, сообразительный батрак, и его неразлучный спутник Лэппи, слабоумный, но обладающий чудовищной физической силой человек, – это как бы две части одного существа: мозг и руки. К ним пристает третий – безрукий старик с собакой, заика, скопивший за свою долгую жизнь триста сорок пять долларов.
Они мечтают втроем открыть собственную ферму. Но все события обращаются против них. Распутная жена фермера заигрывает со слабоумным Лэппи, и он нечаянно душит ее, как задушил до этого лаская щенка. За Лэппи охотятся, его хотят линчевать. В критическую минуту Джордж, чтобы облегчить участь своего друга, убивает его выстрелом в затылок…
Пискатор превосходно показал беспросветный тусклый мир американских «мышей и людей», звериный быт фермы, жестокие нравы этой страны. Как всегда бывает у Пискатора, и в этом спектакле – масса интересных творческих находок, открытий в режиссуре и актерской игре. Многое из того, чего нет на сцене, зритель дополняет собственным воображением. Спектакль производит огромное впечатление, но Пискатор, очень требовательный к себе и своим ученикам, недоволен. Зрителям раздают листов ку, в которой он приносит извинения за «недостаточно высокий художественный уровень» постановки, отмечая, что у театра нет необходимых технических средств и что ему приходится работать не с профессиональными артистами, а лишь с учениками, опираясь на лимитированный бюджет…
Когда мы год спустя вернулись в Нью – Йорк и зашли по старому адресу на Сорок восьмую улицу, то Мастерской Пискатора там ужо не застали. Исчерпав свои последние ресурсы, она была вынуждена переехать на окраину – в Даун – таун, где живет беднота: там легче было снять помещение подешевле. А еще некоторое время спустя Пискатор навсегда покинул негостеприимную Америку и вернулся в Берлин.
В последних числах сентября 1947 года меня снова пригласили на премьеру в театр «Фултон» – тот самый, где мы за год до этого видели пьесу Гоу и д’Юссо «Глубокие корни», а затем «Другую часть леса» Лилиан Хеллман. Теперь на афише было написано: «Ответственное решение».
Мне сказали, что на сей раз Блумгарден дал деньги на постановку прогрессивной пьесы, разоблачающей косных и трусливых вашингтонских генералов, не желавших воевать против нацистской Германии, и продажных конгрессменов. Эту пьесу, говорили мне, написал некий Вильям Вистер Хейнс, который сам во время войны служил в штабе авиационной части. Поставил спектакль талантливый режиссер Джон О’Шонесси.
На премьере присутствовала аудитория, в которой можно было безошибочно узнать прогрессивно настроенных людей – достаточно было посмотреть, как бурно аплодировали они, когда актеры произносили острые, обладавшие политической окраской реплики. Некоторые из присутствовавших высказывали опасения, что эту пьесу постигнет та же судьба, какая постигла пьесу Артура Миллера «Все мои сыновья».
Однако случилось обратное: новую пьесу единодушно подняла на щит вся реакционная пресса. Она начала безудержно рекламировать ее. Уже 3 октября в газетах появились гигантские рекламные объявления:
«Сенсационный новый боевик: «Ответственное решение». Незабываемая волнующая пьеса бывшего фронтовика. Блестящий успех! На премьере занавес поднимали девятнадцать раз, чтобы дать возможность публике приветствовать актеров, режиссеров и автора пьесы. Спешите посмотреть! Эта пьеса потрясает вас, как бомба, сброшенная с самолета Б-29».
В чем же здесь дело? Дело в очень тонкой мимикрии, которая многих ввела в заблуждение. В пьесе «Ответственное решение» действительно разоблачаются трусливые генералы и продажные конгрессмены. Но с другой стороны, в этой пьесе превозносится как основной положительный герой жестокий и властный командир авиасоединения, который, не задумываясь, жертвует жизнями своих подчиненных ради поставленной им перед собой задачи; его роль блестяще сыграл выдающийся актер Поль Келли. Многие прогрессивные критики проглядели, какое звучание приобретает эта основная тема в наши дни, когда американские генералы планируют новую войну.
Автор очень тонко играет на еще не угасшем у зрителей с военной поры чувстве ненависти к гитлеровцам и па понятной неудовлетворенности американцев медлительностью высшего командования, препятствовавшего открытию второго фронта. Ему удается вызывать острую реакцию зрителей, которые видят перед собою нерешительных штабных генералов, доказывающих, что не следует идти на «чрезмерный риск», и гастролирующих в военных частях забулдыг конгрессменов, больше всего интересующихся выпивками и рекламой своей поездки в газетах.
Но в то же время исподволь, вкрадчиво, незаметно автор прививает зрителям те идеи, в которых заинтересована сейчас реакционная американская пропаганда. Роль Советского Союза в войне с гитлеровской Германией совершенно затушевана – об СССР автор вспоминает лишь один раз, когда он вкладывает в уста своего главного героя фразу о том, что немцы «отбросили русских к Москве и Сталинграду». Автор всячески представляет дело таким образом, будто войну решают американские авиационные силы – они, и только они. Отсюда зрителю предоставляется сделать вывод: нужно и сейчас создавать мощную военную авиацию. Наконец, как я уже отметил, автор возносит на пьедестал командира части генерала Денниса– жестокого «мясника», как аттестует его одно из действующих лиц пьесы. Именно такого рода генералы устраивают сейчас тех, кто мечтает о новой войне.
Мудрено ли после всего этого, что назавтра же после премьеры херстовская газета «Дейли миррор» напечатала панегирик драматургу и постановщику пьесы, заявив, что она «действует как удар грома». «Все конгрессмены, сенаторы и все американские избиратели должны посмотреть пьесу «Ответственное решение»! – кричала «Дейли миррор». – Нас бы тогда не смогли больше захватить врасплох, и мы бы не рисковали вновь опоздать в решающий момент!..»
В том же духе выступала вся реакционная печать, использовавшая премьеру новой пьесы как один из подсобных аргументов в борьбе за усиление гонки вооружений. И целиком была права газета «Дейли уоркер», которая дала трезвую оценку этой пьесе:
«Тема «Ответственного решения» сводится к тому, что наша страна якобы была бы гораздо счастливее, если бы она не трогала наших генералов, давала бы им беспрекословно все, чего они требуют, не задавая вопросов, и позволила бы им распоряжаться по своему желанию. Подозрительное, мягко выражаясь, предложение, особенно если вспомнить о заигрывании Макартура с Хирохито, о том, как генерал Паттон старался обелить нацистскую партию, и о целом ряде других грязных историй, в которых замешаны наши генералы… Недопустимо, когда в настоящее время используют талантливых деятелей театра для того, чтобы прославлять и возвеличивать поджигателей войны в рядах военщины…»
Поучительный пример с премьерой пьесы «Ответственное решение» лишний раз показывает, насколько ловко подчас действуют в наши дни фальшивомонетчики от искусства, состоящие в услужении у «сильных мира сего» в Соединенных Штатах. Тем внимательнее следует наблюдать за процессами, происходящими в искусстве Запада, не давая обмануть себя приманчивой оболочкой, под которой таится подчас реакционнейшая идея.
И тем больше следует ценить честное творчество тех, к сожалению пока немногих, принципиальных мастеров искусства, которые даже в этой удушливой атмосфере лжи и подлогов остаются верными правде жизни и противопоставляют стряпне фальшивых дел мастеров яркие произведения, показывающие сегодняшнюю Америку без грима и фальши.
Май 1952. Душители культуры
– Право же, порядки Трумэна порой выглядят столь же омерзительно, сколь и порядки Гитлера, а режим Пинэ еще подлее, чем режим Петэна, у которого Пинэ был сотрудником, – сказал мне вчера с гневом один видный французский писатель. – Гитлеровцы по крайней мере не прятали своих гнусных морд под лживыми масками, они говорили откровенно: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за револьвер». Нынче иначе. Убийца Риджуэй притворяется эстетом, он говорит репортерам, будто обожает Марселя Пруста, а его холуи во Франции вопят, что во имя свободы культуры они готовы пойти в крестовый поход до Урала. И в то же время они душат эту самую свободу культуры у себя дома!..
Мы говорили о событии, взволновавшем весь Париж: французские власти, явно действуя по приказу американских оккупантов, только что запретили показ разоблачающей американские действия в Корее пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным», написанной писателем Роже Вайяном и поставленной режиссером Луи Дакэном в театре «Амбигю». Обстоятельства, сопутствовавшие этому запрещению, были столь одиозны, столь чудовищны, что оно приобрело поистпне символическое значение.
Именно в эти днп во Франции американские агенты, возглавляемые небезызвестным антикоммунистом Давидом Руссе и белогвардейцем Набоковым, разыгрывают комедию защиты культуры. Миллионы долларов льются рекой – в Париж переброшены из‑за океана оркестры, театральные труппы, солисты, доставлены частные собра ния живописи. Этот необыкновенно дорогостоящий фестиваль, претенциозно названный «Творчество XX века», призван вызвать в сердцах французов священный трепет перед творениями «атлантического» искусства и убедить их в том, что они должны быть готовы отдать себя на заклание во имя победы «американской культуры» в мировом масштабе.
Ради подкрепления хилого, насквозь фальшивого формалистического американского искусства в программу фестиваля были включены произведения нескольких европейцев. Послушная пресса тут же восхитилась: какое глубокое идейное единство, какой замечательный, поистине атлантический сплав культуры Запада! Но маскировка эта никого не обманула. Французы быстро разгадали подлинную сущность этой американской ярмарки. В статье «Фестиваль НАТО» газета «Комба» написала
7 мая:
«Французские музыканты, в том числе самые великие, были забыты, видимо, потому, что их плохо знают в Алабаме, Айдахо и Нью – Йорке, а балет «Нью – Йорк – Сити» одержал верх над балетом нашей Оперы. Но национальную чувствительность еще можно было бы преодолеть, главное не в этом, а в том, что сия затея маскирует весьма специфическую цель».
Отметив, что организаторы этого «фестиваля» придали ему откровенную антисоветскую направленность, газета «Комба» поставила справедливый вопрос: «Почему не были приглашены на фестиваль брошенные в тюрьму соратники Белоянниса и друзья подвергнутых линчу в США негров? Фестиваль «Творчество XX века», отказавшись от своей претенциозной и неточной вывески, мог бы просто назвать себя фестивалем НАТО».
Любопытно, что именно в дни этого фестиваля «атлантической свободы культуры» в Париже был осуществлен ряд грубейших акций, показавших, чего стоит эта «свобода» на деле: французская полиция запретила показ в Салоне независимых художников картины, отображающей борьбу французского народа против восстановления гитлеровского вермахта под флагом «европейской армии»; префект парижской полиции запретил восстановление разрушенного гитлеровцами памятника Виктору Гюго под предлогом, будто статуя… «создала бы постоянную угрозу Уличному движению». В эти же дни разыгрались и события, связанные с запрещением пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным».
Премьера этой пьесы должна была состояться 8 мая, в канун Дня Победы над гитлеровской Германией. Полиция, зная, что пьеса Вайяна отнюдь не доставит удовольствия палачу Кореи генералу Риджуэю, который как раз в эти дни должен был появиться в Париже в качестве наместника Трумэна в Европе, лихорадочно искала повода для запрещения пьесы. Но в ней не было ничего, что выглядело бы как намек на подрыв существующего во Франции режима; запретить же пьесу лишь на том основании, что она не понравится американскому генералу, означало бы открыто признать, что французская Четвертая республика превращается в некое подобие американской колонии.
И вот тупые полицейские чинуши додумались до самого нелепого маневра, который только можно вообразить, – он сам по себе мог бы явиться темой для комедии. Накануне премьеры в театр «Амбигю» явилась посланная полицией комиссия… пожарников. Она заявила, что запрещает использование театрального здания ввиду того, что оно якобы не отвечает условиям противопожарной безопасности. Это нелепое и трусливое решение парижане встретили саркастическим смехом. «Годовщина Победы едва не стала фатальной для господина Байло, префекта полиции, – отметила 10 мая газета «Либерасьон», – ночью 8 мая он чуть не скончался внезапной смертью, убитый смехом».
Да, «смешное убивает», говорит французская поговорка. Однако Байло выжил, хотя он сам нанес собственному престижу сильнейший удар. Никто в Париже не мог принять всерьез запрещения, якобы продиктованного соображениями противопожарной безопасности: ведь не далее как накануне в здании театра, где должна была состояться премьера пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным», шел другой спектакль, и для него здание театра считалось вполне пригодным. Виднейшие театральные деятели, самые различные общественные организации решительно протестовали против произвола «цензуры, которая не осмеливается назвать себя по имени», некоторые владельцы театров дали согласие на постановку пьесы Вайяна в принадлежащих им залах.
В то же время парижские рабочие решили выбить из-под ног у полиции всякую возможность упорствовать в своем нелепом запрещении. Электрики, плотники, рабочие всех специальностей буквально наводнили театр. Работая день и ночь, они в течение трех суток превратили это здание в форменную противопожарную крепость – ни одно театральное здание Парижа не могло сравниться отныне в этом отношении с театром «Амбигю». В результате повторная ревизия театрального здания экспертами из пожарной команды закончилась плачевно для префектуры полиции: самые придирчивые специалисты были вынуждены признать, что все предписания выполнены. В результате запрет с театрального здания был снят. Парижская общественность, бурно протестовавшая против этой насильственной произвольной меры, одержала победу – на 15 мая была назначена наконец премьера спектакля.
Всем было ясно, однако, что ревнители «атлантической свободы культуры», потерпев первое поражение, постараются отыграться в ближайшие же дни. Еженедельник «Обсерватер» предупреждал 16 мая: «Хитрый Байло использует другую уловку: в ходе первых же представлений несколько полицейских, переодетых в южнокорейцев или в американцев, смогут поднять шум, достаточно удобный, чтобы запретить представления, нарушающие общественное спокойствие. Это был бы легкий фокус, если бы не было слишком поздно: после первой грубой шутки эта никого больше не обманет».
Премьера пьесы, на которую были приглашены виднейшие театральные деятели, критики, писатели, прошла с огромным успехом. Публика высоко оценила как пьесу Вайяна, так и постановку Дакена и игру актеров. Перед зрителями предстала во всем ее напряжении драма Южной Кореи, истекающей кровью под гнетом американских захватчиков. Талантливый актер Пьер Ассо мастерски создал образ американского полковника Фостера, который прибыл в Корею с наивной верой в то, что будто бы он призван защищать в Корее безопасность США и демократические принципы. Вначале он произносит красивые фразы. «Мы не военные преступники, – говорит он лейтенанту Джимми Мак Аллену, докладывающему о том, что американские солдаты разграбили и сожгли несколько Деревень и истребили их жителей, – мы прибыли сюда,
чтобы защищать крестьян против коммунистов, а не для того, чтобы их убивать».
Фостер приказывает арестовать солдат – убийц, но Мак Аллен настаивает на своем: он уверяет полковника, что каждый крестьянин должен рассматриваться как возможный партизан и что позтому‑де истребление гражданского населения неизбежно.
Подумав, Фостер откладывает выполнение своего приказа. В дальнейшем же и он сам становится военным преступником, отдавая приказ об уничтожении города и об истреблении его жителей. В конце захваченный в плен корейскими партизанами американский полковник сгибается под тяжестью совершенных его армией и им самим преступлений и с горечью признает свою вину. Это признание звучит как тяжкий обвинительный приговор всей американской военщине и тому общественному строю, который ее породил.
Бурно аплодировал зал и замечательным образам корейских патриотов, ведущих самоотверженную борьбу против захватчиков и не жалеющих жизни в этой борьбе. С волнением вслушивались зрители в волнующий диалог коммуниста Мазана и патриотки Лиа за несколько минут до расстрела героя. О чем говорят они? О будущем. О том, как после победы над американскими захватчиками народ построит прекрасные новые города, дворцы культуры, парки. «Что передать друзьям?» – спрашивает Лиа. И Мазан, уходя на казнь, отвечает: «Скажи им, что нужно верить в счастье…»
Назавтра, как и следовало ожидать, буржуазная пресса вылила на пьесу Вайяна потоки грязи, но даже она не смогла отрицать того очевидного факта, что этот спектакль явился крупным событием в театральной жизни Парижа. Ряд деятелей театра наряду с этим признал выдающееся идейное значение спектакля. Так, драматург Морис Ростан заявил на страницах газеты «Комба»: «Ничто не может помешать мне аплодировать автору, который стремится обесчестить войну!»
Естественно, что в лагере поджигателей войны столь очевидный успех пьесы Вайяна вызвал пароксизм бешенства, и они решили использовать тот самый провокационный прием, о котором предупредил заранее еженедельник «Обсерватер»: на этот раз в атаку против культуры были брошены уже не пожарные, а бандиты, выступавшие во взаимодействии с силами полиции.
Операция была организована следующим образом. Сигнал к атаке дала газета «Орор», опубликовавшая 16 мая открытый призыв к насилию в виде хулиганской передовой статьи своего редактора Лазурика. В тот же день вечером группа бандитов проникла в зал театра под видом зрителей и в середине второго акта по сигналу устремилась на сцену, атаковала актеров и забросала зал бомбами со слезоточивым газом. Одновременно другая часть банды, вооруженная американскими кастетами, дубинками и ножами, вступила в драку со зрителями. Группа налетчиков набросилась на находившегося во втором ярусе театра помощника режиссера Клода Сотэ и попыталась сбросить его вниз. Зрители отстояли Сотэ, но бандиты успели тяжело ранить его в лицо; помощника режиссера пришлось отвезти в больницу.
Возмущенная публика контратаковала бандитов и вышвырнула их на улицу. Там на подступах к театру находилась другая группа налетчиков. Не решаясь повторить атаку, трусливые бандиты ограничились тем, что вышибли все стекла в театре. Полиция, как всегда в таких случаях, держалась в стороне и сопротивления бандитам не оказала.
Тем временем представление в зале возобновилось, и актеры закончили второй акт под бурные аплодисменты зрителей. Спокойствие восстановилось полностью, как вдруг в антракте в театр ворвался отряд полицейских с дубинками. Комиссар полиции поднялся на сцену и крикнул: «Представление прерывается по приказу префектуры полиции. Прошу всех зрителей покинуть зал». И полиция тут же набросилась на публику, грубо выгоняя ее из театра.
Назавтра за два часа до очередного спектакля в дирекцию театра был доставлен из полиции приказ о запрещении пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным». Генеральный секретарь префектуры полиции ссылался в оправдание этого акта грубого насилия на какие‑то Допотопные законы, в том числе на приказ… консулов Французской Республики от 12 мессидора года VIII, изданный еще до того, как Наполеон Бонапарт стал императором. В приказе было сказано, что показ пьесы запрещается якобы потому, что она… «дает повод для неистовых манифестаций как внутри зала, так и снаружи» и что «в этих условиях показ означенной пьесы способен нарушить общественный порядок».
Эта мера грубого полицейского произвола взволновала общественное мнение Парижа, тем более что за последнее время использование банд в целях полицейских провокаций все учащается. 4 мая был проведен аналогичный налет на конгресс офицеров республиканского резерва. 13 мая некая банда пыталась при помощи такого же приема сорвать митинг в зале Мютюалитэ, где Французская компартия призывала трудящихся Парижа к солидарности с угнетенными народами Северной Африки. 14 мая банда налетчиков атаковала помещение райкома компартии в тринадцатом районе Парижа. И вот 16 мая бандиты были брошены в атаку против театра «Амбигю», где шла пьеса Роже Вайяна…
Комментируя первую попытку полиции запретить пьесу Вайяна под смехотворным предлогом, будто театр, в котором она должна была идти, может стать жертвой пожара, газета «Комба» справедливо писала 9 мая: «Во Франции нет никакого законного предела насилию. Вчера в Салоне снимали «подрывные» картины; сегодня запрещают пьесу, которая может шокировать наших атлантических партнеров. Достаточно вступить на этот путь, чтобы незамедлительно увидеть перспективы, которые он открывает. Когда же будет создана комиссия по антиатлантической деятельности, которая сможет, по – видимому, функционировать как один из органов НАТО? Под покровительством Конгресса свободы культуры, конечно!»
Новое и «окончательное», как подчеркнула 18 мая газета «Журналь дю диманш», запрещение пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным» еще больше усилило негодование французской общественности по поводу растущего произвола во Франции. Газета «Юманите – ди-манш» опубликовала ряд протестов деятелей культуры и искусства. Сотни художников, писателей, учителей, студентов, собравшихся 17 мая на конференцию защиты культуры, приняли обязательство «организовать всеобщий и торжественный протест парижских интеллигентов и требовать отмены запрещения пьесы Роже Вайяна».
Реакция слишком рано торжествовала свою сомнительную победу, одержанную сводными силами бандитов и полицейских над мужественной и благородной группой людей искусства, осмелившихся сказать вслух правду о грязной захватнической войне американских агрессоров протип корейского народа.
Сейчас, когда книга сдается в печать, театр «Амбигю» уже не существует – его снесли. Нет в живых и автора пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным», – Роже Вайян скончался от рака легких в ночь на 12 мая 1965 года в деревушке Мейонас департамента Эн, где у него был свой домик. В последний раз мы виделись с ним там в марте 1954 года. В то время Вайян, вступивший за два года до этого во Французскую коммунистическую партию, вел активную политическую деятельность среди крестьян.
Это был прекрасный писатель и мужественный человек. В годы второй мировой войны он активно участвовал в движении Сопротивления, выполняя опаснейшие задания: вел разведку против гитлеровцев, пускал под откос их поезда. И в то же время писал. Да, – писал роман «Странная игра», посвященный Сопротивлению. Этот роман был опубликован сразу же после победы. Он имел большой успех у читателей и в 1945 году был удостоен литературной премии «Энтералье»; Вайяну исполнилось тогда тридцать восемь лет.
Верный старой доброй традиции реалистического письма, Роже Вайян одарил послевоенную французскую литературу целым рядом романов, исторических эссе, пьес, сценариев, репортажей о дальних странах, – он очень любил путешествовать. Его роман «Закон» – о нравах юга Италии – в 1958 году был увенчан премией Гонкура. Книги Вайяна переиздаются вновь и вновь – они пользуются успехом у читателей.