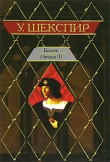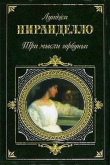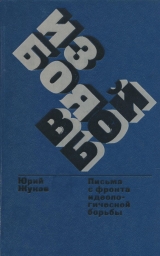
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
Писатель Клод Морган, один из основателей газеты «Леттр франсэз», резко выступил против попытки амнистировать литераторов, сотрудничавших с гитлеровцами, предать забвению их измену. «В литературе, как и в политике, люди Мюнхена были у нас скандально пощажены! – воскликнул он. – Нельзя потерять честь на время, ее теряют навсегда. Прощать предателей было бы преступно. Помните вдохновенные строки Элюара: «На земле не может быть спасения, когда могут прощать палачей»!».
Писатели Жан – Ришар Блок, Поль Элюар, Луи Арагон, знаменитый французский актер и режиссер Луи Жуве и многие другие призывают к сплочению прогрессивных сил французской интеллигенции.
«Я никогда не забуду, какое замечательное единение царило между католиками и коммунистами в дни, когда мы боролись против фашизма, даже в те трудные дни, когда находились в концлагере, – сказал писатель – католик Кэроль. – Нас объединяли ненависть к фашизму, любовь и преданность к Франции. Эти чувства должны объединить нас и сейчас, когда мы боремся за дело мира».
Аонятно, не все выступления участников конгресса были одинаково целеустремленными. Некоторые интеллигенты Франции все еще не представляли себе достаточно отчетливо ту роль, которую они могут сыграть в борьбе с подымающей голову реакцией. Но при всем том конгресс явился весьма яркой и выразительной демонстрацией сплоченности французской интеллигенции, ее преданности идеалам демократии, ее ненависти к фашизму, ее готовности отдать все силы делу мира во всем мире.
Да, гром уже грянул. В почерневшем, затянутом тучами послевоенном небе заблистали первые атомные молнии. Из‑за океана донесся хриплый рык новых претендентов на мировое господство. Наиболее проницательные люди поняли, что впереди новый период острой классовой борьбы, который, быть может, затянется на десятилетия. И перед каждым честным творческим деятелем вновь встал во всей своей остроте бессмертный вопрос Горького:
– С кем вы, мастера культуры?
Январь 1950. Смерть в душе
«Смерть в душе» – так называется новый роман Жан-Поля Сартра, писателя и философа, весьма популярного в послевоенном Париже, особенно среди студенческой молодежи. Я не хочу вдаваться в анализ творчества этого, бесспорно, одаренного, но крайне сложного по своей природе идеолога – читатель слыхал, конечно, что он является приверженцем и проповедником экзистенциализма, концепции мрачной и горькой, исходящей из ничтожества и бессилия человека перед обстоятельствами суровой и неумолимой жизни. Если кто‑либо пожелает подробнее разузнать об этой концепции, пусть обратится к трудам о современной философии. Меня же сейчас Жан – Поль Сартр интересует прежде всего как писатель, поскольку в этом письме речь пойдет о некоторых важных явлениях во французской литературе, происходящих на рубеже сороковых и пятидесятых годов.
Надо сказать, что творческий путь этого писателя и философа сложен и весьма извилист. Иногда он довольно смело занимает прогрессивные позиции, солидаризируясь с марксистами, прежде всего в вопросах борьбы за мир. Но чаще Сартр выступает с резко антикоммунистических позиций, достаточно хотя бы вспомнить его пьесу «Грязные руки», содержащую непристойный поклеп на коммунистов.
Писатели и философы, стоящие на платформе марксизма, относятся к Сартру с большим тактом и, я бы сказал, терпимостью, учитывая, что он в свое время участвовал в движении Сопротивления и выступает за мир и на циональное освобождение народов колоний. При всем том, однако, они не могут не отдавать себе отчета в том, что философия Сартра, гласящая, что сознание свободы человека есть в то же время сознание одиночества человечества и его обреченности, что ничто в бытии не обеспечивает и не гарантирует ценности и возможности успеха действия, что сущий мир вообще не имеет смысла, – лишает действия сторонников этой философии какой бы то ни было эффективности в борьбе против старого мира.
Ведь именно сейчас, когда бушует «холодная война», развязанная империалистами, особенно важна действенность борьбы за мир, против сил агрессии и войны, проводимой широчайшим единым фронтом всех, кто разделяет эти цели. Тем с большим интересом раскрыл я новый роман Сартра – мне очень хотелось думать, что в трудной обстановке этих дней он нашел в себе силы отрешиться от старых концепций и сказать новое, прогрессивное слово. Увы, забегая вперед, я скажу сразу, что роман Сартра не только не оправдал этих надежд, но и вызвал самое глубокое разочарование.
Этот роман посвящен памятным событиям июня 1940 года – тем трагическим дням, когда Франция, преданная правительством Даладье – Рейно, переживала ужас поражения и фашистского завоевания. Эти события Сартр и использует как канву, на которой он вышивает узор своего сюжета. Но что это за сюжет!
Начнем с того, что в новом романе Сартра от первой до последней строки настойчиво пропагандируется зловещая философия «человек человеку – волк». На двухстах девяноста трех страницах убористого текста вы не найдете ни одной сценки, где люди помогли бы друг другу, выручили кого‑нибудь бы из беды. Нет, герои романа всегда, везде и при любых обстоятельствах только посмеиваются друг над другом и зарабатывают на чужой беде. Такое их поведение только регистрируется автором, оно никогда не вызывает у него осуждения.
Вот испанский эмигрант Гомец, боровшийся в 1936–1938 годах против Франко; он нашел убежище в США. Его жена осталась в Париже. Казалось бы, в силу одного этого факта он должен был бы проявить какое‑то беспокойство по поводу того, что гитлеровцы вступили в Париж, возмутиться, встревожиться. А как поступает этот человек в романе? Он говорит своему приятелю-
американцу: «Мне это приятно. Когда Франко входил в Барселону, они (французы) покачивали головой, говорили, что это грустно, но никто и пальцем не пошевельнул. Так вот, теперь их очередь».
Вот парижане, покинувшие столицу и уходящие от гитлеровцев на юг. Сартр с каким‑то болезненным любованием рисует сцены паники, сумятицы, неразберихи на дорогах Франции. Люди, бегущие из Парижа, думают каждый о себе, никто не думает о ближнем. Они грабят друг друга, они готовы пойти на любое преступление, лишь бы нажиться на этом ужасающем бедствии нации. Конечно, подобные нравы были свойственны определенному меньшинству французов, и прежде всего крупной французской буржуазии, которая поспешила протянуть руку сотрудничества Гитлеру. Но Сартр рисует не этих мерзавцев, нет. Он ведет рассказ о каком‑то шофере, который грабит на страшном пути бегства из Парижа бедную француженку.
Вот французская армия, обманутая и брошенная своими генералами, разгромленная, растерянная, охваченная отчаянием и покорно ожидающая гитлеровцев, чтобы сдаться в плен. Сартр уходит от анализа причин разгрома, от анализа разноречивых настроений, которыми были охвачены солдаты. Он предпочитает детально описывать отвратительные сцены насилия, пьянства, разложения солдат, потерявших человеческий облик и погрязших в скотстве. Вероятно, и такие сцены имели место в те дни во Франции. Но, обобщая их и не показывая ни одной светлой личности, Сартр, хочет он этого или не хочет, возводит поклеп на свой народ. Этот поклеп, бесспорно, используют те, кто сейчас хотел бы задним числом очернить здоровые силы нации, которые не покорились гитлеровцам, не дали Петену и Лавалю увлечь себя демагогической пропагандой «сотрудничества» с гитлеровцами и развернули всенародную партизанскую войну против фашистов; как рассказывали мне многие участники Сопротивления, путеводной звездой им в этой борьбе служил великий вдохновляющий пример СССР, который, по сути дела, вел один на один историческую битву против гитлеровской Германии и ее сателлитов.
Особенно бросается в глаза подчеркнутая враждебность автора к коммунистам, этой самой здоровой, крепкой силе французской нации. Он не проявил при этом никакой изобретательности и воспользовался старыми штампами. Я не буду здесь цитировать эти недостойные нападки – все знают героизм и благородство Французской коммунистической партии, потерявшей в битвах против гитлеровцев семьдесят тысяч лучших своих сынов. Естественно, что клеветнические домыслы, содержащиеся в романе, не могут сбить с толку читателей, они подействуют разве что на самую отсталую публику.
Но автор романа идет еще дальше. Как это ни страпно, он там и сям сеет фразы, которые должны навести читателя па мысль, будто французы не хотели бороться против фашизма и, больше того, припяли его как… избавление от всех бед. Да – да, послушайте, что говорят герои этого романа!
– Они ничего нам не сделают, они такие же люди, как и вы, – говорит один солдат другим. – Не сумасшедшие же они! Они вам папирос дадут, да – да. Шоколад! Это называется пропаганда, берите, и больше ничего, это вас ни к чему не обязывает…
Когда же присутствующий при этой беседе «старомодный» крестьянин говорит, что он не хочет превращаться в немца на старости лет, этот солдат иронически восклицает:
– Вы слышите, а? Нет, я предпочитаю быть живым немцем, чем мертвым французом…
А главный герой романа, интеллигент Матье, которому автор явно симпатизирует, мрачно вещает:
– В Париже немцы поднимали глаза к небесам и читали в них свои победы и свое будущее. У меня нет будущего… Нужно убивать этот день по частям, минута за минутой…
– Нас хотят уверить, что мы еще мужчины. Да нет же! Да нет же! Какой фарс!.. Мы просто шуты гороховые, которые не заслуживают ни одной слезы…
И только тогда, когда приходят наконец гитлеровцы и берут в плен этих жалких деморализованных людей, которых столь красочно рисует Сартр, в их душах поселяются мир и благоволение. Это место романа весьма характерно; в нем как бы сконденсирован замысел «Смерти в душе»:
– Теперь происходила передача власти, – пишет автор. – Теперь они (французские солдаты) переходили в руки немецких офицеров. Теперь они должны были отдавать честь фельдфебелям и обер – лейтенантам – офицерская каста интернациональна (!).
И само водворение пленных в гитлеровский концлагерь автор рисует поистине идиллически: он утверждает, будто бы пленные чуть ли не обрадовались, когда немецкие часовые, поднявшись на вышки, направили на них свои пулеметы. «Никто не испугался, – уверяет он, описывая эту «передачу власти», – люди устраивались на ночь. На вышках стоят часовые, и они предвещают спокойную ночь, без приключений. Никакое приказание теперь не нарушит их сон, не бросит их снова в дорогу. Они чувствуют себя в безопасности (!)».
Зачем понадобились эти рассуждения о том, будто бы заключенные в концлагере «чувствуют себя в безопасности»? На кого они рассчитаны? Уж не на тех ли, кто сейчас из кожи лезет вон, пытаясь создать благоприятную атмосферу для пассивного восприятия готовящейся нынче ремилитаризации Западной Германии? Определенный свет на это проливают циничные высказывания еще одного героя романа – американца Ритчи. В беседе с приятелем Ритчи заявляет:
– Мир не бывает ни демократическим, ни нацистским. Мир – это просто мир… Они (гитлеровцы) такие же люди, как и всякие другие… Если у них хватит ума, они позволят каждой завоеванной стране управляться по – своему в лоне европейской федерации (!). Что‑нибудь вроде наших Соединенных Штатов…
Эту тираду Сартр относит к 1940 году, но паписал‑то он ее в 1949 году. Его герой – американец ведет речь о планах Гитлера в отношении завоеванной им Западной Европы, но сейчас эти слова звучат как повторение тех речей, которые мы сто раз в день слышим на разных «атлантических» форумах, посвященных планам создания «Соединенных Штатов Западной Европы» под американской опекой.
Знаменательно, что у Сартра не нашлось слов для осуждения этих планов. Оно и понятно: автор романа сам гордится своим пренебрежением к идее национального суверенитета. Но вот вопрос: как быть с французским пародом, который не мирился и не мирится с потерей национальной независимости? Как быть с докерами Сен-Назера, которые, невзирая па жестокую безработицу, отказываются разгружать пароходы с американским воору-
жением, заявляя: «Лучше умереть с голоду, чем работать на поджигателей войны»? Как быть с парижскими металлистами, которые отказываются производить оружие для войны, планируемой американскими генералами? Как быть с солдатами, отказывающимися стрелять в народ Вьетнама, завоевание которого входит в планы франко – американских монополий? Достаточно поставить такой вопрос, чтобы у защитников романа «Смерть в душе», витийствующих в парижских кафе, пересохло в горле.
Было бы неправильно, конечно, упрощать вещи и рассматривать новый роман Сартра как некую пропагандистскую брошюру, рекламирующую прелести превращения Западной Европы в придаток «американской империи», о чем шумят сейчас многие атлантические теоретики. При внимательном и объективном чтении романа в нем можно найти и правдивые детали, иллюстрирующие трагедию, которую в 1940 году пережила Франция, разгромленная «третьим рейхом». Но вот что бросается в глаза: на всем лежит отвечающая философии экзистенциализма глубокая безнадежность и отчаяние.
Читая этот роман, невольно думаешь о том, что западноевропейская буржуазия все еще не оправилась после войны: она даже не смеет мечтать о восстановлении былого величия своей колониальной империи; ей не до жиру – быть бы живу. Когда‑то американец Марк Твен написал сатирическое произведение «Янки при дворе короля Артура». Теперь порядок вещей изменился: западноевропейские короли (угольные, нефтяные и прочие) почитают за честь стать дворецкими при дворе янки.
Американский хозяин требователен. Он хочет, чтобы дворецкие, состоящие у него в услужении, не только ходили перед ним на цыпочках, но были способны подраться за него, а не то и друг другу дать по физиономии, если им будет приказано.
Люди без родины, без идеалов, люди, носящие смерть в душе, кажутся американскому хозяину подходящим материалом для создания кадров, необходимых для новых войн, планируемых генералами в штабах Атлантического блока. Что, у них нет большой идеи, за которую они могли бы умирать? Неважно, пусть обойдутся мелкой бандитской идейкой, ну хотя бы вот этой: можно убивать ради собственного удовольствия.
Эта мыслишка усиленно насаждается издаваемой огромными тиражами мелкотравчатой литературой о гангстерах (особенно в фаворе сейчас американский сочинитель Майк Сииллэн, в романах которого на каждой страничке по три трупа), фильмами о преступлениях и т. д. и т. и.
Я не ставлю, конечно, Сартра на одну доску с сочинителями таких «произведений». Но неумолимые факты доказывают, что роман «Смерть в душе» – пусть не по заказу, а просто потому, что тут сказалась мрачная экзистенциалистская философия Сартра, – работает в том же направлении. Да, в том же направлении. Предположим, этот роман приобрел человек, который не знает, кто такой Сартр, и не знаком с его философией. Что же он подумает о героях этого романа, о тех, кто носит смерть в своей душе, чье сознание безнадежно отравлено трупным ядом, чьи поступки диктуются не какими‑либо моральными канонами, а звериными инстинктами?
«Смерть в душе» – чего же стесняться?
«Смерть в душе» – зачем же задумываться над вопросами жизни и смерти?
«Смерть в душе» – зачем же щадить стариков и младенцев? В руке у тебя пистолет, компактное, удобное орудие умерщвления; нажми гашетку – и все «проклятые вопросы» будут разрешены в одно мгновение!
Один защитник Сартра, споря со мной об этом романе, заявил:
– Вы говорите о романе Сартра «Смерть в душе» как о книге, которая работает на тех, что стремится перечеркнуть историю минувшей войны и прочее. На самом деле этот роман, третья часть трилогии Сартра, остается важнейшим документом огромного влияния войны на французскую интеллигенцию, доказательством перестройки (?!) даже экзистенциализма под влиянием войны и Сопротивления. Сартр не «перечеркивал»; наоборот, в годы уже начавшейся «холодной войны» и нараставшей социальной индифферентности он напоминал о минувшей войне, он даже своего героя – экзистенциалиста выпудил взять винтовку и стрелять в наступавших фашистов…
Ну что ж, давайте обратимся к тексту романа, к этой знаменитой сцене на колокольне, когда герой романа Матье берется за винтовку. В каких обстоятельствах это происходит и ради чего он стреляет?
Мне не хотелось бы утруждать читателя обилием цитат из романа. Но коль скоро возник спор, я должен воспроизвести здесь соответствующие детали.
После долгих скитаний по дорогам отступления Матье примыкает к горсточке стрелков, которые – я цитирую роман – «просто так, чтобы позабавиться» (!), решают забраться на колокольню и открыть огонь по немцам. Эта идея ему нравится. «Он нажмет на гашетку – и сразу что-то произойдет. Что‑то окончательное, думал он, смеясь… У него появилось желание убить других: это занятно и легко…»
Матье стреляет не потому, что хочет остановить врагов, пришедших завоевать Францию. Нет, эта стрельба для него лишь своеобразный спорт. Ему безразлично, в кого стрелять; гитлеровца, которого он убивает, Матье именует беднягой; и тут же вместе со своими приятелями переносит огонь на здание мэрии, в котором обороняется группа французских солдат. Почему? «Там воет раненый, не хочет подохнуть».
И вот кульминационный момент этой сцены: гитлеровцы переходят в атаку, и Матье открывает ураганный огонь. Во имя чего? Во имя защиты родины? Ничего подобного! Сартр не оставляет никакого сомнения в том, что его герой движим стремлениями, далекими от такой цели:
«Он приблизился к парапету и начал стрелять стоя. Это был огромный реванш: каждым выстрелом он мстил за прежнее сомнение. Выстрел за Лолу, которую я не осмелился обокрасть; выстрел за Марсель, которую мне следовало бросить; выстрел за Одетт, с которой я не захотел поспать… Он стрелял, законы взлетали в воздух. Люби ближнего, как самого себя. Бац в эту вонючую морду! Не убий. Бац!.. Он стрелял в Человека, в Добродетель, в самый Мир. Свобода – это Террор. Огонь бушевал в здании мэрии, огонь бушевал в его голове: свистели пули, свободные, как ветер. Весь мир сейчас взлетит на воздух, и я вместе с ним… Не о чем больше просить… Есть время только для того, чтобы выстрелить в красивого офицера, в Красоту Земли, в улицу, в цветы, в сады, во все, что он любил… Он был чист, он был всемогущ, он был свободен…»
Таков портрет героя романа, французского интеллигента, с любовью и симпатией выписанный Сартром.
А
Спрашивается: чем отличается философия этого героя от размышлений эсэсовцев, которые тоже заявляли, что они готовы убивать всех направо и налево, чтобы доказать, что «белокурая бестия» «чиста, всемогуща и свободна»?
И не случайно приведенная мною цитата кочует в эти дни из одной реакционной газеты в другую – они наперебой хвалят роман. Даже те «респектабельные» критики, которые до сих пор сторонились «розового» Сартра, сейчас вынуждены отдать дань возродившейся моде на его философию.
На страницах газеты «Монд» академик Эмиль Энрио стыдливо спрашивает себя: «Что это – Жан – Поль Сартр немного разбавил свое вино или это я привык к его купоросной кислоте? Но я нахожу, что его последний роман превосходен». «Эпизод на колокольне» Энрио превозносит как шедевр Сартра. Он особенно подчеркивает, что Матье «первый раз в жизни» почувствовал себя свободным только тогда, когда убивал других. Многообещающее открытие, неправда ли, господин академик? «Свобода заключается в том, чтобы либо убивать, либо быть убитым – третьего, по мнению Сартра, не дано», и маститый критик «Монд» ставит по сему поводу огромный восклицательный знак, расползающийся на целый газетный подвал.
Безудержное прославление «Смерти в душе» встретило суровый отпор со стороны прогрессивной прессы. Так, Андре Вюрмсер на страницах «Леттр франсэз», изобличив автора романа в многочисленных передержках и фальсификациях, доказал, что «Смерть в душе» дает искаженное, неправильное представление о памятных событиях 1940 года. Он противопоставил «Смерти в душе» роман Арагона «Коммунисты», в котором эти события нашли честное и объективное отражение.
И все‑таки нельзя не видеть, что новый роман Сартра продолжает оказывать определенное влияние на какую‑то часть читательской аудитории. Больше того, его философия берет в плен некоторых других писателей, оказывая на них большее или меньшее влияние.
Декабрь 1963. Ад, вымощенный словами
Наш мир – это ад, ад, ад, ад…
Жак Одиберти
Каждую осень на парижской литературной ярмарке вспыхивает необычное возбуждение: близится присуждение ежегодных литературных премий, поэтому издатели спешат выбросить на рынок самые новейшие, самые моднейшие произведения. Игра стоит свеч: издатель, которому посчастливится, например, подцепить для изданного им романа Гонкуровскую премию, может спокойно рассчитывать на продажу ста тысяч экземпляров этой книги, а по французским масштабам такой тираж баснословен.
Известный парижский критик Пьер де Буадефр с грустью писал по этому поводу в «Нувель литтерер» еще в феврале 1962 года: «Литература превратилась в рекламное предприятие: книги выбрасываются на рынок, как новые марки мыла. Все хорошо для того, кто хочет приобрести известность: назойливая самореклама, скандал, провокация». И, пожаловавшись на то, что за последние два десятилетия французская литература почти не дала новых имен, а писатели с именем написали очень мало выдающихся произведений, критик с горьким юмором заметил: «Источники не иссякли, но вода уже не имеет прежнего вкуса».
Не будем здесь вдаваться в область столь шпроких и ответственных оценок: это – дело самих французов. Нельзя, однако, не согласиться с тем, что низведение литературы до уровня заурядного бакалейного товара весьма пагубно сказывается не только на ее престиже, но и на качестве. Где уж думать о качестве, когда надо поспеть к ярмарке: именно в сентябре – октябре, и никак не позже, парижские издательства выстреливают залпом свои сто – полтораста романов. Не поспел автор к сроку – тем хуже для него: после окончания сезона присуждения премий его товар рискует оказаться незамеченным. Да и будет ли охота у издателя возиться с ним? И вот начинается осенний гон писательской продукции. Но бог ты мой, что это за романы, что за сюжеты, что за ситуации! Вселенная многих авторов все чаще ограничивается пределами одного дома, одной комнаты – по преимуществу спальни – и даже одной кровати.
Но обратимся к тем книгам, которые находились в центре внимания парижских критиков осенью 1963 года, когда развертывалась яростная борьба за литературные премии. Начнем с романа Жака Одиберти «Гробницы закрываются плохо», вышедшего в самом солидном издательстве Галлимара. Жак Одиберти – это не какая‑нибудь случайная фигура на парижском горизонте. Он весьма популярный писатель, автор пятнадцати романов, двадцати четырех пьес и шести сборников стихов (в одном из этих сборников я и заимствовал строку «Наш мир – это ад, ад, ад, ад…», поставленную в эпиграф).
Раскроем же новый роман Одиберти. Он начинается так: «Ламбер нанес в пустоту четыре удара кулаком, потом такое же количество ударов ногой, напевая: «Ля… ля… ля… ля… ля. Черные глаза любят розовые платья… Ля… ля… ля… ля… ля… Уже давно они страдают от этого невроза… Ля… ля… ля… ля… ля… Черные глаза любят платья с метаморфозами… Ля… ля… ля… ля… ля… Тем временем на моем балконе я поливаю… ля… ля… ля… ля… ля… цветы петунии»».
Что же происходит? О чем идет речь? О каких гробницах? Почему они плохо закрываются? При чем тут черные глаза и розовые платья с метаморфозами? Вы можете задавать автору тысячи вопросов, но ему до них нет дела. Он играет в слова, увлекается их сочетаниями, а сюжет, фабула – это дело десятое; главное, чтобы все выглядело странным и необычным. Так складывается повествование, суть которого сводится к следующему.
Дело происходит в Ницце и некоем Жуантибе (соединение названий двух курортов – Жуан – ле – Пэн и Антиб). Архитектор Бозели, построивший сорок домов и разработавший проект искусственного острова, таинственно погибает в море. Его вдову, по имени Армид, преследует гроз-
яая и всемогущая строительная компания, которой она отказывается отдать его чертежи. Компания подсылает к ней торговца поджаренным в сахаре миндалем, армянина по национальности, который похищает у Армид душу и подменяет ее своей собственной – Армид сразу же начинает говорить по – армянски. Тогда в поисках спасения она направляется в «институт прикладного магнетизма», но там какая‑то старая женщина вместо того, чтобы помочь Армид вернуть ее душу, начинает рассказывать ей о своем экстравагантном прошлом. После долгих злоключений несчастной вдове удается воспроизвести в памяти тот день, когда исчез ее муж. Она идет за ним по пятам, приходит на берег моря – Бозели, невредимый, появляется среди волн: гробницы действительно закрываются плохо!
Таков тощий и странный сюжет, который удается выудить из двухсот тридцати шести страниц текста этого романа, изобилующего тысячью и одной ненужной деталью в духе «нового романа», с образчиками которого достаточно обстоятельно познакомили наших читателей журналы «Иностранная литература» и «Новый мир». Читатель так и не может догадаться, как следует понимать то, что он прочел у Одиберти: то ли это бред женщины, сошедшей с ума от горя, то ли это некое символическое построение, то ли это «свободная игра непринужденного ума» писателя, которому нравится произвольно расставлять слова и фразы в причудливых сочетаниях: «Ля… ля… ля… ля… ля… Я поливаю на балконе… ля… ля… ляля… ля… цветы петунии»?
И право же, нельзя не согласиться с критиком еженедельника «Экспресс» Аленом Жофруа, который при всем почтении к этому маститому автору с укором заметил, что Одиберти «загнал нас в тупик языка, и мы не знаем, что делать, ибо язык, влюбленный в самого себя, – это беличье колесо, в котором читатель бессмысленно крутится на протяжении всех двухсот тридцати шести страниц».
«Наш мир – это ад, ад, ад, ад…» – написал однажды Одиберти в своих стихах. Да, тот мир, который он создал в последнем романе, – это поистине ад, вымощенный словами, которые копошатся, прыгают, жестикулируют, кричат, но что кричат – неизвестно. Так его творчество тонет в бессмысленности.
И как тут не вспомнить замечательные слова А. М. Горького, который еще в 1936 году разглядел своим зорким оком первые симптомы болезни, от которой уже тогда начала хиреть литература буржуазии! «Формализм, – писал он, – как «манера», как «литературный прием» чаще всего служит для прикрытия пустоты или нищеты души. Человеку хочется говорить с людьми, но сказать ему нечего, и утомительно, многословно, хотя иногда и красивыми, ловко подобранными словами, он говорит обо всем, что видит, но чего не может, не хочет или боится понять. Формализмом пользуются из страха перед простым, ясным, а иногда и грубым словом, страшась ответственности за это слово. Некоторые авторы пользуются формализмом как средством одеть свои мысли так, чтоб не сразу было ясно их уродливо враждебное отношение к действительности, их намерение исказить смысл фактов и явлений. Но это относится уже не к искусству слова, а к искусству жульничества» [14]14
М. Горький. Собр. соч. в 30–тн томах. М., 1953, т. 27, стр. 523–524.
[Закрыть].
Обратимся к другой парижской новинке, которой в канун распределения нремий сулили самое заманчивое будущее, – снимем с полки роман парижского писателя Бертрана Пуаро – Дельпеша с интригующим названием «Изнанка воды».
В 1958 году Пуаро – Дельпеш за свой роман «Верзила» был уже увенчан премией Энтералье (дословный перевод– «Межсоюзническая»), обычно присуждаемой за художественные произведения, принадлежащие перу журналистов, так сказать «союзников» писателей по профессии. Стиль, сюжет, композиция этого романа были выдержаны в традициях критического реализма. Его героем был Ален Кеснар, молодой человек Франции середины XX века, разочаровавшийся в стандартных ценностях буржуазного образа жизни. Вначале Ален жил как трава растет – легко и бездумно: автомобиль, поездки на Лазурный берег, привлекательная любовница – вот предел его мечтаний. Моральные проблемы его не волновали. «Ложь в конце концов самое естественное и нормальное средство» – таков его девиз. Так было до тех пор, пока он не увидел, как пользуются ложью другие и к чему это ведет. Случилось это на судебном процессе: он попал на скамью подсудимых, так как невольно убил в драке своего противника. Теперь Алену захотелось говорить правду. Он решил рассказать, как в детстве мать пичкала его прописными истинами, как в обществе лицеистов у него возникло желание отведать запретный плод, как потом он стремился любой ценой добиться высокого положения в обществе, чтобы вести светский образ жизни, и как в конце концов все это вызвало у него горечь и отвращение. Но Алену не удалось об этом рассказать – ему просто заткнули рот. Почему? – мучительно раздумывает автор. Ведь то, что он хотел сказать, как будто бы не представляет никакой опасности для республики…
Пуаро – Дельпеш покинул своего молодого героя на распутье, и читатели, естественно, с интересом ждали продолжения начатого им большого разговора. Однако в своем новом романе «Изнанка воды» он счел за благо не возвращаться к этому разговору. Да и по форме новый роман Пуаро – Дельпеша оказался так же далек от своего предшественника, как небо от земли. В погоне за модой и этот литератор решил поставить крест над реализмом. Его издатель, получив рукопись, немедленно объявил, что «Изнанка воды» – это совершенно новое слово в литературе, стереороман, якобы идущий на смену немного потускневшему «новому роману». И сразу же газеты начали сулить Пуаро – Дельпешу Гонкуровскую премию (забегая вперед, скажу, что он ее все же не получил).
Что же представляет собой «Изнанка воды»? Даже видавшие виды парижские литературные критики, активно симпатизирующие своему собрату по перу (Пуаро – Дельпеш печатает критические статьи в газете «Монд»), становятся в тупик, когда им задают этот простой вопрос. Сам издатель отказался изложить содержание «Изнанки воды» в информационном сообщении о выходе книги.
Начинается книга в остром, экспрессивном стиле, разговор ведется от первого лица: «Вначале – ночь, вода и взгляд. Летний вечер. Я обдумываю какой‑то план. Дождь загоняет меня в подворотню. Лужа. В ней дробится мое отражение. И позади меня – взгляд частного детектива, обещающий «любое незаметное наблюдение»».
Полицейский роман? Что вы! Пуаро – Дельпеш счел бы себя глубоко оскорбленным, если бы кто‑либо в его присутствии высказал такое предположение! Нет же, это стереороман! Его главный герой, некий Шан Роанн, скорее родственник героев итальянского драматурга Пиранделло – только к нему приглядишься и начнешь его понимать, как он поворачивается к тебе другой стороной, и перед тобою новая психологическая (или психопатологическая?) загадка.