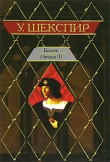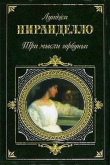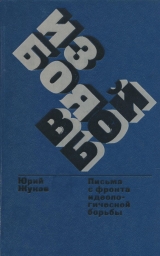
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
Что же гонит писателей буржуазного мира в зыбучие пески? Ведь они не автоматы с механическими сердцами, за исключением горстки шарлатанов и мистификаторов, это живые, честные люди, искренне ищущие что‑то новое, отвечающее духу времени, среди них есть и прогрессивные деятели! Почему же они избирают эту страшную долю людей без языка, добровольно обрекая себя на участь бесхитростных героев Короленко – неграмотных мужиков с Волыни, заблудившихся и едва не погибших в чужом для них американском людском океане?
Пытаясь найти ответ на этот вопрос, уже упомянутый мною парижский критик Пьер де Буадефр писал 15 февраля 1962 года в еженедельнике «Нувель литтерер»:
«Перейдем теперь к причинам. Одна бросается всем в глаза: положение современного мира. Невесело писать в эпоху тотальной войны, лагерей смерти, атомного оружия, террора – одним словом, под знаком Апокалипсиса. Отсюда недалеко до вывода, что человек – это мертвец в отпуску, что планета обречена, что цивилизация – это дымовая завеса, что гуманизм – это шутка, которая слишком долго длится. И многие писатели, как кажется, стремятся как можно больше раздуть несчастье нашей эпохи. Абсурдность творчества стала для них догмой столь же неопровержимой, какой вчера было существование бога.
Не без оттенка садизма обращаются наши писатели к проблемам той бойни, свидетелями и жертвами которой мы стали. Охваченные неведомо каким угрюмым наслаждением, они мастерят терпкий напиток из боли и крови людей, из года в год увеличивают дозу эротики и насилия, чтобы взбодрить наши притупившиеся чувства. На смену медленно строившимся, вскормленным опытом всей жизни произведениям, крепко укоренившимся в том обществе, к какому они были обращены, приходят нечленораздельные выкрики, носящие характер вызова с привкусом скандала и провокации… От произведения освобождаются как в спазме».
Конечно, эта нещадная оценка, которая звучит как приговор, не может быть адресована всей современной литературе буржуазных стран, в том числе и Франции. Эта оценка справедлива в отношении лишь части ее, но, к сожалению, весьма значительной, ибо среди литераторов Запада, не говоря уже о прогрессивных писателях, сохраняющих верность своему гражданскому долгу, есть немало таких, которые вопреки всему сохраняют верность реализму и создают значительные произведения.
И все же жестокие слова Пьера де Буадефра вполне справедливы в отношепии той современной буржуазной литературы, которая, изменив традициям Бальзака, Стендаля, Флобера и других титанов человеческой мысли, разменяла свой талант на скандальные «нечленораздельные выкрики», как выразился французский критик, либо превратила его в «игрушку праздных ленивцев», как писал Белинский.
Нет страшнее преступления – сделать искусство игрушкой праздных ленивцев. Но не к этому ли сводятся усилия неутомимых создателей того романа «модерн», лучшим образцом которого Анри Хелл считает «Изнанку воды» Пуаро – Дельпеша?.. Мне вспоминается сейчас знаменательный спор на международной встрече писателей в Ленинграде летом 1963 года между Константином Симоновым и Аленом Робб – Грийе, автором нескольких фильмов и пяти романов, которые он сам называет «романами предметов» в знак своей оппозиции «психологическому роману».
«Писатель – это пилот, и дело чести пилота – заботиться о своих пассажирах», – сказал Симонов. И Робб – Грийе высокомерно ответил: «Вряд ли уместно рассматривать литературу как средство транспорта. Разумеется, летчик… должен точно знать, куда он летит. А потому лежащую на нем ответственность никак нельзя сравнивать с ответственностью писателя, ибо писатель как раз и не знает, куда он движется» [23]23
«Иностранная литература», 1963, № 11, стр. 226.
[Закрыть].
И, вернувшись в Париж, Робб – Грийе все еще продолжал доругиваться. Ему ужасно не понравилось, что советские писатели на встрече в Ленинграде не уставали доказывать, что святой долг писателя – служение обществу, народу, силам добра против зла. На страницах еженедельника «Экспресс» он пренебрежительно заявил, что советские писатели «говорили об одной только политике, и, разумеется, на уровне самом банальном, самом стереотипном: проклятия фашизму, осуждение войны, борьба против несправедливости и т. и.» (сколько снобизма в этом «и т. и.»!) И Робб – Грийе, продолжая свой спор с Симоновым в его отсутствие, вновь повторил, что считает «форму книг, пьес, фильмов гораздо более важной, чем побасенки (?!), пусть даже и антифашистские».
Нет, Ален Робб – Грийе решительно не хочет быть пилотом общественного мнения. Ему и его единомышленникам нет никакого дела до «пассажиров», которые летят в их «самолете», то есть до своих читателей. Они вовсе не желают о них заботиться. Каждому свое. Писатель пишет – читатель читает. А чему он научится, к примеру, у тех героев Одиберти, Пуаро – Дельпеша, ле Клезио, Пиейра де Мандьярга, Керуака, с которыми я познакомил вас выше, такого писателя не интересует. Его интересует лишь сам процесс творчества ради творчества.
Мудрено ли, что массовый читатель начинает платить подобным писателям той же монетой, что он начинает поворачиваться к ним спиной?
Я вспомнил сейчас об одном любопытном репортаже, который был опубликован еще два года тому назад в еженедельнике «Экспресс». Порылся в старых вырезках и нашел его, вот он: журналистка Фанни Дешан пишет о посещении библиотеки автомобильного завода Рено, созданной прогрессивным профессиональным союзом; ее привели сюда поиски ответа на тот же вопрос, который волнует сейчас Жана Ко: какую литературу предпочитает рядовой француз? Репортаж этот был напечатан 19 апреля 1962 года.
Уже у входа в заводскую библиотеку журналистка убедилась, что тут модернисты не в чести: здесь висел плакат с цитатой из Мориса Дрюона, автора известного у нас реалистического романа «Сильные мира сего», писателя, которого сейчас буржуазная критика не жалует: «Читать – значит жить, потому что читать – значит знать, узнавать и понимать». Книгу здесь любят: двадцать три тысячи семьсот пятьдесят семь рабочих завода имеют абонементы в библиотеке и регулярно ее посещают. Они читают в обеденный перерыв, по дороге на работу и по дороге домой – в метро, автобусе.
– Те, кто говорят, что читать некогда, просто не любят читать, и все тут, – сказал один рабочий корреспондентке «Экспресс». – Я всегда нахожу время, не проходит дня, чтобы я не раскрыл книжку.
– Какую?
– Читаю много научных книг, но и романы тоже…
– Какие же?
И вот тут‑то Фанни Дешан начинает поражаться: по рукам на заводе Рено ходят совсем не те книги, которые пестрым веером лежат в витринах книжных магазинов. Здесь не в чести «новый роман», здесь не любят модернистских выкрутасов, здесь не читают ни Одиберти, ни других эстетов, играющих в слова. «Любимые книги читателей завода Рено, – записала корреспондентка «Экспресс» в блокноте, – это «Железная пята» американца Джека Лондона и «Как закалялась сталь» русского Островского. Вообще советские писатели здесь очень популярны. Их любят».
– Это здоровая литература, – сказали ей рабочие. – И потом там много говорится о труде…
Кого бы Фанни Дешан ни спросила, все называли ей романы советских писателей, прочитанные ими. А один рабочий сам вдруг спросил в упор журналистку буржуазного еженедельника с вежливой улыбкой: «Простите, а вы сами читаете?» Она не ответила, а задала встречный вопрос:
– Послушайте, а что вы читаете кроме книг советских писателей? Знаете ли вы хотя бы русских классиков – Толстого, Чехова, Достоевского? Вы их читали?
– Конечно!
– Ну а французов вы читаете? Ведь вы же французы, господа! Вы знакомы с французской литературой?
С той же вежливой улыбкой рабочие завода Рено ответили:
– Конечно, читали… Конечно, знакомы… Мы любим Бальзака… Мы хорошо знаем Анатоля Франса… Мы читаем романы Виктора Гюго…
– А современных французских писателей вы знаете?
Рабочие насторожились.
– Кого вы имеете в виду?..
«Я называю одного знаменитого молодого романиста, – записывает Фанни Дешан. – «Но там же нечего читать!» – отвечают мне. Психологический буржуазный роман изжил себя, по крайней мере в Бийанкуре [24]24
Бийанкур – парижское предместье; здесь находится автомобильный завод Рено.
[Закрыть] он встречает полное и всеобщее безразличие. Что касается авторов «нового романа», «эти их штуки не совсем ясны», говорят рабочие. Те современные писатели, которых знают мои собеседники, сотрудничают также в газетах, и они читают их статьи, а не книги».
Корреспондентка «Экспресс» интересуется, читают ли рабочие завода Рено книги из области философии. Один из собеседников отвечает:
– К этому надо притрагиваться с осторожностью. – Он делает паузу и продолжает, указав рукой на полку, где стоят тома Маркса и Энгельса: – Кроме этих Двух…
«Маркс их не пугает, – пишет Фанни Дешан. – «Это не философ», – семь раз сказали мне. Я спросила одного из семп: «Ну а кто же он?» Собеседник смутился. Для Маркса не подберешь рубрики! Потом сказал: «Ну что ж, ои, как Ленин. Он за нас». – «Хорошо. Ну а философ, он‑то кто, по – вашему?» Один из собеседников задумчиво говорит: «Сартр?» – «Он вам нравится?» – «Трудно читать… Это не те проблемы, которые нас касаются»… Почти все говорили о Сартре то же самое. (Камю вообще как бы отсутствует.) Один страстный любитель философии даже находит, что Сартр «не дает ничего полезного, что помогло бы добиться счастья»…»
«Значит, вы приходите сюда искать счастья?» – удивленно спросила его корреспондентка «Экспресс».
«Может быть, не в прямом смысле этого слова, но…» – ответил ей читатель заводской библиотеки. Они разговорились, и Фанни Дешан записала:
«Он ищет новый стиль жизни. В тридцать восемь лет ему хочется иметь иную цель, нежели скопить деньги на автомобиль для воскресных поездок. Он уже допросил Паскаля, Декарта… Но его любимец – Жан – Жак Руссо: «Вы представляете себе, к каким выводам он пришел еще двести лет назад? Это гений!..» Жан – Жак Руссо имеет здесь много почитателей.
Не доверяя своим впечатлениям от бесед с читателями, корреспондентка «Экспресс» решила расспросить заведующего библиотекой, какие книги из области беллетристики пользуются наибольшим спросом. И вот что она выяснила – я опять цитирую:
«Среди любимых книг– «Проклятые короли» Дрюона («Это очень увлекательно, читаешь залпом, и потом это правда»), «Жан – Кристоф» Р. Роллаиа. «Земля» Жоржи Амаду, Толстые и их преемники (то есть русские и советские писатели. – Ю. Ж.), Джек Лондон… А полицейские романы? Мадам Габисон, главная библиотекарша, делает гримасу: полицейские романы не пользуются большим спросом. Читатели завода Рено находят увлекательные мотивы в книгах о движении Сопротивления – их по-прежнему берут нарасхват, – в книгах о войне в Алжире и еще в четырех книгах, которые всегда на руках: «Седьмой крест» (Анна Зегерс), «Смерть – мое ремесло» (Робер Мерль), «Убийство в Афинах» (о Никосе Белоянисе), «Репортаж с петлей на шее» (Юлиус Фучик) – это четыре антифашистских документа».
«Они их любят потому, что у них складывается впечатление, что герои с ними рядом», – сказала заведующая библиотекой корреспондентке «Экспресс».
Сорок семь процентов библиотечных книг, которые находятся на руках у рабочих завода Рено, – это романы, пятьдесят три процента – книги об искусстве, о спорте, истории, технике, чистых науках, путешествиях, социальных науках и философии, биографии. Рабочие жадно читают все о космосе. Берут альбомы по искусству. Читают «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, «Элементарные проблемы философии» французского философа – коммуниста Жоржа Политцера.
«У нас мало свободного времени, значит, нельзя его тратить на глупости. Надо читать хорошие вещи», – сказал корреспондентке «Экспресс» один квалифицированный рабочий.
(23 марта 1972 года газета «Юманите» опубликовала интересный репортаж о работе библиотеки для рабочих и служащих парижского аэропорта Орли, насчитывающей двенадцать тысяч томов. Картина та же, какая была описана Фанни Дешан в «Экспресс» десять лет тому назад: из пяти с половиной тысяч работников аэропорта восемьсот восемьдесят два регулярно посещают библиотеку, в среднем каждый из них прочитывает шестнадцать книг в год. Наиболее активные читатели – в возрасте от двадцати до тридцати лет. Наибольшим спросом пользуется серьезная литература; «полицейские романы» составляют лишь восемь процентов книг, выданных на руки. Рабочие предпочитают «легкому чтиву» художественную литературу, книги, посвященные социальным проблемам, географии, истории, технике, искусству. 3–4 раза в год устраивается массовая продажа книг – к читателям в эти дни приходят авторы произведений.)
О, конечно, находятся люди – и таких немало, – которые считают возможным «тратить время па глупости», как сердито заметил рабочий завода Рено. Это для них издаются миллионными тиражами глупые приключенческие книжонки, комиксы, сборники пошлых анекдотов и прочая труха. Кстати сказать, в этом мутном потоке, как правило, тонут, оставаясь буквально не замеченными широкой публикой, новомодные модернистские романы, как пи воспевает их буржуазная пресса, видящая в этих произведениях «новое слово» мировой литературы.
Но мыслящий читатель – и, что особенно важно, простой рабочий человек – предпочитает здоровую, насыщенную разумными, добрыми идеями Литературу с большой буквы.
Сегодня более злободневно, чем когда‑либо, звучит мудрое предупреждение В. Белинского, словно сказанное прямо в адрес нынешних снобов буржуазной литературы, забывших о смысле и назначении призвания писателя: «Дух нашего времени таков, что величайшая творческая сила может только изумить на время, если она ограничится «птичьим пением», создаст себе свой мир, не имеющий ничего общего с историческою и философическою действительностью современности, если она вообразит, что земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания и надежды не должны смущать ее таинственных ясновидений и поэтических созерцаний. Произведения такой творческой силы, как бы ни громадна была она, не войдут в жизнь, не возбудят восторга и сочувствия ни в современниках, ни в потомстве» [25]25
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VI. М., 1955, стр. 278.
[Закрыть].
Тем более не может возбудить в читателе ни восторга, ни сочувствия та современная буржуазная литература,
0 которой недавно столь уныло написал парижский критик М. Гален на страницах еженедельника «Ар»: «Мы находимся по ту сторону бытия в обществе, смирившемся со своим крахом. Нас приглашают посмотреть на развалины, на то, что от нас осталось. Нас не назовешь живущими, мы скорее оставшиеся в живых».
«Наш мир – это ад, ад, ад, ад…» – четырежды повторил Жак Одиберти. И этот ад не становится привлекательнее от того, что писатели – модернисты стремятся вымостить его словами, утратившими смысл и используемыми как литературные холодные камни для абстрактных инкрустаций на бесплодном песке.
Апрель 1968. Злоба дня
Итак, в Париже заканчивается еще один литературный сезон. Из года в год лихорадка, охватывающая книжный рынок в преддверии присуждения больших литературных премий, все усиливается: осенью 1965 года на прилавки было выброшено девяносто романов, осенью 1966 года – сто четыре, осенью 1967 года – сто восемнадцать. Примерно четверть этой продукции приходится на долю всесильного Галлимара, за ним идут Деноэль, Сёй, Лаффон, Меркюр де Франс, Жюльяр и другие книжные дома.
И на сей раз, как и десять, и двадцать лет тому назад, издатели жадно разыскивали новинки, обещающие, как им казалось, успех у литературных жюри: ведь премия, как я уже писал, гарантирует большие тиражи, покупатель считается с оценкой участников этих жюри. И если издателю кажется, что рукопись, попавшая в его руки, сулит успех, ее тут же бросают на типографский конвейер, чтобы она поспела вовремя к присуждению премий. Стоило, к примеру, популярному в Париже хроникеру «Франс – суар» и телевизионному комментатору Филиппу Лабро принести Галлимару 23 сентября 1967 года рукопись своего первого романа «Плохо погашенные огни» (о войне в Алжире), как она тут же была пущена в производство, и уже 26 октября – через месяц! – продавалась в магазинах. Издательством Сёй роман Эрве Базэна «Супружеская жизнь» был подготовлен к печати и издан за тринадцать дней. А ведь тысячи рукописей (тот же Галлимар получает две с половиной тысячи рукописей в год, а печатает лишь два процента из них!) либо вовсе не видят света, либо ждут очереди годами.
Члены литературных жюри едва успевают перелистывать обрушившиеся на них романы. «Семьдесят процентов романов года скапливаются на моем столе начиная с первого сентября, – говорит член Академии Гонкур Эрве Базэн. – Это значит, что я должен прочесть сто пятьдесят – двести книг». Со всех сторон гремят голоса покровителей и опекунов: этой, и только этой, книге дать премию! Эта, и только эта, книга – шедевр, превосходящий все написанное за века! Самые осведомленные критики сообщают, что такой‑то роман обязательно получит премию Гонкура – спешите приобрести! Самые, самые осведомленные опровергают: нет, премию получит не этот, а тот роман – уже три члена жюри его прочли и поддержали…
В конце концов литературные судьи, совершенно очумевшие от сутолоки и споров, проведя десяток туров голосования и не договорившись ни о чем, идут на компромисс. Тогда, как это было в 1967 году, обладателем той же Гонкуровской премии вдруг становится отнюдь не молодой автор [26]26
В своем завещании, составленном в 1896 году. Эдмон Гонкур, учреждая литературную премию, писал: «Мое наивысшее желание – это чтобы премией венчалась молодость…»
[Закрыть] – пятидесятивосьмилетний писатель, о романе которого «Мотоцикл» я рассказывал в предыдущем письме. В 1963 году Мандьяргу отказали в премии, теперь же он взял реванш – ему дали Гонкуровскую премию за его девятнадцатую, и притом далеко не самую лучшую, книгу – «В стороне от жизни», – подробнее я расскажу об этой книге ниже.
Пытаясь, видимо, оправдать отнюдь не самый удачный выбор романа Пиейра де Мандьярга для увенчания его главной литературной премией за 1967 год, Эрве Базэн сказал журналистам: «Этот сезон был, пожалуй, плоским». Но это мнение уважаемого французского писателя разошлось с мнением подавляющего большинства читателей, которые сейчас с величайшей охотой раскупают многие и многие романы этого года, в том числе и великолепный роман самого Базэна «Супружеская жизнь» – он стал одним из главных бестселлеров (к нему я вернусь ниже).
По – моему, напротив, этот сезон был одним из самых урожайных. На полках книжных магазинов стало невероятно тесно. С новыми романами выступили и виднейшие писатели старшего поколения, принадлежащие к самым различным направлениям – от Луи Арагона и Труайа до Апри де Монтерлана и Жана Жионо, и выдающиеся писатели среднего поколения – от Андре Стиля и Робера Мерля до Эрве Базэна и Жан – Пьера Шаброля, и заявившая о себе талантливая литературная молодежь – Клэр Эчерелли, автор увенчанного премией Фемина романа из жизни рабочих «Элиза, или Настоящая жизнь», Сальва Эчар, написавший удостоенный премии Ренодо роман о колониальных нравах Мартиники «Мир, как он есть», и другие. Вышли в свет новые книги Мориса Дрюона, Армана Лану, Элен Пармелен, ле Клезио, Беатрикс Бек, Клода Симона и многих других известных французских писателей.
И все же у некоторых взыскательных критиков состояние дел во французской литературе вызывает тревогу.
В начале 1968 года издатель Робер Лаффон вдруг отважился выпустить в свет горькую книгу Франсуа Фонтена «Литература, распродаваемая с молотка», которую никто не хотел печатать целых десять лет. Франсуа Фонтен настроен очень мрачно и, я бы сказал, даже агрессивно по отношению к современной французской литературе. Он заявляет, что во Франции после Золя не было великих писателей, что до второй мировой войны еще водились писатели выдающиеся, но с 1940 года не появилось‑де ни одной приметной писательской личности: правда, за последние тридцать лет промелькнуло несколько коммерческих литературных успехов, но у них – недолгая жизнь. Обращаясь к издателям, Фонтен говорит:
– Если французская литература существует, покажите ее, помогите ей высказаться, предоставьте в ее распоряжение необходимые для этого возможности, даже если она и не дает вам прибылей. Либо занимайтесь только прибылями и не говорите больше о литературе…
Как всегда бывает в острой полемике, здесь истина сплелась с отрицанием очевидности. Верно то, что в Париже, как и в Лондоне и в Нью – Йорке, забыли мудрую мысль Дидро о том, что нельзя вести торговлю книгами так же, как торгуют тканями. Все подчинено погоне за прибылью, и тот же Робер Лаффои, который, сделав либеральный жест, издал колючую книгу Фонтена, заявил, что издателей‑де не в чем упрекнуть: раз сенсационные репортажи, книги о насилии, «голубые цветочки» продаются хорошо, значит, это то, что требует публика, значит, это и нужно распространять еще шире. «Публикациями, рассчитанными на немногих, не проживешь, – говорит он. – Если литература, которую вы именуете подлинной, нерентабельна, мы не в состоянии заниматься ее производством».
Но во – первых, подлинная литература во Франции есть, и это признает сам Робер Лаффон, а во – вторых, эта подлинная литература чахнет лишь тогда, когда она замыкается в узком мирке глубоко личных авторских переживаний, утрачивая интерес к народной жизни. И наоборот, если писатель находит в себе достаточно мужества, чтобы затронуть актуальную тему, успех к нему приходит, и часто это бывает поистиие феноменальный успех. Вспомним хотя бы вышедший в 1966 году и успешно продаваемый даже сегодня роман Эдмонды Шарль – Ру «Забыть Палермо!». Он уже разошелся тиражом свыше трехсот двадцати тысяч экземпляров – цифра для французского книжного рынка поистиие фантастическая.
И по – моему, глубоко был прав мудрый хроникер газеты «Монд» Робер Эскарпи, когда он так ответил Франсуа Фонтену:
«Наша литература чахнет от интеллектуальной изнеженности. Она отказывается от необходимого риска общения с читателем, превращаясь в одностороннее средство самовыражения. Рассказывать о себе, выражать самого себя неизмеримо легче, даже если в техническом отношении это связано с трудностями. Во всяком случае это менее опасно, нежели сотрудничество с читателем – то «взаимное усилие», в котором Сартр видит основу литературного творчества. Таким образом, наши литераторы отказываются от диалога с читателем, не имеющего ничего общего с тем обменом денежными знаками, о котором говорит Робер Лаффон.
Отчаявшись в своих намерениях изменить состояние вещей, Франсуа Фонтен решается на то, что он именует «геометрией одиночества», под которой понимает отказ от безудержного сочинительства и от участия в ярмарке литературных премий. Конечно, можно было бы сделать и иной выбор – быть может, более наивный, но, быть может, и более мужественный: вновь обрести подлинную гражданственность… Если бы в нашем литературном небе появился хотя бы крохотный Золя, он быстро обратил бы в бегство ночные призраки, которые страшат Франсуа Фонтена…»
Катастрофическое падение читательского интереса к холодной и бездушной, полной болезненных вывертов изнеженной «литературе самовыражения», о которой так язвительно высказался Эскаргш, и поистине громовой успех тех книг, авторам которых удается затронуть гражданскую струну в сердце человека, – вот характерные, взаимно дополняющие друг друга черты современной мыслящей Франции. Оба этих явления тем более многообещающи, что большинство французов для литературы пока не поднятая целина. По данным недавно опубликованного исследования Института по изучению общественного мнения, пятьдесят восемь процентов французов вовсе не читают книг. Покупает книги главным образом молодежь. Самые активные покупатели – люди в возрасте тридцати трех лет: они приобретают в среднем по пять книг в месяц. Именно этот молодой и динамичный читатель бунтует против эгоистического мелкого копания писателя в собственной душе и требует, чтобы он откликался на все то самое важное и острое, что волнует сегодня мир.
Вот почему и свой обзор парижского литературного сезона 1967/68 года я начну с тех произведений, которые сделали погоду в Париже вопреки ворчанию снобов и недовольству тех, кто хотел бы загнать литературу в душные парники «самовыражения».
В нынешнем литературном сезоне был вновь опубликован хорошо известный советскому читателю четырехтомный роман Луи Арагона «Коммунисты», существенно переработанный автором. В этом же сезоне Арагон опубликовал новый роман– «Бланш, или Забвение», который газета «Юманите» расценила как «важное произведение, своего рода этап на пути к созданию новой литературной формы».
Два крупнейших произведения в один сезон – какое убедительное свидетельство отличной работоспособности, которую неизменно сохраняет в свои семьдесят лет этот писатель – коммунист, член Центрального Комитета Французской коммунистической партии!
Люди старшего поколения хорошо помнят, какое политическое значение приобрело первое издание «Коммунистов», в острейший момент послевоенного периода – в 1949–1951 годах, когда в Европе бушевало пламя «холодной войны», а на Дальнем Востоке гремела канонада большого сражения в Корее. То было время крутого общественного размежевания, и Арагон вместе с другими прогрессивными мастерами культуры без колебаний занял свое место в борьбе сил мира против сил войны. Не случайно именно Дом мысли, основанный Национальным комитетом писателей, стал тогда штабом, где готовился Первый конгресс сторонников мира, состоявшийся в апреле 1949 года в зале Плейель.
И вот в это самое бурное время Арагон писал. Писал, совмещая общественную деятельность с литературным трудом. Писал большой роман. Роман о своей партии, о своих соратниках по борьбе. Роман тут же переводился на многие иностранные языки, в том числе, конечно, и на русский. И только эстетствующая литературная критика пренебрежительно усмехалась: роман о коммунистах? Это не литература!
Критики, как вспоминает сейчас Арагон, вопили об упадке, об утрате автором литературной квалификации, чуть ли не о его литературной смерти. Арагон отвечал врагам холодным презрением и продолжал свой труд. Его поддерживали рабочий класс Франции, коммунистическая партия, вся прогрессивная общественность. И Марсель Кашен, давая отпор клеветникам и хулителям, заявил: «Наш товарищ Арагон внес новый выдающийся вклад в дело борьбы французского народа и борьбы за историческую правду. Его социалистический реализм обращен к зрелости и разуму нации».
Первоначально «Коммунисты» были задуманы как большая эпопея в трех сериях, которая посвящалась эпохе с 1939 по 1945 год. Но Арагон поставил точку, описав драматические события мая – июня 1940 года – это разгром буржуазной Франции и начало настоящей войны против фашистских захватчиков, на которую поднялся французский народ, его рабочий класс, коммунисты.
И вот теперь, более полутора десятилетий спустя, автор снова вернулся к своему нашумевшему роману. Он внимательно оглядел его, как строитель время от времени оглядывает сооруженный им дом – не обветшало ли что‑нибудь в нем, не следует ли что‑то подправить. Писатель остался доволен – в своих главных, основных чертах роман выдержал строгую проверку временем: следовало, конечно, теперь заново осмыслить пережитое в свете нового жизненного опыта, накопленного за эти пятнадцать лет, и для этого стоило заняться доработкой романа. Но суть его должна была остаться неизменной, и автор решил, что этот роман, как и другие книги цикла «Реальный мир», «на большом судебном процессе, который учиняют нынче реализму», может и должен фигурировать в «досье защиты».
Да, Арагон выставляет нынче своих «Коммунистов» как свидетеля защиты перед лицом многих самозванных прокуроров, вопящих, будто реализм устарел, что его пора сдать в архив, заменив безъязыким мычанием сомнительных «авангардистских» школ и школок, расплодившихся на белом свете несть числа. И Арагон при этом добавляет: «Я думаю, что нет нужды уточнять, о каком реализме я говорю. Всем известно, что я непоколебимо защищаю этот реализм… Я, конечно, не употребляю данного выражения так, как все, но ни его дискредитация в связи с этим в глазах некоторых, ни то, что иные дурно используют его, ни авторитарный характер, который он кое – где приобрел, – ничто не заставит меня отказаться от его уточненного применения, и когда я говорю просто – реализм, речь всегда идет о социалистическом реализме».
Но Арагон против догматического толкования понятия «социалистический реализм». Жизнь идет вперед, все меняется, и «во имя чего можно требовать, чтобы мы возвращали поэму, роман или картину к нормам людей, которые не знали радио, телевидения, радаров, кибернетики, навигации в космосе?». Вот почему, завершив романом «Коммунисты» цикл «Реальный мир», который был начат «Базельскими колоколами» и продолжен «Богатыми кварталами», «Путешественниками на империале» и «Орельеном», он обратился к поискам нового, которые так характерны для его романов «Святая неделя», «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение»…
Обратимся, однако, к нынешнему изданию «Коммунистов». Что нового внес Арагон и что он сохранил? Отметим прежде всего, что автор терпеливо переписал заново все две тысячи страниц этого огромного произведения, – он с величайшей требовательностью относится к себе; достаточно поглядеть, как многое он изменил и в другом своем романе– «Путешественники на империале»:
«Перечитав «Путешественники на империале», я нашел, что этот роман плохо написан, и мне захотелось его переписать, прежде чем включить в собрание сочинений, – пишет Арагон. – Когда я заговорил об этом, люди начали кричать, что я не вправе этого делать. Но нет писаного закона, который запретил бы мне это, и я… переделал книгу по своему вкусу».
Роман «Коммунисты» подвергся особенно тщательной обработке.
Во – первых, Арагон уделил огромное внимание шлифовке стиля «Коммунистов»: ведь роман писался в самое горячее время борьбы, когда было не до обработки каждой запятой. Автор перевел описание наиболее важных событий в настоящее время; как подчеркивает литературный критик газеты «Юманите», это усиливает «эффект присутствия» читателя. Сам Арагон называет этот прием «методом большого экрана», словно в современном кинематографе, он в кульминационные моменты действия как бы проецирует описываемые им события на внезапно увеличенный экран, и события предстают перед читателем во всей своей полноте и силе.
Во – вторых, проделана большая редакционная работа, обусловленная тем, что Арагон окончательно отказался от мысли о продолжении своей эпопеи: опущены сюжетные линии, которые он намеревался развить шире в последующих романах этого цикла: изъяты персонажи, которые лишь начинали свой путь в «Коммунистах», по должны были широко проявить себя в дальнейшем. «Я выбросил из романа двенадцать бесполезных силуэтов», – говорит Арагон.