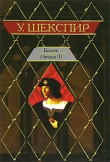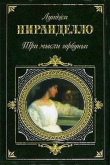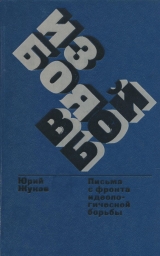
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
Верно, конечно, что в этой пьесе есть и протесты, и бунтарство, и драматические раздумья о бессмыслице жизни в современной Америке. Ее авторы разоблачают заражение атмосферы американских городов газами, нищету, агрессивную политику Линдона Джонсона, расизм, абсурдность войны во Вьетнаме, бесчеловечность буржуазной цивилизации, безразличие к судьбе человеческой личности в американском обществе. Но все это умело дозировано и, главное, так ловко обрамлено чисто мюзик – холльным содержанием спектакля, что в конце концов, покидая театр, зритель вспоминает лишь то, как виртуозно пляшут артисты, какие поразительные – и, главное, «с перцем»! – трюки придумал режиссер, какие сенсационные и даже скандальные сценки сумел он показать, и это все…
Мы долго толковали об этой пьесе с одним из мудрых и проницательных знатоков американского искусства – Говардом Лоусоном, с которым я встретился в Голливуде. И я думаю, что он был глубоко прав, когда сказал в заключение этого разговора:
– «Волосы» – это отрицание всего на свете. Конечно, даже инстинктивный протест против войны во Вьетнаме, против расизма, против реакции ценен. Но когда такую бунтарскую пьесу активно поддерживает сама буржуазия, когда ее восхваляет пресса, когда посещение этого циничного спектакля становится признаком хорошего тона у «сильных мира сего», приходится серьезно задуматься: почему это происходит? В самом деле, почему? Да потому, что пьеса эта раскалывает бунтующую молодежь, сеет в ее рядах цинизм и обезоруживает борцов. Вот что опасно!..
Так раскрывается подлинная сущность сенсационной пьесы, которая рекламируется сейчас везде и всюду на Западе как «подлинно революционное произведение, потрясающее все основы буржуазного общества» [60]60
Когда я побывал на Бродвее в мае 1971 года и в Париже в январе 1972 года, спектакль «Волосы» продолжал идти там на подмостках театров.
[Закрыть].
Куда движется «Театр разрушения»?
Я уже писал о так называемом театре разрушения, школа которого сложилась в Англии и затем нашла свое развитие во Франции, Соединенных Штатах и других странах. Речь идет о таких драматургах, как Гарольд Пинтер, Эдвард Олби, и ряде других, которые в своих произведениях, зачастую сложных по форме и изобилующих неожиданными и странными сюжетными ходами, сближающими их с «театром абсурда», беспощадно и, я бы сказал, свирепо разрушают устои буржуазного строя.
Однако новейшие пьесы этих «разрушителей», и в частности Олби и Пинтера, которые мне довелось увидеть в феврале 1969 года в Нью – Йорке, вызвали у меня чувство тревоги за этих, бесспорно, одаренных людей: они продвинулись еще дальше в сторону абсурда и их нынешний «театр разрушения» не только ничего не разрушает, но и попросту становится все менее интересным. Об этих пьесах я расскажу несколько ниже, а пока что мне хочется рассказать о тех театральных деятелях, которые, присваивая название «театра разрушения» своим «экспериментам», уж вовсе уходят, как говорится, по ту сторону добра и зла.
В Лос – Анджелесе в дни, когда я там был, режиссер Ральф Ортиц из Нью – Йорка дал гастроль своего «театра разрушения» – его представление состояло из трех частей: «Показ уничтожения кур», «Концерт разрушения рояля» и «Убийство мышей с участием публики».
Что же представляло собой это представление, происходившее при большом стечении светской публики, падкой на новомодные открытия в искусстве?
Театральные нововведения, изобретенные Ральфом Ор-тицем, начинались уже у входа в зал: зрителям вместо билета выдавалась в кассе белая мышь. Держа в руках своих мышей, зрители входили в обширный зал галереи Туза, этого популярного центра «авангардного искусства» в Лос – Анджелесе, где должно было происходить представление «театра разрушения», и выстраивались вдоль стен.
Ральф Ортиц и его артисты были одеты в безукоризненно чистые белые костюмы. В руках они держали убитых кур. В одном углу сидела, скрестив ноги, девушка в ультракоротком платьице. Она рассеянно похлопывала себя по голому бедру мягкой шеей обезглавленного петуха. В другом углу на растянутую простыню был спроецирован цветной диапозитив с изображением человеческого сердца.
Посреди зала стоял белый рояль. Вдоль стен выстроилось около пятидесяти бутылей, наполненных куриной кровью. В глубине зала была отделена загородка в десять квадратных футов, за которой в беспорядке были расставлены мышеловки, наполненные мышами.
В зале царил полумрак. Под ногами у зрителей сновали опять же мыши. Вдруг в углу вспыхнуло пламя – это был сигнал, что представление начинается. Но многие не поняли, что происходит, и решили, что это пожар. Раздались пронзительные крики. Люди заметались.
Эффект внезапной вспышки был рассчитан именно на этот «переход публики к состоянию психоза» – по замыслу Ральфа Ортица, именно такой психологический климат больше всего подходит для создания динамичной атмосферы в театре насилия. Два артиста тут же начали молотить друг друга убитыми курами. Задача состояла в том, чтобы, как и было сказано в афише, уничтожить кур, то есть сокрушить вдребезги.
Брызги крови, кусочки мяса и костей летели во все стороны, но куриные тушки оказались все же довольно прочными. Тогда артисты начали рвать их руками, бросая потроха в публику. Их белоснежные костюмы покрылись красными пятнами.
Уничтожением кур занялись и другие актеры. Они вовлекали в это занятие зрителей. Один из них стал колотить курицей какую‑то девушку. Раздался крик: «Погляди! Они всех поливают чем‑то красным!» Действительно, теперь в ход пошли бутылки с куриной кровью. Зрители заметались в поисках спасения, но нигде его не находили. Артисты теперь плескали в публику кровь из чашек. Белые стены зала начали понемногу краснеть. Актриса с кровью на губах предлагала свою чашку желающим: «Хлебните‑ка!» В довершение всего актеры, пустив в ход ножницы, начали срывать друг с друга мокрую от куриной крови одежду. Зрители в смокингах и вечерних платьях, густо забрызганных кровью, ждали, отступив от Ортица и его неугомонных артистов, что же будет дальше.
А дальше был коронный номер программы– «Концерт разрушения рояля». Взяв в руки какую‑то тяжелую ось, Ортиц начал молотить ею по белому роялю. Во все стороны полетели щепки. Толпа ахнула. Когда Ортиц начал рвать струны, раздались жалобные металлические звуки. Воздух был как бы насыщен электричеством – дух насилия и разрушения мало – помалу объял присутствующих. Они подбадривали Ортица громкими криками. А его тяжелая ось наносила роялю новые и новые удары, высекая искры из металлических деталей музыкального инструмента. Лицо Ортица оставалось строгим, лишенным всяких эмоций.
Рояль превратился в груду хлама, и толпа переместилась к загородке, где должен был начаться третий акт представления– «Убийство мышей с участием публики». Тут задача была проще – мышь можно запросто пристукнуть ударом каблука.
Этот спектакль по – деловому комментировала так называемая авангардная пресса. Я сохранил вырезку из газеты «Лос – Анджелес фри пресс», рецензент которой 31 января 1969 года со знанием дела комментировал представление: «Ортиц, как и австрийский деятель искусства разрушения Герман Нитш, стремится к созданию театра, в котором все реально (!) и в котором нет различия между исполнителями и публикой. Как и Нитш, он работает (!) с материалом, взятым из жизни, – мясом, кровью, мозгами, вызывая у присутствующих неподдельные реакции – страх, ужас и прямое участие в действии».
Сам Ортиц высказался так:
– Искусство разрушения – ответ на мучительные проблемы человечества, охваченного волнением и стремлением физически выжить. Наш театр – символ того коварного и чрезвычайно сильного разрушения, которое играет поистине доминирующую роль в нашей повседневной жизни…
Ну ладно, как говорится, аллах с ним, с этим Ортицем и его австрийским единомышленником Нитшем, пусть любуются их творчеством поклонники псевдоавангард-ного искусства. Такие деятели находятся за пределами настоящего театра, как бы ни были они популярны среди определенной части публики, падкой на сенсацию. Их слава растет как снежный ком, но она и тает столь же быстро, как тает снег под лучами жаркого солнца.
Но Олби и Пинтер – это подлинные деятели театра, и одаренность их не подлежит сомнению. Написанные ими ранее пьесы действительно сокрушали буржуазное общество, они буквально расстреливали его пороки. Как же сейчас эволюционирует их театр, который по справедливости можно было называть «театром разрушения»? Увы, те их новые пьесы, с которыми я познакомился в Нью-Йорке, свидетельствуют о явном отходе обоих этих драматургов – хотелось бы надеяться, временном! – от главного направления в их творчестве.
В маленьком театрике «Билли Роуз» на Сорок пятой улице у Бродвея в сезон 1968/69 года были показаны две одноактные пьесы Олби: «Ящик» и «Цитаты из речей председателя Мао Цзэ – дуна»; эти пьесы сначала были представлены в городе Буффало в «Арина – тиэтер», а затем автор постановки режиссер Ален Шнейдер перенес их в Нью – Йорк.
Обе пьесы, как это модно сейчас, – без всякой интриги. Общая декорация для них – арматура гигантского квадратного ящика. Отсюда и название первой пьесы – «Ящик». В чем же там дело?
Сцена – пуста. В полутьме пз громкоговорителя доносится жалобный женский голос – какая‑то женщина предается грустным воспоминапиям, стремясь облечь их в гармоничную музыкальную форму. Но вдруг эту гармо нию рассекает режущая сердце нота, изображающая идею смерти. Черные птицы затемняют небо, и теперь слышен лишь шум моря, равнодушно заглушающий человеческий голос. Это все. Идея: человек – это всего лишь звучащий, по быстро немеющий «ящик», забытый на пляже времени.
Вторая пьеса – с присутствием актеров на сцене. Ящик остается на месте, но среди его граней – палуба трансатлантического парохода. Рядом на шезлонгах полулежат пожилая женщина и священник. Женщина рассказывает священнику историю своей скучной жизни. В глубине сцены мечется не по летам подвижная старушка; потом она усаживается на небольшой эстраде и декламирует строфы из поэмы: «Пойдем на вершину холма – туда, где стоит богадельня». Она повествует о судьбе вдовы, оставленной своими детьми.
Тем временем по залу, заложив руки за спину, прогуливается улыбающийся Мао Цзэ – дун. Он неустанно декламирует цитаты из своих речей, собранные в небезызвестной «красной книжечке». Похоже на то, что в отличие от всех других героев этой пьесы он пребывает в хорошем настроении и полностью уверен в себе. Но вот и Мао Цзэ – дун входит в ящик. Старушечьи рифмы о нищете, и жалобы пожилой женщины на свою постылую жизнь, и даже декламация Мао постепенно стихают – смерть побеждает всех.
Читатель пожмет плевами: почему все это называется пьесами? И что хотел сказать автор своим «Ящиком» и «Цитатами из речей председателя Мао Цзэ – дуна»? Сам Олби так ответил на этот вопрос:
– Драматург, достойный этого имени, должен ставить перед собой две цели: излагать свое мнение о человеке и думать о структуре своего искусства. И в том и в другом случае он должен иметь целью изменение общества, в котором он живет, и изменение форм своего искусства. Пишут не для того, чтобы сохранить статус – кво.
Целиком согласен с вами, мистер Олби! Но не думаете ли вы, что изменение форм искусства должно быть таким, чтобы оно по крайней мере не закрывало перед зрителем возможность понять то, что вы хотите сказать? И уж если речь зашла о том, что художник должен «излагать свое мнение о человеке», то не ясно ли, что он должен вывести на сцену людей и показать их всесторонне и убедительно, а не в виде каких‑то условных фигурок, вырезанных из картона?
Уход в мир условных знаков и загадочных алгебраических формул, допускающих самые разнообразные, в том числе и диаметрально противоположные, толкования, лишает «театр разрушения» присущей ему силы и убедительности и обедняет самого художника.
Такие же или близкие к ним мысли навевает и спектакль театра «Истсайд Плейхауз», где в феврале 1969 года я увидел «мировую премьеру», как было сказано на афише, двух одноактных пьес Гарольда Пинтера– «Чаепитие» и «Подвальный этаж». Этот спектакль, поставленный Джеймсом Хаммерштейном, был расценен прессой как большой успех сезона. И в уютном красивом зале этого театра я увидел рафинированную публику, главным образом молодых интеллигентов, увлекающихся творчеством Пинтера. Специфический интерес к спектаклю подогревали пояснения критиков, что обе пьесы трактуют проблему «сексуальных отклонений».
Что же на этот раз собрался разрушать столь динамичный обычно британский драматург?
Начнем с «Чаепития».
Овдовевший бизнесмен Сиссон, специализирующийся на производстве ультрасовременных биде с автоматическим пуском воды фонтанчиком (эти биде, выставленные на самом почетном месте в витринах с изящной подсветкой, – главная часть оформления пьесы), женится на молодой красивой женщине Диане.
Он – стар и бессилен. А брат жены Вилли – здоровый молодой человек. Сиссон делает его своим компаньоном.
Тот берет свою сестру в секретарши и предается с нею любовным забавам, а сам Сиссон кое‑как утешается с секретаршей Уэнди, которая объясняет, что она ушла с предыдущего места потому, что ее «слишком настойчиво щупал патрон». Впрочем, она отнюдь не возражает, чтобы тем же самым занялся Сиссон, неспособный на большее. Однако неутомимый брат жены Сиссона вовлекает и ее в свои, менее платонические, развлечения.
Тем временем семейная жизнь фабриканта течет безрадостно. Однажды Диапа напоминает ему, что они женаты уже год. Сиссон решает устроить по этому поводу чаепитие в офисе среди своих биде. Приглашенный на чаепитие друг Сиссона окулист завязывает ему глаза, как это делала обычно Уэнди во время их забав. Уэнди потчует его чаем, и он засыпает. Тем временем неугомонный брат Дианы укладывает на письменный стол свою сестру, потом рядом с нею Уэнди и предается любовным утехам с ними обеими. Остальные гости – старики родители Сиссона, его дети и окулист с женой – при сем присутствуют, не выражая никаких эмоций.
Вдруг Сиссон падает со стула и умирает. Диана истерически плачет, но уже поздно.
Вот и все. Обычный пошленький водевильчик в духе старинного парижского бульварного театра. И это принадлежит громовержцу Пинтеру, яростному разрушителю буржуазного общества? Невероятно, но факт…
А вот вторая пьеса, показывающаяся в тот же вечер, – «Подвальный этаж».
Воспитанник Оксфордского университета, утонченный интеллигент Jloy перед отходом ко сну наслаждается вечерним покоем у камина в своей уютной квартирке, почему‑то расположенной в подвальном этаже. Вдруг стук в дверь – неожиданно пришел старый приятель Лоу по университету некий Стотт. Он мокр: на улице льет проливной дождь.
Лоу радушпо встречает приятеля. Дает ему обсушиться, угощает его, они долго дружески болтают. Вдруг Стотт вспоминает, что под дождем осталась его приятельница Джейн, и отправляется за пею. Вот и они оба. С Джейн ручьями льет вода. Но эта девица пе из тех, которые смущаются в присутствии мужчин. Она сбрасывает с себя всю мокрую одежду и, оставшись в чем мать родила, лезет под одеяло в кровать Jloy. К Дженн тут же присоединяется Стотт.
Лоу целомудренно проводит ночь на диване. Но утром весь благопристойный строй жизни в его доме идет ко всем чертям. Джейн бесцеремонно совращает Лоу, что не вызывает никакого протеста у Стотта; тот поглощен переустройством квартиры своего друга по собственному вкусу; квартира ему приглянулась, и оп готов отдать за нее свою любовницу. И вот, сделка состоялась: Лоу и Джейн отправляются бродяжничать, а Стотт остается хозяином дома.
Проходит год, и повторяется та же ситуация, с которой все началось: в дождливый вечер Стотт блаженствует у камина в унаследованной им квартире, раздается стук в дверь, входит промокший до костей Лоу, а на улице у фонаря Джейн дожидается, пока о ней вспомнят.
Так в тысячу первый раз воспроизводится древний как мир – к тому же насквозь фальшивый – философский тезис о ветре, возвращающемся на круги своя: все на свете повторяется, нет ничего нового под луной, люди – пешки в игре, их можно расставлять на шахматной доске жизни как угодно, в любых комбинациях.
Нет, решительно невозможно узнать в этих пьесах-безделицах бунтаря Пинтера! Что это, усталость от борьбы? Уступка дурному вкусу? Забота о кассовом успехе? Не знаю. Но когда я сравниваю такие пьесы хотя бы с тем, что создал провинциальный американский творческий коллектив в Атланте, бросивший острейший политический вызов губернатору Мэддоксу, мне как зрителю становится вчуже неловко за таких признанных мастеров современного театра, как Олби и Пинтер.
Я понимаю, конечно, что с точки зрения чисто профессиональной эти былые буптари стоят куда выше тех, пока еще мало известных, американских театральных работников, которые пытаются в трудных условиях сегодняшней Америки строить политический театр. С точки зрения чисто литературного мастерства их нельзя даже сравнивать – пьесы вчерашних деятелей «театра разрушения» совершенны по стилю, в них много изыска, чисто формальных находок. Но ради чего все это?
Что разрушает сегодня Гарольд Пинтер? Основам чего он грозит? Разве только элементарным основам морали,
недаром печать так подчеркивает проявившийся в его новых пьесах интерес к «сексуальным отклонениям». Но эта весьма специфическая тенденция в американском искусстве – да, пожалуй, и не только в американском – сейчас настолько гипертрофируется, что об этом приходится говорить особо…
Сенси америнансное иснусство
Секс и искусство – эти слова были жирным шрифтом напечатаны на обложке вышедшего в свет 14 апреля 1969 года американского политического еженедельника «Ныосуик». Этот серьезный журнал счел необходимым посвятить такой, на первый взгляд неожиданной для него, теме много страниц. Уже эта деталь говорит о многом: все больше людей в США начинают задумываться над тем, куда же приведет американское общество та «дозволенность», о которой я упомянул в начале этих записок. «Америка захлестнута волной более чем откровенного показа голого тела и, больше того, полового акта и половых извращений всех видов. Цензура правов по сути дела прекратила существование», – писал журнал «Ныосуик».
То, что происходит сейчас в американском театре, кино, литературе и искусстве, буквально поражает иностранца, который не был в США два – три года. «Дозволенность» была там весьма широкой и раньше, но такого, как сейчас, еще никто не видывал. Побывавшая в Соединенных Штатах почти одновременно со мной французская писательница Франсуаза Партюрье в смятении написала 4 марта 1969 года в «Фигаро»:
«Я вернулась из Нью – Йорка, где больше всего меня удивило то, что в большей части новых пьес па Бродвее актеры появляются на сцене совершенно голыми.
– Да, это так, – говорили мне друзья, – это следствие дозволенности… Выражающее одновременно антипуританизм молоДого поколения и потворство либо бессилие старших перед лицом этого бунта слово «дозволенность» сейчас – самое модное слово в США.
Как его понять? Терпимость, попустительство и даже распущенность – недостаточно сильные определения; разврат– слишком точное; «дозволенность» означает, что каждый человек может себе позволить все, что угодно, во имя философии, в которой эротизм является лишь одним из проявлений…
Показ задней части – непонятно почему – всегда воспринимался как оскорбление врага. Но еще год тому назад штаны при публике не снимали, ограничиваясь словесным выражением этой акции: «Полюбуйся на мой зад». Но сегодня, подчиняясь крайностям логики, американский театр протеста показывает на всех подмостках Мапхеттена и заднюю и переднюю часть актеров в абсолютно голом виде…
Даже для тех, кто, как я, проводит лето на курорте Сент – Тропец, – зрелище поразительное. Еще более поразительно видеть в пьесе «Сладкий эрос» даму, которая в течение сорока пяти минут остается голой на ослепительно ярко освещенной сцене. Никакой цензуры. Никакого судебного процесса. Это – «дозволенность» в чистейшем виде.
Все в восторге: авторы, которые думают, что они изменяют мир; молодежь, которая так любит эпатировать буржуа; критики, которым наконец есть что обсуждать; публика, которая чувствует себя приобщенной к модерну; власти, которые хвастают своим либерализмом… Рады все, кроме актеров. С тех пор как в театре началась мода на наготу, они начали ощущать на себе горечь эксперимента, который подтверждает, что всегда существует разница в положении вожаков и рядовых. Для актрис – это новые драмы… Некоторые соглашаются раздеваться на сцене при условии, что они будут стоять к залу спиной, другие при условии, что они, раздевшись, тут же убегут за кулисы, некоторые хотят, чтобы в момент раздевания было ослаблено освещение, другие – чтобы усилили отопление в театре. Находятся и такие, как, например, Эвелин Аве, которые вовсе отказываются раздеваться, ссылаясь на то, что у них есть талант…
Однако из всех причин, на которые ссылаются актрисы, не желающие подчиняться моде, чаще всего упоминается стыд, старый добрый стыд. Моника Эванс, молодая и красивая актриса, только что отказалась от контракта, сулившего ей восемьсот долларов в неделю за роль в новой комедии Джерома Вейдмана «Материнская любовь», поскольку автор, следуя моде, изменил сюжет и потребовал, чтобы она в конце второго акта представала перед зрителями в голом виде.
Несколько молодых актрис, выступавших в пьесе «Волосы», заболели нервным расстройством и были вынуждены уйти со сцены. Мужчины держатся более стойко, но и они плохо воспринимают новую театральную моду. «Как бы там ни было, – сказал Дан Хеллек, играющий главную роль в пьесе «Гуси», – это отнюдь не приятно – стоять голым перед зрителями. Авторы должны были бы играть свои пьесы сами».
Возникает вопрос: действительно ли «дозволенность» столь естественна, инстинктивна и нормальна, как это утверждают?»
Я нарочно привел здесь эту длинную выдержку из статьи французской писательницы в «Фигаро», чтобы показать, как далеко зашло дело. Уж если даже в Париже, где привыкли весьма легко смотреть на подобные вещи, высказывают недоумение по поводу того, что происходит на американской сцене, то действительно дело зашло далеко.
А ведь речь сейчас идет, повторяю, не только о театре. Кинематограф, литература и изобразительное искусство в равной мере захлестнуты волной того, что сейчас именуется деликатным словом «дозволенность», а раньше называлось просто порнографией.
Партюрье пишет, что это предпринимается во имя некой философии. В том же самом меня пытались убедить многие американцы, в том числе и такой серьезный человек, как известный кинорежиссер Стэнли Крамер, который сказал, что сейчас изменить ничего нельзя, ибо нравы современного общества коренным образом изменились и «через это придется пройти».
Да, нравы в США изменились существенно. Мне вспоминается, как на обеде у одного миллионера в присутствии самой взыскательной публики вдруг зашел разговор о скандальном романе известного американского писателя Филиппа Рота под названием «Жалоба Портного». Герой этой книги Алексапдр Портной все свои усилия посвящает тому, что критики скромно именуют «сексуальными излишествами», причем автор описывает эти «излишества» таким откровенным языком заборной литературы, что, казалось бы, и упоминать‑то об этой книге было бы непристойно. Но вот поди ж ты, «Жалобу Портного» славят на все лады и пресса, и радио, и телевидение. Роман переводится и издается во всех странах западного мира.
– Портной уже принес своему создателю миллион долларов! – кричат газеты. – Это самый великолепный успех в издательском деле за долгие годы!.. Крупнейшее культурное событие за десятилетия!.. Портной – это все равно что концентрат наркотика ЛСД!.. Это литературная водородная бомба!.. Герой романа – возвышенный, прекрасный грешник!..
Сидевшие за столом гости оживленно обменивались впечатлениями от романа, обнаруживая при этом недюжинное знание «сексуальных отклонений», которыми грешил Александр Портной. Хозяин встал, вышел в библиотеку и вернулся с толстым томом нового романа. Он брал на выдержку, так сказать, избранные места, и светские дамы мило посмеивались, слушая поистине немыслимые пассажи этого чудовищного романа.
Между прочим, автор этого сочинения Филипп Рот – не какой – пибудь случайный человек в литературе, который решил пробиться в писатели с помощью скандальной сенсации. Нет, этот, бесспорно одаренный, тридцатипятилетний писатель еще восемь лет тому назад получил Национальную премию за свой серьезный роман «Прощай, Колумб». Он учился в Чикагском университете, был профессором английской литературы и литературного творчества в Принстоне и в университете штата Айова. Вращался в высокоинтеллектуальной среде, проявлял склонность к традиционным литературным ценностям. Был очень требователен к себе: дважды переписал свой роман «Когда она была хорошей».
Этот роман имел успех, но небольшой. Начались житейские трудности: болезнь, операция, смерть жены. И вот… порнографический роман, а с ним блистательный Успех, триумф в высшем свете, богатство. Шутка ли сказать, уже продано свыше трехсот пятидесяти тысяч экземпляров романа, по шесть долларов девяносто пять Центов каждый. Это – рекорд для США!
Еще пример. В самом сердце Нью – Йорка, на Пятьдесят седьмой улице, в двух шагах от знаменитого концертного зала Карнеги – холл, с десяти часов утра выстраи вается длинная очередь. Но не подумайте, что эти хорошо одетые, пышущие здоровьем господа идут на утренний музыкальный концерт. Нет, они стоят в очереди у кассы расположенного здесь фешенебельного кинотеатра «57 Рандеву», чтобы приобрести билеты на сенсационный шведский фильм «Я любопытна», в котором, как деликатно выразился кинокритик журнала «Ныосуик», «голый мужчина и голая женщина проделывают то, что еще недавно считалось не подлежащим публичному показу».
Интерес к этому фильму подогрет скандалом: пунктуальные таможенники, ссылаясь на правила, запрещающие ввоз порнографии, отказывались его пропустить. Но суд во имя свободы искусства отменил их решение, и вот любой свободный американец может свободно поглядеть все это, заплатив в кассу три доллара. В зале – ни одного свободного места. С раннего утра до поздней ночи. Побиты все рекорды доходов.
В Вашингтоне этот фильм идет сразу в двух кинотеатрах. Их хозяин Гарольд Слэйт сообщил журналистам: «Беспрецедентный успех! Публика жалуется лишь на то, что трудно достать билеты». В Техасе президент местной компании кинопроката, владеющий семнадцатью залами, Чарльз Мартинец заявил, что он рассчитывает заработать на этом фильме около двух миллионов.
Но фильм «Я любопытна» отнюдь не исключение.
О нем пресса пошумела лишь потому, что на зуб ей попал спор таможенников с судом. А сами американцы такие фильмы, и даже похлеще, снимают и выпускают в прокат десятками. И просто уму непостижимо, как люди соглашаются сниматься в таких сценах, которые просто невозможно описывать – руки не поднимаются. Но всесильный доллар заставляет их идти на все. Тот же «Ныосуик» привел имена видных сценаристов, режиссеров, актеров и актрис, без зазрения совести посвятивших себя этому делу. «Дозволенность»! Это словечко покрывает все…
В витринах магазинов – учебники (учебники!) половых извращений. На конвертах патефонных пластинок – фотографии исполнителей в голом виде, – они снимаются так, чтобы пластинки лучше расходились. Эту моду ввел один из знаменитых битлзов, снявшийся голышом вдвоем со своей беременной женой, – его пластинки в этаком
Конверте разошлись в миллионных экземплярах. Танцоры на эстраде выступают тоже голышом.
Но вернемся к театру. Тут «дозволенность», как правильно отметила Франсуаза Партюрье, приобрела по-истине широчайшие размеры. При этом новой моде постановщики пытаются дать ей самое глубокомысленное, философское обоснование.
Я не исключаю, что некоторые постановщики, например известный режиссер Юлиан Бек, бессменный руководитель знаменитого «Ливинг – тиэтер», основанного в 1951 году, в период корейской войны, и активно участвующего в антивоенной борьбе, искренне верят, будто «дозволенность» закономерна, поскольку она отражает пренебрежение молодежи к пришедшей в упадок буржуазной морали и устарелым запретам. Но вот вопрос: что полезного вносит «дозволенность» в их борьбу с буржуазной моралью?
Я уже давно слежу за деятельностью Юлиана Бека. Хорошо помню творческий успех его смелого театра – постановку пьесы Кеннета Брауна «Бриг», в которой реалистичными методами с необычайной силой были показаны нравы внутренней тюрьмы американской морской пехоты – эту тюрьму моряки и прозвали на своем жаргоне «бригом». Потом эта пьеса была воспроизведена на экране мастером американского «подпольного кино» Мекасом.
Театр преследовали. Ему пришлось покинуть США и скитаться по Европе. Но вот и этот коллектив поддался новомодным веяниям. Летом 1968 года в городе Авиньоне, на юге Франции, разыгрался скандал – участники труппы заявили, что они хотят вынести свое представление на улицы города, смешавшись с городской толпой, а местные власти заявили, что в голом виде ходить по улицам нельзя. Может быть, это были придирки, но театр Бека покинул фестиваль.
Зимой 1968/69 года «Ливинг – тиэтер» приехал на гастроли в США. Поскольку в Европе он приобрел широкую известность своими новаторскими идеями, Америка оказала на сей раз своему «блудному сыну» более теплый прием – было организовано его четырехмссячпое турпо по всей стране, после чего, однако, «Ливинг – тиэтер» снова покинул США и вернулся в Париж.
К сожалению, мне не удалось посмотреть выступлении этой труппы – маршрут ее турне пролегал в стороне от тех городов, где я побывал. Но я видел по телевидению выступление Бека, сопровождавшееся показом отрывков из его нашумевшего и во многом спорного представления под названием «Мистерии и маленькие пьесы» – эта передача была организована нью – йоркским департаментом просвещения.
«Ливинг – тиэтер», судя по этой телевизионной передаче, ушел далеко в сторону от тех реалистических принципов, которые лежали в основе его программной постановки «Брига». Теперь все затмило увлечение символизмом и философией йогов. Французский еженедельник «Нувель обсерватер» еще 20 сентября 1967 года писал по этому поводу:
«Эта труппа похожа на религиозную секту. Юлиан Бек и его актеры – аскеты философии ненасилия, они не играют в театре – они проповедуют. Проповедуют не словами – если не считать пения псалмов и выкриков, – а жестами. Они репетируют по двенадцать часов в день, поэтому у них отработана удивительная четкость и слаженность движений. Долгие сеансы неподвижности в стиле йогов, мимодрамы, потрясающая имитация агонии и смерти поразительны. Однако такой спектакль, как «Бриг», нам говорил гораздо больше об ужасах войны, чем нынешние процессии актеров с индийскими ароматичными свечами…»