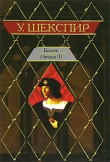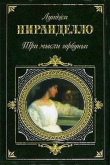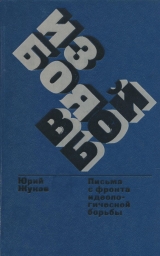
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
Ну вот, а священник Аль Кармине предпочел заняться театром. Надо вам сказать, что этот молодой человек – ему всего лишь тридцать два года – одаренный музыкант и композитор. Я видел и слышал написанную и поставленную им оперетту «Мир» – своего рода пародию на одноименную классическую пьесу Аристофана – и могу засвидетельствовать, что он глубоко профессионально владеет искусством. Правда, многие мотивы Аль Кармине без стеснений заимствует из популярных музыкальных пьес и песен и вводит их в свои спектакли, перерабатывая и приспосабливая. Но многое он сочиняет сам. Его музыка мелодична и увлекательна, она буквально брызжет весельем и оптимизмом, и в ней нет ни грана религиозности.
23 февраля 1969 года театральный критик газеты «Нью – Йорк тайме» Том Бурке посвятил Аль Кармине статью, которая заняла почти целую страницу газеты. «Возможно, он самый необычный церковный деятель после Распутина, – писал этот критик. – В ном есть что-то загадочное. Он – это свящепннк методистской церкви Альвин Карминес, теолог, учитель, проповедник. Й он же – Аль Кармине – постановщик ревю, композитор, певец, актер…»
Том Бурке, конечно, хватил через край – у Аль Кармине нет ничего похожего па Распутина. Не будь он настоятелем своей церкви Джадсоп – мемориал, что на площади Вашингтоп – сквер, этот веселый парень просто сделал бы себе карьеру па Бродвее. Но именно такие люди нужны сейчас церкви, озабоченпой тем, как сохранить влияние на публику, и вот он надевает сутану…
Оперетта «Мир», о которой я расскажу подробнее ниже, как и все шоу этого священника, родилась здесь же, в церкви. Днем Аль Кармине занят церковными делами, а по ночам он в своей холостяцкой квартирке сочиняет до пяти часов утра музыку.
Аль Кармине действует лихо, озорничает: вместо того, чтобы писать свои песни на слова поэтов и драматургов, он выбирает из литературных произведений приглянувшиеся ему строчки и варьирует их, переставляя слова или повторяя их.
– Для своей арии «Мир», – говорит он, – я взял у Аристофана строчку со страницы тридцатой, потом строчку со страницы сорок третьей и строчку со страницы сто двадцатой, а потом в уме играл с ними, пока получилась песня. У меня хорошая память, и я почти ничего не записываю, пока песенка не будет готова… Мне нравится все – от Бетховена до Пурселя, от Шенберга до Джона Кэджа, от Ричарда Роджерса до сочинителей евангельских песнопений, и я у каждого выбираю то, что мне приглянется…
Окончив теологическую семинарию, Альвип Карми-нес – он же Аль Кармине – сразу же пошел служить в церковь Джадсон – мемориал и начал заниматься нововведениями. Первые артистические программы оп показывал в своем храме в 1961 году. Они имели успех, публика валом повалила к этому веселому священнику.
Воскресная заутреня в Джадсон – меморнал включает «авангардный» балет и концерт джаза либо кантаты, сочиненные Аль Кармине на мотивы популярных песенок вроде «О, какое чудесное утро», «Если я люблю вас» или «Оранжевое небо».
– Прихожане любят балет, – рассказывает Аль Кармине. – Мы первыми показали в церкви прекрасную танцевальную программу с участием голых танцовщиц. Это было еще до того, как нагота вошла в моду на Бродвее. Но никто из верующих пе был шокирован. Сейчас мы действуем так: я сочиняю музыкальные пьесы и показываю их в церкви, наблюдая за тем, как принимает их публика. Если представление проходит успешно, я договариваюсь с импресарио и выношу спектакль на театральную сцену. Иные из этих пьес спорные, ультрасовременные. Некоторые люди спрашивают: «Как вы можете показывать такие штуки в церкви?» Я на это отвечаю: «Я решительно против всякой цензуры в искусстве, и я никогда не скажу драматургу или хореографу: мы хотим показать вашу пьесу или ваш танец, но вы должны выбросить вот это и вот это место потому, что вы – в церкви. Это означало бы нарушение свободы художника…»
И вот мы с вами, читатель, в театре «Астор – плаза». Аль Кармине представляет свою музыкальную комедию «Мир»; в программке скромно добавлено: «По мотивам Аристофана». Текст Тима Рейнгольда, музыка Аль Кармине, режиссер Лоуренс Корнфельд. Сам Аль Кармине восседает у рояля, который стоит в зрительном зале – он придвинут вплотную к стене. Это пышущий здоровьем молодой человек с открытым, симпатичным, немного плутоватым лицом. Рядом с ним у ксилофона и четырех барабанов ударник – виртуоз. Вдвоем они заменяют оркестр. Сам Аль Кармине не только без устали играет весь вечер – кстати сказать, он великолепный пианист, – но и поет баритоном свою коронную арию «Мир». О том, что он священник, напоминает лишь круглый накрахмаленный воротничок, выглядывающий из‑под модного пиджака.
Как это сейчас принято в американском театре, Аль Кармине весьма вольно расправился с наследием Аристофана – уцелела лишь часть сюжетной линии пьесы, большая группа ее героев отставлена за ненадобностью. Действие перенесено из Древней Греции па юг США, да и этот юг изображеп весьма условно, я бы сказал, символически: в оперетте фигурируют добрый рабовладелец и довольные своей судьбой черные рабы.
Но тема о стремлении людей к миру, конечпо, осталась – при современных умонастроениях американцев никто не пошел бы в театр, если бы в пьесе под названием «Мир» она отсутствовала. Больше того, оперетта вдоволь нашпигована острыми сатирическими выпадами против военщины, Пентагопа, атомной бомбы и так далее. В целом же получилось довольно любопытное, веселое, а местами острое представление, идущее в быстром темпе и создающее у зрителей хорошее настроение. Каждый вечер умножает популярность этого, что называется «своего в доску», священника, который вместе со зрителями веселится, сидя за роялем.
Итак, акт первый: «Земля, потом небо». Вначале идет веселый диалог раба и рабыни, которые болтают о всякой всячине. Кто‑то за кулисами рычит и просит еды. Оказывается, это гигантская божья коровка, которую приручил хозяин – она заменяет ему самолет. Появляется сам рабовладелец, добрый человек, которому надоели войны, бушующие на земле.
– Я полечу на небо, чтобы потолковать с богами, – заявляет он. – Пусть они запретят эти войны!
Девочка, дочь хозяина, весьма скептически воспринимает эту затею:
– Ты всегда был ненормальный, папочка. Ну как ты полетишь к богам на этом вонючем клопе?
Но белый господин непреклонен. Он седлает божью коровку и отправляется на свидание с богами, которые мирволят организаторам войн. На небе его встречает Гермес, игривый, манерный слуга и вестник богов с повадками гомосексуалиста, пройдоха и взяточник.
– Здесь ужасно пахнет, – говорит с гримасой Гермес. – Кто вы такой?
– Афинянин, – смиренно отвечает смертный господин, хотя мы только что видели его на юге США. – Ищу богов…
– Нашел кого здесь искать! – удивляется небожитель Гермес. – Богов давно здесь нет, они переехали на другой край неба: им надоело смотреть, как вы там без конца воюете, как на вас падают атомные осадки, как вы истребляете друг друга. Они оставили здесь только бога войны.
– А где богиня мира?
– Ее нет дома…
Смертный господин и Гермес куда‑то уходят, а на сцене появляется бог войны – в смокинге и с белой розой в петлице. С ним генерал Беспорядок. Они вносят на сцену гигантский унитаз – орудие войны. Льют туда из сосудов разные жидкости, потом спускают воду, и каждый раз гремит грохот взрывов – содержимое каждого сосуда уничтожает либо город, либо остров, либо целый континент.
– Это Афины, – приговаривает бог войны.
– Это Сицилия…
– Это Париж…
Очередь доходит до флакона, окрашенного в цвета американского флага. Тут машина войны почему‑то не срабатывает. Разъяренный бог шлет своего генерала за про-чищалкой, но тот возвращается ни с чем: в магазине про-чищалок нет. Бог заставляет генерала чистить унитаз голыми руками, но он все равно не срабатывает. Бог войны срывает с генерала эполеты и швыряет их в унитаз. Тот горько плачет.
Появляются еще шесть смертных, забравшихся на небеса в поисках добрых богов. Они поют: «Мы хотим видеть мир снова», «Где мир? Где мир?..» Входят Гермес и «афинянин». Гермес объясняет непрошеному гостю, что он должен сейчас же умереть, поскольку людям находиться на небесах недозволено и нарушать порядок нельзя.
– Это действительно необходимо?
– Закон есть закон!
Но хитрому «афинянину» удается обойти закон: он подкупает Гермеса, сунув ему бутыль доброго вина. Больше того, Гермес за взятку выдает ему страшный секрет: богиня мира замурована в скале – ее упрятал туда бог войны. Смертные начинают неумело тормошить эту скалу. Она не поддается. «Афинянин» кричит:
– Так не получится! Пока что мы слышим одни разговоры о борьбе за мир, и нет никаких серьезных действий. Пока так будет продолжаться, мира нам не видать!..
В зале вспыхивают аплодисмепты – острая политическая реплика, хотя и сформулированная плакатно, в чисто газетном стиле, упала на благодатную почву; как это часто бывает теперь в американском театре, политический лозунг воспринимается аудиторией с большей эмоцией, чем что‑либо другое. У всех на уме Вьетнам!
Смертные берутся за дело дружнее и наконец освобождают из плена богиню мира. Она пробуждается от летаргического сна. С нею были замурованы в скале богиня процветания и богиня изобилия. Богиня мира на радостях лихо пляшет чечетку. Потрясенный «афинянин», не веря своим глазам, лепечет:
– Богиня мира… Это вы?..
Благодарная богиня мира тут же отдает ему в жены богиню процветания.
– Может быть, вы отдадите мне богиню изобилия?
– Нет, хватит с тебя и богини процветания. «Афинянин» огорчен: какое же это процветание без изобилия?
– Ну ладно, – ворчит он. – Мы как‑нибудь поладим…
Богини и смертные глядят с неба на землю: что же там происходит? Под взором богини мира все меняется: войны кончились, сады расцвели, с неба не падает ничего, кроме дождя…
И вот уже на авансцену выходит актер, игравший роль Гермеса. Он разгримировывается, надевает халат и говорит, обращаясь к зрителям: «Посмотрим теперь, что по этому поводу хотел сказать Аристофан». Достает из кармана томик Аристофана и… начинает читать по – древнегречески его пьесу «Мир». Потом вдруг отрывается от текста и говорит по – английски:
– Он тут упоминает всяких политических деятелей своей эпохи. Их в нашей постановке нет – они нам ни к чему…
На этом, собственно говоря, все, казалось бы, логически кончается. Но прошел всего один час и просто как‑то неудобно сказать публике, что она за свои доллары уже получила достаточно удовольствия и теперь может расходиться по домам. С другой стороны, Аль Кармине помнит, что он как‑никак священник и ему полагается читать мораль прихоя<анам, то бишь зрителям, посещающим театр «Астор – плаза».
Поэтому объявляется перерыв. Аль Кармине покидает свой рояль, устало поднявшись со стула, и выходит вместе со зрителями на улицу подышать свежим воздухом – фойе в этом театре, как и в большинстве американских театральных зданий, нет.
Когда мы возвращаемся в зал, на сцене уже сидят рядышком на длинной скамье все герои пьесы: и боги, и простые смертные. Усевшись у рояля, Аль Кармине ударяет по клавишам и зычным голосом запевает: «Мир, мир, мир!» Песню подхватывают шесть негров и четыре негритянки – рабы и рабыни, их хозяева, богини мира, процветания и изобилия, Гермес. Но второй акт значительно слабее первого – Тим Рейнгольд и Аль Кармине под конец явно выдохлись.
Зал охватывает ощущением вялости: никакого действия па сцене не происходит. Тщетно актрисы разыгрывают импровизированную сценку ссоры между чопорной богиней процветания и лихой богиней изобилия из‑за «афинянина»; богиня изобилия остается в петях и начинает заигрывать с негром – слугой «афинянина». Тот просит хозяина разрешить ему иметь с ией дело, но получает строгий ответ:
– Нет, хотя у нас процветание, но изобилия на всех не хватит…
Зрители слабо реагируют на эту остроту; тягучий второй акт их разочаровал, тем более что в конце Аль Кармине спешит подчинить пьесу канонам елейной морали благополучия: учиняется жертвоприношение в знак благодарности богам, ниспославшим на землю мир, все молятся, поют кантаты. «Афинянин» объявляет, что он женится на богине процветания, и приглашает всех на свадьбу. Аль Кармине запевает:
– От моря и до моря мир и братство навсегда…
Так, соединяя развлечение с нравоучением, этот ловкий и, бесспорно, одаренный молодой попик делает свое дело. По Гринвич – вилледж о нем идет слава как о парне, с помощью которого запросто можно сговориться с богом о прощении грехов. С ним, как говорится, не соскучишься…
Психодрама «Волосы»
Вот пьеса поразительной судьбы: написанная двумя молодыми драматургами Джеймсом Радо и Джеромом Раг-ни для крохотного кафе – театра в Гринвич – вилледж, она вдруг вырвалась в центр Бродвея и вызвала сенсацию в Соединенных Штатах, а затем и во всем западном мире. Ее играют сейчас и на восточном и на западном побережье США, в Стокгольме, Лондоне, Мюнхене, Копенгагене, Париже, и повсюду она вызывает азартные споры. Называется она странно: «Волосы. Музыкальная пьеса об американской племенной любви». Критики определяют новый жанр, созданный Радо и Рагни, как «психодраму» или как «поп – оперу добрых дикарей общества изобилия».
Сами авторы скупы на комментарии – опи предпочитают, чтобы зритель сам догадался, что именно они хотели ему сказать. В программке, которую мне сунул в руки длинноволосый билетер в театре Лос – Анджелеса «Аквариум», где я видел эту пьесу, были опубликованы лишь их декларативные заявления:
«Я верую в единого Бога, Всемогущего отца, Создателя Небес и Земли и всех вещей, видимых и невидимых, – писал Джером Рагни. – Ия верую в единого
Господа Иисуса Христа, сына Божия, рожденного от Отца ранее всех веков. Бог Богов, Светоч Светочей, подлинный Бог от подлинного Бога, он ради нас, людей, и ради нашего спасения спустился с Небес. И он был обращен в плоть Святым Духом и Девой Марией и Стал Человеком».
«Он был распят за нас, – продолжал Джеймс Радо, – страдал при Понтии Пилате и был погребен. И на третий день, согласно священному писанию, он встал из гроба. Он поднялся на небеса и воссел одесную Отца. Он придет вновь во славе, чтобы судить живых и мертвых, и царствию его не будет конца. И я верую в Святого Духа, Господа, дарующего жизнь, которая исходит от Отца и Сына. Ему поклоняются и его славят вместе с Отцом и Сыном, и он говорит устами пророков… Я исповедую святое крещение, дабы получить прощение грехов, и я жду воскрешения мертвых и живых (!) в грядущем мире. Аминь».
На первый взгляд эти декларации, звучащие столь неожиданно и даже кощунственно на фоне озорных, во многом даже непристойных сцен, которые принесли «Волосам» скандальную славу в мировом масштабе, выглядят как экстравагантная шутка, которой авторы пьесы хотели эпатировать зрителя. Но чем больше я думаю над спектаклем, увиденным в Лос – Анджелесе, тем больше утверждаюсь в мнении, что Рагни и Радо задались целью дать какое‑то философское обоснование процессам, происходящим в сознании героев своей пьесы, представителей той части американской молодежи, которая стихийно бунтует против мертвящего образа жизни в пресловутом «обществе потребления», отрекаясь от благ цивилизации, ибо в цивилизации она видит своего врага.
Рагни и Радо вряд ли так уж религиозны, как это можно предположить, прочитав их заявления. Но им, по-видимому, хотелось почерпнуть в христианской мифологии какие‑то обоснования все еще непонятного многим поведения тех молодых американцев, которые бросают учебу, отказываются работать, уходят из дому и живут «племенами», ютясь в подвалах и заброшенных развалинах, находя утешение в наркотиках и беспорядочных половых связях. (Вспомните, кстати, что авторы сочли нужным в названии своего произведения подчеркнуть, что это «пьеса о племенной любви».)
II главный герой этой пьесы, «дикарь XX века» Клод, бунтующий против норм поведения в «обществе потребления» и войны во Вьетнаме, всем поведением своим пытающийся доказать, что единственное спасение человека – возвращение к первобытному строю, и погибающий все же во Вьетнаме – не олицетворяет ли он «пророка, устами которого глаголет святой дух»?
Обо всем этом можно только догадываться – настолько смутен и сложен творческий язык авторов этой странной пьесы. Но вот что говорит продюсер «Волос» – импресарио Бертран Кастелли, который осенью 1967 года, увидев «Волосы» в кафе – театре в Гринвич – вилледж, оценил опытным глазом возможности ее успеха на мировой сцене и вытащил ее с помощью чикагского миллионера Майкла Баттлера на Бродвей, где она была впервые показана в апреле 1968 года:
– «Волосы» – это история поколения. Сегодняшнего поколения. Того поколения, которое говорит: дайте мне возможность жить так, как мне хочется, ведь через пять лет я войду в систему, как и все, и остригу свои волосы. Это внуки Сартра, одетые по моде Пикассо и живущие в мире, от которого не отказался бы Шан Женэ. Это также поиск абсолюта, чистоты, земного рая. Они хотят стать такими, какими были Адам и Ева до первородного греха. Отсюда сцены, в которых они выступают совершенно нагими…
Пьесу в Нью – Йорке и Лос – Анджелесе поставил известный режиссер О’Хорган из Чикаго, дебютировавший в 1964 году все в той же Гринвич – вилледж в кафе – театре «Мамма» постановкой пьесы Жана Женэ «Бонны», в которой роли бонн в соответствии с замыслом автора играли мужчины. Слава к нему пришла быстро. С тех пор он поставил тридцать пьес, организовал три театральных турпе своей труппы в Европу, участвовал с нею в фестивале экспериментального театра в университете штата Массачузетс. Он был премирован за постановку «крестьянской драмы» под названием «Футц» (автор Рашель Оуэн) – в этой пьесе речь шла о слабоумном, которого преследуют односельчане за то, что он живет со свиньей.
О’Хоргану нельзя отказать в творческой изобретательности, динамизме, умении создать драматическое напряжение. Оп работает с молодыми актерами, которые в сущ-
яости играют самих себя и поэтому ведут себя на сцене совершенно непринужденно. Они веселы и неутомимы. Им нравится бунтовать и пугать публику своими выходками.
Именно эти экстравагантные выходки, а не тот дух молодого протеста, которым проникнуты многие сцены спектакля, создают вокруг «Волос» атмосферу сенсации и влекут к этому спектаклю толпы завсегдатаев театра. Характерно, что в зрительные залы, где показывают «Волосы», устремляются прежде всего те, против кого, казалось бы, она направлена, – пьеса стала модной в высшем свете.
Когда мы с корреспондентом «Правды» Борисом Ореховым вошли в лос – анджелесский театр «Аквариум», у нас буквально глаза разбежались – фойе было наполнено невероятно пестро одетой публикой. Можно было подумать, что здесь собрались перед представлением уже готовые к выходу на сцену актеры «психодрамы», которую нам предстояло посмотреть, – настолько экстравагантно выглядели эти люди.
Но нет, тут были вполне респектабельные буржуа и их жены, предприниматели, деятели Голливуда. Но что поделаешь, мода требовала, чтобы публика выглядела так же, как герои «Волос». Волосатые, бородатые дяденьки в рубищах из бархата и индийских пончо, нечесаные тетеньки либо в невероятно коротеньких юбчонках, либо в платьях до пят с длинными шлейфами, либо в брюках с клешами шире, чем в полметра, юноши и девицы, одетые совершенно одинаково с одинаково длинными волосами, – ну и ну! У одного бородача через плечо был подвешен зачем‑то бычий длинный рог, второй с гордостью носил дамскую кружевную кофточку. А разговоры в толпе были самые обычные: о бизнесе, о текущих политических событиях, о разных разностях бытового характера.
Однако близилось начало представления, и мы поспешили в зал. На сцене, утопавшей в полумраке, виднелись какие‑то деревянные конструкции; на веревках было развешано рваное белье, простыни, одеяла. Справа, перпендикулярно к зрительному залу, стоял длинный стол, за ним уселись музыканты. В оркестре преобладали ударные инструменты; как мы вскоре убедились, на долю оркестра в спектакле была отведена немалая роль; он гремел весь вечер, причем подчас его грохот усиливался до такой степени, что начинали болеть барабанные перепонки в ушах.
Но вот на сцену вышли три женщины в лохмотьях, сели посредине. В зале раздались птичьи посвисты – артисты сидели там и сям среди публики. Грянула музыка. Участники спектакля начали собираться па сцене: одни вползали, другие входили, третьи вбегали. Рев оркестра напоминал сигнал воздушной тревоги. Артисты – белые, черные, индейцы – начали карабкаться куда‑то вверх по деревянным конструкциям. Все запели: «Любовь, любовь».
На авансцену вышел молодой волосатый парень. Он внимательно вгляделся в зал, потом деловито снял с себя штаны, швырнул их в физиономию какой‑то даме в переднем ряду, прыгнул в зал и побежал босиком по спинкам кресел, демонстрируя недюжинную ловкость. Попросил у какой‑то девушки десять центов, она сунула ему программу спектакля, он поблагодарил и побежал дальше. Ухватился за веревку, свешивающуюся с потолка, начал раскачиваться над оробевшими от неожиданности зрителями. Потом спрыгнул на подмостки и присоединился к своим друзьям.
Тем временем события на сцене развертывались в быстром темпе. Парни и девушки, изобразив довольно натурально сцены «племенной любви», – они пели при этом, взвинчивая себя до состояния коллективной истерики, – схватили кого‑то, вымазали грязью и обваляли в перьях.
Это – Клод, главный герой пьесы, представитель той части американского молодого поколения, о котором продюсер Кастелли сказал, что оно требует одного: чтобы его оставили в покое и дали ему возможность жить так, как ему хочется, пока оно «войдет в систему, как и все», и острижет свои волосы.
Клод вопит: «Я человеческое существо, я человеческое существо. Мой номер регистрации в социальном страховании такой‑то…»
Но вот уже Клод и другие «человеческие существа» начинают изображать бунт. Они выносят плакат с лозунгом «Украсить Америку» и дико, издевательски визжат вокруг него. В зале вспыхивают аплодисменты – ирония дошла; зрителям известно, что этот лозунг, выдвинутый женой Линдона Джонсона, когда он был президентом, остался пустым звуком. И сразу же сцену захлестывает демонстрация – точная копия тех, какие мы видели много раз на улицах Нью – Йорка и Вашингтона.
Лозунги и плакаты – протестующие, парадоксальные, острые, а подчас и просто хулиганские или просто непонятные: «Мы не хотим, чтобы нас убивали», «Помоги мне излечиться от девственности», «Убежище от радиоактивных осадков», «Помочимся на военную опасность», «Получи свой паспорт сегодня».
Вдруг новая сцена, на первый взгляд полная напряжения и драматизма: сцена завалена недвижными телами, среди них бродит девушка с противогазом. Она жалобно поет, словно отпевает своих мертвых ровесников. Что это? Война? Нет, перед нами не мертвецы, а молодежь, накурившаяся наркотиков. И песня такая: «ЛБДЖ – ЛСД» [58]58
ЛБДЖ – инициалы бывшего президента Джонсона, ЛСД – наркотик, весьма распространенный среди американской молодежи.
[Закрыть].
Вдруг выходит на сцену уборщица с пылесосом и деловито, старательно убирает сцену.
Опять сцены протеста, бунта, политических демонстраций. Появляются студенты в мантиях и квадратных головных уборах. Они сжигают свои военные билеты, протестуют против войны во Вьетнаме, снова и снова издеваются над лозунгом «Украсить Америку». Среди демонстрантов и Клод. Он сжигает свои шоферские права, библиотечный пропуск и другие документы, но сжечь военный билет не решается.
Из зала па сцену поднимаются пожилая женщина и молодой человек – это мать и сын.
– Почему? – спрашивает женщина участников «племени», – почему вы такие?
– Это очень просто, – отвечают опи.
– Вы хиппи?
– Нет.
– Кто вы?
Ответа нет.
Что это, начало большого разговора об отсутствии взаимопонимания между старшим и младшим поколениями американцев? Кажется, вот – вот такой разговор начнется. Но авторы пьесы и постановщик спектакля опять переводят действие в план фарса: женщина сбрасывает платье, и оказывается, что это вовсе не женщина, а мужчина. И опять начинается пляска «племени».
Теперь молодые американские дикари курят гашиш. Потом они играют с американским флагом, обращаясь с ним весьма непочтительно. Всем своим поведением, всеми своими жестами, чаще всего непристойными, они выказывают пренебрежение к своей стране. Сцепы меняются в быстром темпе. Участники «племени», все больше уподобляясь обезьянам, снова и снова демонстрируют незаурядную ловкость и выносливость.
Когда напряжение достигает предела, когда зрители уже оглушены грохотом оркестра, топотом и криками актеров и ослеплены мельканием света на сцене, один из авторов пьесы, Джеймс Радо, играющий роль главного героя, вдруг подходит к рампе и обращается к публике:
– Я спрашиваю себя: почему мы живем и почему умираем?
В зале воцаряется настороженная тишина. Радо продолжает:
– Куда я иду?
Ответа нет. И тогда пять парней и три девушки, присоединившись к Радо, быстро раздеваются догола и молча выстраиваются лицом к публике, выставляя напоказ все детали своей анатомии.
В зал быстрой походкой входит полицейский. Он отчаянно свистит в свисток и громко командует, обращаясь к публике:
– С мест не вставать! Вы все арестованы. Наверное, вы все здесь коммунисты…
В зале пробегает легкий ветерок испуга. Но оснований для испуга нет. Человек в форме полицейского всего лишь актер, которому поручено объя’вить перерыв. Публика успокаивается. Голые актеры уходят одеваться, зрители покидают зал, чтобы покурить и обменяться первыми впечатлениями:
– Экстраординарно!
– Блестяще! Сколько выдумки и смелости!
– Ну знаете, я все же не решилась бы вот так – выйти на сцену и раздеться догола перед всеми.
– Почему же, милочка? Вы отстаете от жизни. Вчера я была на показе мод – нагота теперь дозволена. Руди Гернрейх показывал чудеснейшие платья из совершенно прозрачного найлона…
– Да – да, я слыхала. А Сант – Анджело [59]59
Руди Гернрейх и Джиорджио ди Сант – Анджело – знаменитые в США владельцы ателье мод, обслуживающих великосветскую публику.
[Закрыть] сказал на днях: «Нагота – это свобода». «Это так возбуждающе»…
II меньше всего говорят о сценах, несущих политическую нагрузку.
Второй акт представления идет в еще более учащенном ритме – на сцене какая‑то истерия света и звука. Рябит в глазах, уши болят от грохота оркестра, крики и пение артистов сливаются в свирепый рев. Это называется «Электрический блюз». Под этот сумасшедший аккомпанемент буйно пляшет голый танцор.
Одна за другой быстро сменяются сцены, содержание и смысл которых часто трудно попять. Вот появляются какие‑то черные парни. Выходит горилла. Какой‑то идиот несет плакат: «Я лояльный американец». Горилла его душит. Вот выскочили откуда‑то три девицы, одетые в одно, общее для всех трех, платье, и начали лихо плясать. За ними – три танцора в одном костюме. И вдруг – прогулка в космос, причем среди астронавтов – беременная женщина.
Потом – каскад сценок, в которых беспощадному осмеянию подвергается история США. Высмеиваются и оглупляются все подряд – Вашингтон, Линкольн и его убийца Бутс, генерал Грант. Под дикий рык генерала маршируют персонажи из популярного фильма «Унесенные ветром», рассказывающего о гражданской войне между Севером и Югом. Два негра кричат: «Мы вас ненавидим».
Вдруг на сцену выпускают самых настоящих живых кур. Петух, истосковавшийся по общению с ними, яростно топчет их одну за другой. (В зале гремят бурные аплодисменты.) Потом какая‑то женщина долго и тщательно вытирает своими длинными волосами босые ноги президента Вашингтона. Буддийские монахи поют: «Ave Maria». Снова появляется беременная астронавтка. К ней присоединяются индейцы в головных уборах из орлиных перьев и вьетнамцы.
А дальше – сцены, несущие на себе серьезную смысловую нагрузку и имеющие острое политическое значение, – это наиболее сильная и осмысленная часть спектакля.
Главный герой пьесы Клод исчез из «племени» еще во время коллективного курения наркотика. Встревоженное «племя» долго и тщетно его искало. И вдруг он сам появляется на сцене – острижепный и в военной форме. «Это – как если бы я умер», – объявляет он. И его вчерашние братья ведут себя так, словно оп действительно умер: они его не видят и продолжают свой поиск.
На сцене гром и треск – пальба из автоматов: напоминание о войне. Семья провожает сына в армию. Из‑под пола струями бьет пар: война – это ад! Начинается бешеный по ритму танец. Со всех сторон – вспышки и треск. Рев механической музыки. Звучит непристойная брань. Все громче крики:
– К черту! Мы не пойдем…
– Призыв в армию – это когда белые люди посылают черных воевать против желтых во имя обороны земли, которую белые украли у краснокожих!
Идет снег. Парни и девушки, закутанные в одеяла, обнимаются. Клод, не рискнувший сжечь свой воинский билет и надевший военную форму, для них уже не существует. Сейчас он уедет во Вьетнам и там погибнет. Об этом театр повествует так: участники «племени» вдруг набрасываются на Клода и закрывают его лицо своими ладонями. Их все больше и больше. Клода уже не видно в этом, похожем на муравейник, скопище оборванцев. «Племя» поет: «Пусть светит солнце». Вдруг оно разбегается. Клод лежит навзничь, бездыханный.
Это все. Конец пьесы действительно напряженный и драматичный, хотя напластования символики и затемняют многое. Но что это? Оркестр гремит снова, теперь он исполняет лихой модный танцевальный мотив, и все участники спектакля начинают весело танцевать.
Артисты зовут к себе зрителей, те охотно присоединяются к ним, и добрых сорок минут на сцене и в проходах между креслами идет всеобщий буйный пляс. И если трагическая история Клода и тронула некоторые души в зрительном зале, если перенесенные на сцену демонстрации против войны во Вьетнаме заставили кое – кого задуматься о своей собственной позиции в отношении войны, то этот долгий пляс успешно рассеивает такие опасные мысли.
Некоторые критики считают, что пьеса «Волосы» – это все же бунтарское произведение, что она – акт творческого гражданского мужества, что само по себе появление подобной пьесы на Бродвее – событие немаловажного политического значения. Но когда сравниваешь «Волосы» с такими действительно острыми выступлениями политического театра, как «Красное, белое и Мэддокс», или «Великая Белая Надежда», или «Биг тайм бак уайт», о которых я рассказывал выше, в голову невольно приходит мысль, что революционность «Волос» лишь кажущаяся. И не случайно вся буржуазная пресса без колебаний публикует самую восторженную рекламу этого спектакля:
«Музыкальное открытие: «Волосы»! Бродвей уже никогда не станет таким, каким он был до этой постановки! Сейчас «Волосы» играют во всем мире. Немедленно шлите заказ на билеты в театр «Билтмор», где идет она, по почте!»
Французский журнал «Экспресс», говоря о невероятном успехе этой пьесы во всех странах Запада, подчеркивал 5 мая 1969 года: «Маленький спектакль, первоначально поставленный вне Бродвея, превратился в огромное коммерческое дело». Хотя «Волосы» идут в театре «Билтмор» второй год и места там стоят не дешевле двенадцати долларов, билеты на это представление достать невозможно – их берут с бою. Такая же картина и в Лос-Анджелесе, и в Лондоне, и в Париже, и в Мюнхене, и всюду, где деловитый импресарио Кастелли пристроил пьесу Радо и Рагни. «Хиппи эпатировали и очаровали (!) буржуазию», – саркастически заметил обозреватель журнала «Экспресс».